Текст книги "Провансальский триптих"
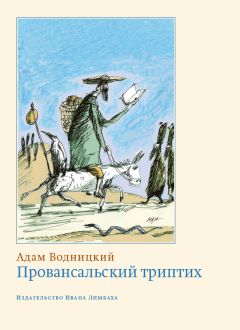
Автор книги: Адам Водницкий
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Gran Apostres, gran Felibres!
Fe-libres – люди свободной веры! Мистраль и его друзья посчитали это добрым знаком и подсказкой судьбы.
Филологические и лексикографические труды Общества, и прежде всего составление его основателем большого провансальско-французского словаря Lou Tresor dóu Félibrige [55] (1878–1886), высекли искру, которая, словно по бикфордову шнуру, молниеносно пронеслась по спящей стране, по каким-то тайным трещинам и расселинам, пробуждая уснувшее эхо и память о былом величии. И случилось чудо. Мертвый, казалось бы, язык ожил! Вернулся, поначалу осторожно и робко, в литературные дискуссии и на страницы литературных журналов, потом, все смелее, – в граффити на стенах домов, на подмостки уличных театров, в речь политиков, наконец, на базары и на площадки народных гуляний и празднеств.
Фредерик Мистраль часто приезжал в Арль. Неизменно элегантный, в длинном сюртуке с бархатным воротником, в повязанном бантом шелковом галстуке и замшевых перчатках, он сам управлял парой белых камаргских лошадей, сидя, расправив плечи, на облучке английской брички. Из Майяна Мистраль ехал через Фонвьей мимо мощных стен аббатства Монмажур; сворачивая возле городской заставы, въезжал в город под недавно построенным железнодорожным виадуком прямо возле Желтого дома. Если приезжал на подольше, лошадей и бричку ставил в конюшню у городских стен со стороны Роны, а если на несколько часов – оставлял под присмотром конюха около городского парка. Наверняка на улице ему не раз попадался небрежно одетый рыжеволосый чудак с мольбертом за спиной, который громко разговаривал сам с собой и, размахивая руками, отгонял бегущих следом и передразнивающих его ребятишек.
Частенько Мистраль заглядывал в дом 29 по улице Республики, где находился созданный им Museon Arlaten [56], а на исходе дня, в лиловом сумеречном свете, когда воздух насыщен пряным запахом чабреца и пением цикад, медленно прогуливался по бульвару Лис; присаживался в тени платанов за столик, застланный клетчатой скатеркой, на террасе кафе Malarte или, чаще, Café de Nuit на площади Форума, чтобы поглядеть на прохожих и выпить рюмку «Сюза». Вряд ли он мог предположить, что именно в этом месте, в нескольких шагах от гостиницы Grand Hôtel Nord-Pinus с вмурованными в ее фасад остатками римской арки, 28 мая 1909 года будет открыт (еще при жизни!) бронзовый памятник в честь его восьмидесятилетия. Встав из-за столика, он неторопливо продолжал прогулку, держа под мышкой тросточку красного дерева с серебряным набалдашником, и – отвечая на приветствия прохожих – то и дело приподнимал жемчужно-серый haut-de-forme [57].
На прогулке Мистралю могла нередко встречаться Жанна Кальман, которая в последние спокойные годы до Первой мировой войны наверняка была очень хороша собой; он смотрел на нее, задумчиво поглаживая ухоженную бородку а-ля Наполеон III. Вероятно, взор поэта притягивали благородный профиль, пышная грудь и ритмично покачивающиеся бедра.
Была ли эта девушка похожа на Мирей, которая в последней сцене его эпической поэмы ищет убежища у Трех Марий, прибывших морем со Святой земли? На каком языке та просила у них приюта и помощи? Может быть, на шуадите? Ведь сам Мистраль, подыскивая для нее имя, выбрал вариант распространенного в Провансе древнееврейского имени Мария.
Je suis persuadé que «Miréio», Mireille, est le nom même de Marie, dérivant de l’hébreu Myriam et provençalisé par les juifs de Provence, très anciens dans le pays.
Я убежден, – писал он, – что Мирейо, Мирей – это Мария, имя, происходящее от древнееврейского Мириам, введенного в окситанский язык евреями Прованса, жившими здесь с незапамятных времен.
Язык шуадит умер, но lenga d’òc жив. Язык ученых и трубадуров, Бернарта де Вентадорна и Раймбаута де Вакейраса, язык философов и художников возвращается в провансальское отечество, как вернулся кельтский язык в школы и учреждения Бретани, как вернулся древнееврейский язык на землю ветхозаветных пророков.
В прекрасном фильме Андрея Тарковского «Жертвоприношение» есть сцена, своей символикой отсылающая к библейской метафоре Ааронова жезла: сухое дерево, посаженное на берегу моря немым мальчиком, в последнем кадре зацветает (может быть, нам это кажется) в знак того, что жертва принята.
Семь веков несгибаемой веры и упорного желания выжить сотворили чудо. Язык ок возвращается туда, откуда его изгнали: на улицы, в школы, учреждения, в места публичных собраний и даже на церковные амвоны.
Совершенно новое значение приобретает сегодня текст Фредерика Мистраля Coupo Santo [58], написанный в 1867 году на музыку Никола Саболи (XVII век):
<…> D’uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu;
Sian bessai de la patrìo
Li cepoun emai li priéu.
Vuejo-nous lis esperanço
E li raive dóu jouvènt,
Dóu passat la remembranço,
E la fe dins l’an que vèn <…>
<…> D’une race qui regerme
Peut-être sommes-nous les premiers jets;
De la patrie, peut-être, nous sommes
Les piliers et les chefs.
Verse nous les espérances
Et les rêves de la jeunesse,
Le souvenir du passe
Et la foi dans l’an qui vient <…>
<…> Ростки воскресшего народа,
Чье процветанье впереди,
Мы стали во главе похода,
Отчизны, может быть, вожди.
Пусть в нас отважное мечтанье,
Надежда светлая живет,
И старины воспоминанье,
И вера в приходящий год [59] <…>.
Камень из Вальсента
«Земля говорит с нами каждой травинкой, каждой веточкой, каждым плодом; небо – бесконечной тишиной рассеявшихся слов», – говорил он.
«А камень?» – спрашивали его.
«Камень однажды заговорил с миром, прежде чем окончательно стать камнем», – отвечал он.
Эдмон Жабес. «Книга диалога»
Но когда он заговорил и что хотел сказать нам, смертным? Какая может быть связь между камнем и словом?
Он всегда завораживал поэтов и не только поэтов.
«Камень совершенен <…> всегда равен себе и во всем знает меру [60]», – писал Збигнев Херберт.
Испокон веку он был символом памяти, ностальгии, глубокой задумчивости:
«…Камень
который хочу на память поднять с тропинки,
смотрит в себя, замыкается, лежит молча.
Оставляю его земле и тишине, никому не принадлежащей» [61], – говорит Рышард Крыницкий, отдавая долг памяти другому поэту.
На все вопросы, задаваемые человеком, он отвечает каменным молчанием.
Стучусь в дверь камня.
«– Впусти меня, это я!» – восклицает Вислава Шимборская.
Какая же мрачная тайна кроется за его закрытой дверью? Какие надобны чары, какие заклятия, чтобы проникнуть в его каменную тишину?
В Провансе камни говорят. Шепчут беззвучно на известном только им языке. Они повсюду. Согретые солнцем, ночью озябшие.
Потрескавшиеся, поросшие травой, они торчат из земли на выгоревших склонах, будто неглубоко погребенные кости, обломки черепов едва присыпанных песком воинов. Бугорки, щербинки, прожилки, ручейки потеков сложились на них в фантастические узоры, руны, знаки какого-то послания, отправленного словно бы из-за пределов времени, до того как занялся первый день, когда камень говорил с камнем, огонь с огнем, а бытие и небытие были одним и тем же словом еще не рожденного языка. А может быть, это след случая, отпечатавшийся в равнодушной материи? Или жестокое свидетельство того, что знак, хотя никем не замеченный, уже дан, а они, разбросанные по полям, утонувшие в бурьяне среди развалин, лишь его повторяют, дабы о нем напомнить?
Однажды среди холмов на задах аббатства Монмажур я обнаружил разрушенную романскую часовню, прячущуюся в гуще деревьев и колючих зарослей. Будто покинутое гнездо неведомых насекомых, она вырастала на крутой скале, источенной десятками неглубоких могил. Эти каменные каверны, одна подле другой, в форме удлиненных трапеций с полукруглым углублением для головы, были выдолблены по размерам человека. Внутри каменные перегородки, а на них волнистые линии и какие-то пятнышки, образующие четкие геометрические фигуры – круги, треугольники, лучше или хуже заметные под нашлепками оранжевого лишайника. Могилы были пусты. В них жили змеи, ящерицы и сверчки.
Целый год меня не покидало воспоминание: декабрьский вечер в Коллеж де Франс, разговоры с Поэтом [62] за столом, заваленным грудами бумаг и книг. Сбоку, на краю стола, лежал красный, испещренный знаками камень. Он притягивал внимание, заставлял на себя смотреть, тревожил. Я знал его происхождение, знал, где он найден. Это место мне было знакомо по строфам поэмы «У манящего входа», но также по картинам, нарисованным моим воображением в театре фантасмагорических сонных видений – там, где истинное место поэтическому слову.
Когда я спросил, как найти дорогу в Вальсент [63], Поэт помолчал, а потом медленно, словно бы неохотно сказал: «Сами вы не найдете, горы эти – безлюдные, там нет дорог. На будущий год в конце мая я буду в Сен-Сатурнене. Я вам напишу. Приезжайте. Оттуда будет недалеко».
«У манящего входа» – большая полифоническая поэма о земле, огне и облаках, о камнях, деревьях и их первозданной, естественной невинности; это свидетельство пылкой веры в существование иного, подлинного мира, в котором возможен союз правды человека с правдой вещей – правды, которой, чтобы возникнуть, чтобы стать правдой, нужны только слово, собственная очевидность и наше внимание.
Поэзия Ива Бонфуа сопутствовала мне чуть ли не всегда. Ее присутствие было таким живым, таким бесспорным, что она казалась неотделимой от моих самых интимных чувств и опыта. Вся целиком – с ее хором знакомых голосов, мельканием теней, запахом дикорастущих трав, скал, земли, огнем разных оттенков, – она была частью моего собственного пейзажа. Мне казалось, будто в ее магический круг я вхожу, как входят по прошествии лет в свою детскую, и без труда там ориентируюсь, узнаю дружественные или враждебные предметы, темные уголки, светлые пятна, забытые запахи…
Все в ней было знакомым и близким, оставшимся в памяти от этой, а может, другой жизни: брошенное на спинку стула красное платье, саламандра на стене, пантомима облаков, волшебные путешествия, которые начинаются с кучки тлеющих углей, с мерцающего в темноте огонька, а затем по ветвям деревьев приводят к звездам.
Поэзия эта переносила меня в мифическое время Начала, первого дня Творения, с массой скрытых посулов, заклятий, обещаний чудес; это был ее дом, как дом дерева – ветер; в таком доме человек всегда у себя: режет хлеб, разводит огонь, зажигает лампу, прикасается к камню, к древесной коре, произносит слово; в нем его истинное место, так же как место птицы – пространство, в котором звучит ее зов.
Среди глубоко укрытых человеческих тайн – страхов, восторгов, жажды бессмертия – она упорно искала ту «истину, которая равна надежде»…
Была в ней и пылкая любовь к Провансу, его свету, цветам, запахам, магии необыкновенного сооружения – заброшенного два с лишним столетия назад цистерцианского монастыря, сложенного из песчаника дикаря, с огромной полуразрушенной церковью, чьи аркады подпирают небесную голубизну в величественных декорациях бескрайнего и пустынного Люберона.
Помню ясный сентябрьский день угасающего лета – размытые белизна, охра и золото, бесконечный клавесинный концерт сверчков, – когда я, сидя с книгой на коленях высоко на скалистом уступе, смотрел вниз, на каменистое дно долины, на непоседливые полупрозрачные тени туч, которые то включали, то выключали сценическое освещение великого спектакля близящейся осени. Помню изумление и восхищение, вызванное строфами, где говорилось о завороженности знаками – сокровенной речью камней этой земли.
Nuages,
Et un, le plus au loin, à jamais
Rouge, l’eau et le feu
Dans le vase de terre, la fumée
En tourbillons
au point de braise pure.
Ou va bondir la flamme… Mais ici
Le sol, comme le ciel,
Est parseme à l’infini de pierres
Dont quelques-unes, rouges,
Portent des traits que nous rêvons des signes.
Et nous les degageons des mousses, des ronces,
Nous les prenons, nous les soulevons. Regarde!
Ici, c’est un tracé, de l’écriture,
Ici vibra le cri sur le gond du sens,
Ici… Mais non, cela ne parle pas, l’entaille
Dévie, au faîte
Aussi de braise pure, dans l’esprit,
Où la répétition, la symètrie
Auraient redit l’espoir d’une main oeuvrante.
Le silence
Comme un pont éboulé au-dessus de nous
Dans le soir.
Облака,
И еще одно, самое дальнее, да, вечно
Красное: вода и огонь
В глиняном сосуде, дым,
Клубящийся над раскаленными углями, чистым жаром,
Откуда вот-вот прянет пламя… Но и здесь,
Внизу, земля, как небо,
Усеяна бессчетными камнями,
И на нескольких из них, тоже красных,
Черточки, в которых мы, похоже, видим знаки.
И мы их очищаем от мха, от колючек,
Берем в руки, поднимаем. Смотри!
Здесь что-то процарапано, что-то написано,
Здесь дрожал крик на петлях смысла,
Здесь… Нет, это не слова: царапина
Уходит в сторону там, где столь же
Чистый жар достигает предела,
Где повторение, симметрия могли бы
Выразить надежду чертящей руки.
Безмолвие
Словно рухнувший мост в закатном свете
Над нашими головами.
Ив Бонфуа. «У манящего входа. VI. Облака» [64]
Навязчиво возвращающаяся тема, будто вагнеровский лейтмотив, повторяющаяся в прозаических текстах, стихах, беседах; знак на камне, непонятный посыл богов, которые тщатся передать лишь им одним известную тайну. Эта же тема присутствует во второй части эссе L’aube d’avant le signe («Когда знак только брезжит») из сборника Récits en rêve («Привидевшиеся рассказы»).
…Позже, спустя много лет, мы как-то забрели в заросшую кустарником лощину: она вся была усеяна серыми и красными камнями, на которых виднелись непонятные отметины. И с тех пор, приходя туда каждое лето, из года в год мы не раз и не два сдвигали с места эти красивые плитки песчаника и очищали их от мха, чтобы лучше разглядеть черточки, насечки, казавшиеся нам знаками. Как сильно бились наши сердца! Но нет: линии уходили в сторону именно там, где вроде бы должны были складываться регулярные формы, повторения, свидетельствующие об осмысленном письме. А некоторые из трещин явно оказывались слишком длинными или слишком глубокими. То, что могло бы обнаружить некий смысл, пропадало без следа, таяло в однозвучной песне цикад, не знающей иных событий, чем падение сухого листа. <…>
Тем не менее мы всегда уносили домой несколько таких камней. Обычно мы возвращались в вечерние часы, когда садившееся солнце увеличивало темные пятна мха, которые покрывали песчаник, – казавшийся в эти минуты почти синим или почти красным; а позже, едва лишь оно исчезало, уступая место звездам, эти два цвета начинали пламенеть изнутри: их нежное сияние как будто освещало нам дорогу. И мы шагали со своей тяжелой ношей в руках – наши движения, наша одежда были пропитаны темнотой, но перед нами светился этот прекрасный огонь: мы несли его к нашему дому, в чьих окнах еще горел последний луч заката. Дому, так и не отстроенному заново, слишком большому для нас, почти пустому.
Мы оставляли плитки на каминных полках, на старой скамье, стоявшей в одной из комнат, на краях наших столов, мы раскладывали их по всей церкви: на утоптанном земляном полу и в просторных чердачных залах; впрочем, эти помещения на зиму приходилось запирать, и камни покрывались пылью, гасли, – но для мха было достаточно совсем немного влаги, чтобы вновь ожить, он казался вечным. Чего мы ждали? Может быть, думали, что церковь, в которой давно не служат, не требует иного приношения, чем эти знаки, лишенные всякого смысла? Или, напротив, хотели, чтобы пустой храм и наши камни, соединившись, образовали новый, счастливый смысл? Пусть он потом и сгинет без следа, сотрется долгой чередой ночей и дней, пронзительными ветрами и дождями, что врываются в это жилище, возможно бывшее только миражем, пусть умрет среди мелькающих птиц, которые, должно быть, и сейчас беспрепятственно влетают внутрь сквозь разбитые окна и носятся из комнаты в комнату…
Однажды, в какой-то из наших коротких приездов, мы увидели на лестнице небольшую совку, как ни странно, почти нас не испугавшуюся. Посмотрев ей в глаза, мы решили, что она устроилась там совсем неплохо, и прошли к себе. Но, возвратившись спустя несколько дней, мы нашли на этом месте лишь истерзанное тельце да разбросанные вокруг перья.
Речь, которую мы искали там, где знаки только брезжили, речь, которая сквозит в пении петухов, придает яркость камням, – не ты ли только что родилась в этом заброшенном доме? И что в тебе прозвучало: упрек или, как всегда, новая надежда?
Ив Бонфуа. «Когда знак только брезжит» [65]
* * *
Шли последние дни весны. Воздух густел от запахов, бликов, щебетания ласточек. Ранним утром солнце зажигало ярко-красные гирлянды весенних облаков, но колокольный звон разливался уже ленивее, утрачивал радостную прозрачность. Розовая пена цветущих кустов превращалась в серо-зеленую накидку, на веточках появлялись колючие завязи неизвестных мне плодов. В полдень майская жара, стекая с черепичных крыш, смазывала цвета, на площадках под платанами отчетливее очерчивала границы между светом и тенью. Весь город – крепостная стена, башни, дома, сады – утопал в медовой бездне лета, словно в жидком янтаре. Вечерами, под огромным диском луны, стрекотали сверчки, попрятавшиеся в закоулки ночи.
Я уже месяц ждал подтверждения назначенной год назад встречи.
Письмо не приходило, а продолжающаяся шесть недель забастовка работников почты в департаменте Буш-дю-Рон отсекла от страны целый кусок между Авиньоном и Марселем. Каждое утро я садился на велосипед и отправлялся за семь километров на почту в Фурк (провансальский Фурко – от латинского furca, что значит «вилы», а также «разветвление реки») – маленький городок на другом берегу Большой Роны. Дорога, окаймленная канавами, где в воде отцветали последние болотные ирисы, бежала по следам бывшей римской дороги среди невозделанных полей охряного цвета, пересекала Малую Рону по мосту XIX века и, оставив с правой стороны несколько заросших бурьяном пустых строений из песчаника, через полсотни метров после указателя наконец спускалась в долину. В ветреные дни по склонам, поросшим миндальными деревцами и купами олив, прокатывались волны матового серебра.
Письма не было. Приближалось время возвращения на родину, и надежда увидеться с Поэтом с каждым днем таяла. Я пускался в обратный путь, толкая велосипед в гору под катящимся по небу лимонно-огненным шаром безжалостного солнца.
Как-то утром я застал в монастырской галерее двух рабочих. Ночью гроза расшатала шиферные плитки, крыша протекла, вода проникла в библиотеку. Рабочие разговаривали между собой на местном диалекте. Некоторые слова показались мне знакомыми, мелодия с ударением в конце фразы напомнила школьное чтение, письма Сенеки, речи Цицерона. Внезапная ассоциация заставила открыть лежащий рядом на столе оправленный в позолоченную кожу том – старое французское издание «Божественной комедии», оставленное накануне датским переводчиком Данте, бородатым гигантом Оле Мейером. В конце XXVI песни страдающая в чистилище душа несчастного трубадура Арнаута (Арнальдо, Арно) Даниэля [66], которого Данте высоко ценил, говорит на языке ок – угасшем языке этой земли:
…Tan m’abellis vostre cortes deman,
Qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire:
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
Consiros vei la passada folor,
E vei jausen lo joi qu’esper, denan.
Ara vos prec, per aquella valor
Que vos guida al som d l’escalina:
Sovenha vos a temps de ma dolor!
…Столь дорог мне учтивый ваш привет,
Что сердце вам я рад открыть всех шире.
Здесь плачет и поет, огнем одет,
Арнальд, который видит в прошлом тьму,
Но впереди, ликуя, видит свет.
Он просит вас, затем что одному
Вам невозбранна горная вершина,
Не забывать, как тягостно ему! [67]
Оба рабочих с трудом, по слогам, стали вполголоса читать дантовские терцины. Они понимали! Сомневались, задумывались – сложнее всего оказалась орфография, – но понимали!
И тут (о парадокс ассоциаций!) вернулся образ камней – костей этой земли, разбросанных по выгоревшим склонам, – выдолбленных на них временем знаков и посланий из населенной богами и демонами бездны, в которую канули умершие миры. Было ли это обещанием грядущего дружественного союза? Но ведь боги не сдерживают обещаний. Они уходят, унося с собой нашу часть бессмертия. Что же остается, кроме крупиц, слов, рассеянных по дорогам, знаков, которые не дают нам покоя, добиваются права на существование. «Наше – только то, что умерло, – писал Хорхе Луис Борхес (а может, кто-то другой, – уже не помню). – Ибо прошлое – не плод памяти. Это бытие, над которым даже Бог не властен. Это единственный мир, который действительно принадлежит человеку и которого у него уже никто не отнимет. Мечта, которая исполняется, сколько бы раз ни захотелось к ней возвращаться». Только прошлое проносит любовь и ненависть, миф и вымысел, надежду и сон через ненасытную действительность, это из его хрупкой, однако же более стойкой, чем камень, материи мы всякий раз заново возводим единственное непрочное препятствие, защищающее нас от вездесущего небытия.
* * *
За Аптом дорога поднимается в гору, а затем спускается узким серпантином на дно долины с крутыми склонами. Следы человеческого присутствия здесь немногочисленны и словно бы недостоверны: заброшенные фермы из песчаника дикаря; грунтовые дороги, убегающие куда-то вбок, в сторону невидимого дома или селения; высокие пилоны, пересекающие глубокий овраг. Но горные массивы скрывают и более грозные тайны: вырубленные в скале траншеи ракетодромов, гнезда огромных радаров; их ажурные чаши иногда бывают видны в просвете между двумя скальными стенами. Километры вверх по серпантину – и слева городок Симьян-ла-Ротонд: высоко на скале скопление домов, похожее на шмелиное гнездо. Проселочная, едва заметная дорога, вернее, след от дороги, поворачивает налево, взбирается в гору. Вокруг, куда ни глянь, пустынный горный пейзаж с голубой вершиной Вашер на заднем плане. И вдруг далеко, очень далеко, солнечная вспышка на оконном стекле, словно приглашение, обещание чьего-то дружелюбного присутствия или хотя бы воспоминания о таком присутствии: цистерцианский монастырь и развалины церкви – Вальсент, бывший дом Поэта, сегодня мертвый, как птичье гнездо зимой. Пустой, висящий над крутым обрывом, будто на грани между криком и гробовым молчанием. Дом – больно вспоминать! – куда уже нет дороги, куда, даже возвращаясь, уже нельзя вернуться.
Nous sommes revenus à notre origine.
Ce fut le lieu de l’évidence, mais déchirée
Les fenêtres mélaient trop de lumières,
Les escaliers gravissaient trop d’étoiles
Qui sont des arches qui s’effondrent, des gravats,
Le feu semblait brüler dans un autre monde.
Et maintenant des oiseaux volent de chambre
en chambre,
Les volets sont tombés, le lit est couvert de pierres,
L’âtre plein de débris du ciel qui vont s’éteindre…
Мы вернулись к нашему истоку:
Здесь все стало ясным, но лежало в руинах.
Окна скрещивали бесчисленные лучи света,
Лестницы взбегали к бесчисленным звездам —
Этим рушащимся аркам, этому щебню,
Огонь горел, казалось, уже в другом мире.
По нашим комнатам теперь летают птицы,
Ставни сброшены, постель завалена камнями,
В очаге дотлевают осколки неба.
Ив Бонфуа. «Прощанье» [68]
До Сен-Сатурнена я добрался поздним вечером. Поэт ждал, стоя на узкой улочке в полосе света, вырывающейся из полуоткрытой двери: темная сутуловатая фигура, голова в ореоле белоснежных седых волос. На черном, будто бархатном, фоне – прямо-таки персонаж с картины Ла Тура [69]. Если б не доносящиеся откуда-то из глубины садов, пробивающиеся сквозь кроны деревьев едва слышные аккорды «Гаспара из тьмы» [70], могло бы показаться, что передо мной единственный живой обитатель затерявшегося в горах, спящего летаргическим сном городишка.
Когда я протянул ему испещренный знаками камень, он долго, не говоря ни слова, взвешивал его на ладони.
– Ну да. Вы все-таки нашли дом, которого нет, – сказал он. – А может быть, никогда и не было, – добавил, помолчав минуту, – может, есть только ведущие к нему дороги? Только дороги. Потому что дом – это не место, это подобие мечты. Ты его выбираешь, а потом носишь в душе, как Святые Дары. В Вальсент я, наверно, уже не вернусь, но камень сохраню. Знаю, в каком месте вы его нашли. Вряд ли я ошибаюсь. К западу от монастыря, в овраге. Правильно? На нем знаки, которые я узнáю среди миллиона других.
Вы, наверно, устали, пойдемте в дом, Люси ждет с ужином. Вы любите gigot d’agneau à la provençale? [71] Это ее специальность. К этому красное Côtes du Luberon. О литературе поговорим позже…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































