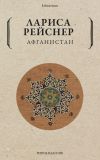Автор книги: Адель Алексеева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вадим Андреев оставил замечательные воспоминания о своей жизни в семье Рейснеров. Михаил Андреевич, писал он, был большой грузный человек с неожиданно тонким голосом. Внешне он оставался главой дома, однако настоящей домоправительницей была Екатерина Александровна. Урожденная Хитрово, она находилась в родстве с военным министром, генералом Сухомлиным. Только ни с ним, ни с кем-либо из других именитых родственников отношений не поддерживала. Маленькая целеустремленная женщина, она обладала острым умом и решительным нравом. Екатерина Александровна не только управляла домом, но могла и на улице или в трамвае вмешаться в любой спор и остроумным замечанием, шуткой привлечь всех на свою сторону.
Спокойный отец и решительная мать сумели передать дочери лучшие свои качества. Лера, Лерхен, Ларочка! Ее обожали в семье и баловали как могли. Еще бы! Красота ее сражала чуть не всякого, кто появлялся в доме. Вадим Андреев писал:
«Лариса была молоденькой девушкой, писавшей декадентские стихи, думавшей о революции, потому что в семействе Рейснеров не мечтать о ней было невозможно, но все же больше всего наслаждавшейся необычайной своей красотою. Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах… серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками взлетавшие к волосам, когда она поправляла свою тугую прическу, сияние молодости, окружавшее ее, – все это было действительно необычайным. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел и даже самые грубые предметы при ее приближении приобретают неожиданную нежность и мягкость. Я помню то ощущение гордости, которое охватывало меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны, – не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий – статистика, точно мною установленная, – врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. Однако на улице никто не осмеливался подойти к ней: гордость, сквозившая в каждом ее движении, в каждом повороте головы, защищала ее каменной, нерушимой стеной.
Вообще гордость была одной из основных рейснеровских черт. Даже мой товарищ, брат Ларисы, Игорь, веснушчатый, острый, в мать, четырнадцатилетний мальчишка, был преисполнен гордостью: так, как он, никто не умел закинуть голову, одним взглядом уничтожить зарвавшегося одноклассника и выйти с достоинством из трудного положения. Эта гордость шла Рейснерам, как мушкетерам Александра Дюма плащ и шпага.
…У Рейснеров, несмотря на всю их гордость, была доброта, но скрытая, вернее, отвлеченная: не к людям, а к человечеству; было глубокое чувство товарищества и верность тем убеждениям, которые они исповедовали, как религию; большая душевная честность – для личного удобства из них никто не пошел бы на компромисс. Я не думаю, что они смогли забыть о своем многосотлетнем дворянстве, даже если бы и хотели забыть.
…Все те, кто отчаянно влюблялись в Ларису – только немногие избегали общей участи, – в день первой же попытки заговорить об охватившем их чувстве отлучались от дома, как еретики от церкви. Но внутри, в самой семье, было много мягкости и ласки: радостно они следили за успехами друг друга…»
* * *
…К той зиме Андреев наконец закончил отделку своего дома. И на рождественские каникулы пригласил к себе Вадима, Игоря и Ларису покататься на лыжах. Лариса мечтала показать писателю свой первый литературный опыт – пьесу «Атлантида», но отчего-то не захватила ее с собой. На станции их встретил кучер Андреева и повез к деревушке Ваммельсуу.
Дом стоял высоко, на косогоре и сразу открылся в застывшем закатном воздухе, напомнив феодальный замок, а может быть, корабль. Подъехали ближе – и стала видна стена с двумя освещенными окнами наверху и одним широким внизу. Это походило на древнюю маску – два глаза и рот. Высоченная башня, расположенная в угловой части дома, смотрела асимметрично пробитыми окнами разной величины. На многоуровневых черепичных крышах – пологих и крутых, высоких и низких – белели трубы, каждая с маленький домик.
Хозяин почему-то не вышел их встречать. «Болен», – вздохнув, сказала его мать и проводила их в комнаты для гостей. «Болен» – значит пьет, «болен» – значит, его нет, «болен» – значит, не будет ни радости, ни веселья.
На другое утро Вадим предложил Игорю и Ларе обойти весь этот необычный дом. С трудом открыв высокую дубовую дверь, сказал:
– Здесь находится гимнастический зал.
Вверху терялись приделанные к потолку кольца, трапеции, веревочная лестница. Словно водопад, от пола до потолка простиралась голубая матовая печь.
В столовой разглядеть потолок было просто невозможно – так был он высок. К тому же его загораживали деревянные стропила. Столовая от прихожей отделялась не стеной, а широкими дубовыми колоннами и висящими между ними коричневыми шерстяными занавесями.
Если бы не Вадим, можно было легко заблудиться в этом доме. Игорь насчитал больше десяти комнат. Ларису изумили лестничные клетки с шахматными окнами и неожиданными поворотами. Занавеси метров пяти высотой – розово-коричневые, зеленые, серые – покрывали целиком некоторые стены. На диваны могли лечь несколько человек; лавки длинные, деревянные, печки в несколько квадратных метров – все это подавляло, поражало, озадачивало, а в высоких темнинах мерещились привидения.
Похоже, здесь обитали не просто бесенята, но существа покруче и пострашнее… Кто они? Демоны? Лешие?… «Какие неведомые силы властвуют здесь?» – спрашивала себя Лариса, преодолевая страх. Из темных углов выглядывали черные сущности… Здесь, как в храме, нельзя было бегать, кричать, веселиться. Здесь надо было ставить представления, пьесы, декламировать. Во всем этом было некое символическое сходство с пьесами Леонида Андреева. Здесь было все грандиозно и страшно.
Шел третий день, а Леонида Николаевича никто не видел, кроме его матушки. Она бесшумно относила ему еду, питье и тихо выходила, шепча молитву. Когда ее спрашивали: «Ну, как?», она отвечала: «Еще не в себе». Лариса никогда не сталкивалась с этим «не в себе». Неужели этот великий человек пьет?
На четвертый день он вышел к обеду – мрачный, заспанный, бледный, с печальными глазами побитой собаки. Потом, не сказав ни слова, ушел гулять в лес.
А на пятый спустился вниз, как ни в чем не бывало. Обнял матушку и спросил: «Что, Рыжик, а не сыграть ли нам в лото? И не пора ли занять гостей?» Вадим робко подошел к отцу, тот потрепал его по волосам.
В доме сразу все ожило, можно было дышать, шуметь, петь. Леонид Николаевич разрешил войти в свой кабинет. Все здесь было как в музее: на полу медвежья шкура, голубой ковер, между двумя стульями – большой круглый стол, над ним – картина Гойи: три фантастические чудища с крыльями, одно у другого обрезает длинными ножницами когти. Писатель приобнял Ларису за плечи и повел вдоль стен.
– Посмотрим картины?
На одной были изображены белые фигуры, исчезающие в синем пролете улицы. На другой – Иуда Искариот и Христос, распятые на одном кресте. Несколько фотографий – сцены из спектакля «Анатэма» в постановке Мейерхольда. На столе открытая толстая книга с перечеркнутой страницей, газеты, вырезки, карандаши, этюдник с пастелью – все в полном беспорядке.
– Смотрите! – Андреев отбросил шторку, закрывавшую незаконченную картину на мольберте.
Это был его автопортрет. Так он еще и художник! Автопортрет, хоть и недописанный, создавал уже вполне определенное впечатление. Крупная голова с длинными лохматыми волосами. Складка, вертикально пересекающая лоб. Заостренная книзу бородка. Расстегнутый ворот рубахи. Неужели это он? Никогда не видела Лара, чтобы так смыкались брови, составляя одну прямую линию. Никогда не видела такого выражения лица. Это был человек на краю гибели. В жизни Андреев красив, благороден, артистичен. А тут?… Глаза смотрели куда-то в неизвестность с ужасом и болью… Значит, он не знает, как ответить на главный вопрос пьесы «Жизнь человека»? Он, как Анатэма, обречен на муки? Разуверился в Боге, в человеке? Что же осталось?
Лариса, потрясенная, встретилась с ним глазами. Взгляд его был спокоен.
– Вы знаете мои портреты кисти Серова и Репина?
– Да, конечно.
– Ну и как? Который лучше?
Лариса молчала.
– Ну? – нетерпеливо спросил он, резко чиркнув спичкой. – Ну, ну?…
– У Репина вы красивы, а здесь…
– Красив? Хм! Разве моя сущность – красота? Да и у красивого человека есть сущность. А внешность? Внешность ничто. Главное – отразить душу человека, его внутреннее состояние… Как можно, например, написать Ларису? Красоткой-гимназисткой? Нет! Надо узнать ее характер, мечты, идеалы – вот тогда будет портрет. И не беда, если прическа не та, если глаза не так зелены. Прошли времена слепого реализма. У каждого стиля, у каждого направления свой срок жизни. Стоп! Толстой довел реализм до совершенства, он исчерпал его до дна. Репин – тоже!
Андреев ходил в мягких кожаных ботинках по голубому ковру и говорил в такт шагам.
– Но вот приходит новый художник, который считает возможным отступить от внешних мелких деталей ради внутренней сути. Приходит пора прислушаться к голосу другого колосса русской литературы – Достоевского. Это он открыл психологические бури, бушующие в нас. В сфере психологии не важно, был ли Анатэма на самом деле, в чем он ходил, какой у него голос, важен Анатэма – как условный, обобщенный образ, отражающий психологическое состояние безверия в доброту человечества.
Андреев остановился, пыхнул трубкой.
– Новое искусство пробивает себе дорогу. Как бы его ни назвали – модернизм, формализм… Вот почему мои герои – не конкретные люди, а условные носители психологических состояний. Вы поняли? А что пишут эти критики? Вот, пожалуйста, – он взял со стола книгу Айхенвальда: «Произведения Андреева – едва ли не сплошная околесица… Он страдает психологическим дальтонизмом. Виртуоз околесицы, мастер неправдоподобия, он только сочиняет, только вымышляет, правда от него бежит».
Во время этого нервного монолога Лариса не сводила глаз с писателя. Каждое его слово, казалось, навсегда впечатывалось в память. Она знала, как не щадит его в последнее время критика…
– Леонид Николаевич, я совершенно с ним не согласна! А этот портрет раскрывает суть писателя, его внутренний путь. Как можно этого не понять? Только… ведь у этого пути плохой конец?
Он зло усмехнулся:
– Ну, во-первых, у любого пути одинаково плохой конец. У меня – тем более. Человек на этом портрете, вероятно, пошел бы на войну, чтобы умереть.
– Почему сразу умереть? А сражаться?
– Какая разница, сразу или не сразу?
– Большая!
– А, это все равно… Впрочем, этому человеку не обязательно идти на войну, чтобы умереть. Он может и сам себе пулю в лоб пустить…
– Да что вы говорите?! – воскликнула она и не удержалась, чтобы не обнять этого печального одинокого человека, – хотела ему посочувствовать…
Он быстро и крепко прижал ее к себе и, словно опасаясь, так же быстро отстранился. Неожиданно спросил:
– Отчего не приехали ваши родители? – Он постучал по ладони курительной трубкой и несколько раздраженно добавил: – Почему у них постоянно какие-то тайны?
Она знала тайну отца и матери. Еще в прошлом году они повстречали в Райволе Владимира Бурцева, известного журналиста, написавшего клеветническую статью о ее отце. Оттого они тогда и не появились на вечеринке у Андреева, – Бурцев написал, что кто-то видел якобы документ, свидетельствующий о том, что Рейснер, либерал, связан с охранкой. Рейснеры не боялись Бурцева, но кому приятно, если знакомые дачники будут судачить? А ведь когда-то Бурцев бывал у них в гостях, выражал дружеские чувства к Екатерине Александровне. Не так давно министр Сухомлинов прислал ее матери свою визитную карточку. Но мать, боясь скомпрометировать семью, дала понять, что не желает с ним встречаться.
А тогда, при первом известии о подлости Бурцева, отец из-за этой истории чуть не наложил на себя руки. К ней в комнату вбежала мать с искаженным лицом: «Лариса! Я отняла у отца пистолет!» Она прижала голову дочери к груди и горячо прошептала: «Ты понимаешь, что мы – только мы одни! – можем вернуть ему силы! Если падешь духом ты, если я… цена нам всем грош… Это испытание, и неужели мы так слабы, что не выдержим? Лариса, выше голову! Чтобы я больше не видела у тебя слез!»
Автопортрет Андреева, выполненный темной пастелью, напомнил Ларисе тот давний вечер…
Сегодня (или ей только показалось?) навстречу им попалась кибитка Бурцева… Лариса опустила голову. Вот уж истинно – привидение.
* * *
…Свет от камина золотыми монетами падал на деревянный пол. За окном шел мелкий колючий снег. Усталый Михаил Андреевич лежал на диване, в их квартире на Большой Зеленина, у ног его на скамеечке сидела Екатерина Александровна и шевелила угли в камине. Игорь, брат Ларисы, устроился под лампой и читал вслух Шекспира.
На Ларису в тот день напала хандра. Конечно, она уже многое читала, многое знала: историю, языки, литературу, но всего этого мало. Только действия, поступки утверждают на земле человека. Нужно что-то делать, она чувствовала в себе энергию и не находила ей выхода. «Ее поэтические опыты? Не уверена, что они удачны. Это не Шекспир», – думала она, прислушиваясь к строкам из «Отелло»:
Я жажду ясности. На свете есть
Ножи, костры, колодцы, петли, яды.
Я не прошу. Но мне недостает
Уверенности…
Лариса перевела взгляд с красно-пепельных углей на Игоря. Игорь не только любил читать вслух, но сочинял фантастические рассказы и повести, чаще посвященные Востоку.
«Скорее бы кончилось это семейное сидение, скорее бы наступил завтрашний день». Звонил Андреев и обещал завтра их навестить: Вадим у них жил уже несколько месяцев. А Лариса решила, наконец, показать писателю свою пьесу «Атлантида», и как только кончился ужин, заперлась в комнате и погрузилась в рукопись на всю ночь.
«Я – Обреченный и во мне жизнь, – читала она монолог Леида. – Молчи, народ, я говорю о земле и о спасении… Говорю вам, я нашел новую землю и новое небо. Ликуйте! Через мою смерть явится жизнь. И проклятие мое старым богам и старой земле; на дне морском их могила. О Боге жизни и о спасении говорю я вам. Я – Обреченный, во мне жизнь и проклятие старому…»
Слова были высокопарные, торжественные, она зачеркивала, писала новые, опять зачеркивала. Не стихи, не баллады о царевнах, не «аккорды», может быть, поэтичные, но бессмысленные, а пьеса! Драма о человеке и его народе.
За окном сияла луна – отполированное круглое блюдо, беспощадно и холодно светившее на голом фиолетовом небе. Лариса писала, исправляла, перечитывала до самого утра.
«…Приближается момент катастрофы. Земля с каждым днем уходит все больше под воду. Люди чувствуют неминуемую гибель. Злые силы – жрецы храма Панхимеры – не думают ни о людях, ни о чуде, ни о спасении. Они лишь зло смеются, когда появляется прекрасный юноша Леид, обещающий умереть, но спасти людей. Жрецы ненавидят Леида, который хочет спасти людей, увести их на новую землю».
Ее герою Леиду грозит гибель, но он думает о том, как спасти людей, – разумеется, простых слов для этого у автора не находилось.
…Вечером, как только раздался условный, тройной звонок в дверь, Лариса скомкала бумаги, хотела бежать на звонок, но ее опередила мать. Послышался глухой мужской голос, кашель, и она, волнуясь, вся как натянутая струна, остановилась на пороге гостиной.
Отец вышел навстречу гостю, нерешительно протянул руку. Не боится ли он, что до писателя дошли темные слухи? Но нет, Андреев был спокоен, еще более красив, чем прежде, хорошо причесан, в начищенных сапогах, в бархатной куртке. Сообщил, что приехал в Петербург по издательским делам.
За ужином Екатерина Александровна оживленно рассказывала об успехах Вадима, о его явной тяге к литературе – он и сейчас на лекции Венгерова!
А Лариса не сводила с гостя глаз. И чем более смотрела, тем менее естественным казалось его спокойное, словно окаменевшее лицо. Уж не «заболел» ли он?
– В последнее время меня одолевают всякого рода истязатели, истерики, самоубийцы… Почему-то считают нужным прислать мне предсмертную записку или раскаяние… Посмотрят мою пьесу – и… А я ведь тоже в четырнадцать лет решил, что буду или знаменитым, или… покончу с этой жизнью, и прострелил себе ладонь. Смешно?
Постепенно лицо писателя разглаживалось – в домашней обстановке он отходил душой.
Наконец наступил тот удобный момент, когда можно было заговорить о пьесе.
– Леонид Николаевич! – Лариса поднялась из-за стола, спросила, что называется, в лоб: – Не согласитесь ли вы прочитать мой опус?
– О! – брови его приподнялись верх. – Он уже появился? Отрадно! И о чем же, если не секрет?
– В общем, об одиночестве, но и… Я помню ваши слова: быть одиноким – не значит быть ненужным. Время – как море, выплескивает на берег спасительные бревна… или самого человека. Надо только переждать шторм.
– Я говорил такое? – Он рассмеялся. – И кто же герой вашей пьесы?
– Это человек-бог. Юноша – прекрасный, но обреченный, готовый… Впрочем… если бы вы прочитали…
– Разумеется, я прочту. Сейчас же.
Лариса принесла рукопись. Он удалился в комнату сына, а час спустя снова появился в гостиной. Потирая руки, обратился к Ларисе (родители с Игорем деликатно удалились) с вопросами и сам же на них отвечал:
– Откуда пришли к вам ваши образы? От Платона, от Пельмана с его «Историей первобытного коммунизма», из мексиканских легенд?… Чувствуется, вы много читали. А может быть, от Горького с его «Данко», или же от вашего покорного слуги? Я понял вашу идею: неважно – была ли ваша Атлантида. Вы можете населить ее условными образами, которые выразят ваше собственное отношение к миру. Символ, аллегория, условность – это привилегия искусства сильных идей… Я попрошу вас, милая Лариса, – прочитайте сами какой-нибудь отрывок.
– Я? – Она растерялась лишь на секунду и быстро открыла какую-то страницу.
«Обреченный (с легким стоном падает на жертвенный камень). Корабли ушли в море…
Поднимается. Вдали на горизонте плывут белые паруса уходящих кораблей.
Верховный жрец (шатается). А… корабли. Его корабли.
Новый подземный удар. Небо сразу темнеет. Среди мрака нарастает плеск океана, башня шатается, медленно опускаясь. Кажется, будто во мраке одна гигантская волна, лизнув небо, бежит на землю, рокоча и смеясь… Блеск молнии, раз, другой; в сиянии ее видно бушующее море с торчащими скалами. На горизонте белые паруса уходящих кораблей. Леид спас людей, но сам он погиб».
Тут писатель должен был признать, что у него герои не спасали других, а становились жертвами злодейства или обстоятельств. У юной писательницы Леид прежде чем погибнуть спасает свой народ.
– Ну что ж, вашу пьесу вполне можно показать в журнале «Шиповник». Думаю, что ее напечатают… – Он взял ее за обе руки. – Поздравляю! – Долго смотрел ей в глаза, на руки, наконец, воскликнул: – У вас очень красивые руки!
В осенней книжке «Шиповника» за 1913 год была напечатана пьеса «Атлантида». Разумеется, в доме Рейснеров несколько дней праздновали это событие. Лариса была неотразима, глаза ее сияли, «поджигая» всех, попадавшихся на пути.
Однако Леонид Андреев выпил больше допустимого и… «заболел». Она была возмущена, ей казалось, что мечты ее разбиты. Влюбленность исчезла. Подгоняемая шустрым бесенком, она твердо решила: во-первых, никогда не влюбляться в красивых мужчин, во-вторых, не иметь дела с неврастеничными «больными». За пьесу она, конечно, благодарна, но – как можно быть безвольным, не уметь справиться с «болезнью»? Чушь! Все должно поддаваться человеческой воле!..
Спустя два месяца Леонид Николаевич забрал своего сына из семьи Рейснеров.
Медовый месяц, Париж. Опять Париж
Отзвенели колокола в Никольской слободе под Киевом…
Николай и Анна, теперь уже муж и жена, вышли из церкви: он в белом цилиндре, в рубашке с высоким воротником, подпиравшим подбородок, она – с флердоранжем и в платье со шлейфом. Ступили на дорожку, усыпанную лепестками, и двинулись между каштанами. Толпа любопытствующих приветствовала молодых.
Впереди было свадебное путешествие, медовый месяц и, конечно же, долгое семейное счастье. Как и где провести медовый месяц? Разумеется, в Париже, в этой русской Мекке.
В начале мая «город счастья» встретил их теплым дождиком, нежными цветущими каштанами, гуляньями.
Гумилеву нравилось, что на его красавицу жену все обращали внимание. Сама же Анна со скучающим видом сидела в его любимом кафе «Клозли де Лиль», без удовольствия поднималась на Эйфелеву башню. И, конечно, не одобряла его безумной беготни по букинистическим лавкам. Но что более всего ее отвращало, так это Ботанический сад и зоопарк, где содержались хищники. Дом инвалидов, где покоился прах Наполеона, тоже оставил ее равнодушной.
Оживлялась она лишь на Монпарнасе, в компании молодых художников. Там они встретили киевскую знакомую
Александру Экстер, художницу Елизавету Кругликову, которая затащила их к себе на улицу Буассонад, где всегда бывали русские. А ночью, после того вечера, Анна не спала, бродила по комнате как лунатик. Гумилев называл ее «Дева луны», – луна и в самом деле действовала на нее странно. Анна становилась больной и до самого утра бормотала стихи. Гумилев писал:
Но когда дневные смолкли звуки
И взошла над городом луна,
Ты внезапно заломила руки,
Стала так мучительно бледна.
Она сделалась резка, капризна, рассеянна, что ставило Гумилева в тупик. Будто это вовсе и не медовый месяц. Стараясь отвлечься, Гумилев убегал к букинистам, за книгами и… мечтал об Африке.
Поэт Георгий Иванов в своей мемуарной прозе приводит, со слов Анны, ее первые впечатления о Париже.
– В прошлый раз в Париже я чуть не умерла от скуки.
– От скуки? В Париже?…
– Ну да. Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, скука!
– Аня! – перебил ее Гумилев. – Ты забываешь, что мы в Париже чуть не каждый день ездили в театры, в рестораны.
– Ну уж и каждый вечер – всего два раза.
Она словно его дразнила.
И все же молодые, конечно, оставались вдвоем. Гумилев был счастлив: наконец-то он обладает той, о которой мечтал столько лет! Плоть торжествовала, но дух?… Анна словно продолжала пребывать в неком собственном мире, в каком-то полусне, таинственном и непонятном… И опять он бросался к книжной полке и читал, читал до опьянения – хорошо, что собрал такую коллекцию книг.
Анна рассказывала потом, как однажды увидела странную сцену: вдоль Сены, мимо лавок букинистов бежали люди, и впереди – Николай! Он, оказывается, спешил приобрести какую-то книгу.
Она, эффектная, в широкополой белой шляпе со страусовым пером (его, конечно, подарил муж) часто бродила одна.
Однажды молодые оказались в салоне Кругликовой и увидели там художников Наталью Гончарову и Михаила Ларионова. Оба высокие, стройные, уверенные, они спорили об искусстве. Ларионов говорил много и шумно, хотя и шепелявил (чем вызывал шутки у тоже шепелявившего Гумилева). Гончарова терпеливо ждала, когда муж закончит – и высказывалась коротко и веско. Она была из рода Натальи Гончаровой-Пушкиной.
– Как? – встрепенулась Ахматова. – Вы из этого рода?
– По мужской линии.
– И жили в Полотняном Заводе?
– О, это было самое счастливое время!.. Я даже написала портрет Натали, но – в духе кубизма. В красной шляпке, с чуть склоненной небольшой головкой, – у меня тоже маленькая голова и длинная шея, заметили?…
– Твой кубизм, – перебил Ларионов, – мало похож на Сезанна и прочих. Да и что такое собственно кубизм? Это давнее, это скифские каменные бабы, раскрашенные куклы на ярмарках – вот где истоки кубизма. А еще – лубок!.. Вот твои иконописные работы – другое дело! Собственный стиль!.. Святые и апостолы у тебя – чисто русские, древние, почти языческие, в них даже что-то звериное.
Тут Ларионов перескочил на Восток:
– Восток – вот исток всего искусства, надо лишь к нему приглядеться!
Тема воодушевила Гумилева, и он завел речь о персидском поэте Гафизе, о миниатюрах Востока, о том экзотическом мире.
Ахматова же больше приглядывалась к Наталье Сергеевне, словно искала в ней черты того, дорогого имени. И как всегда молчала, впитывая впечатления…
Через несколько дней Гумилевы оказались в компании французских художников. Один из них был так потрясен внешностью Ахматовой, что не спускал с нее глаз. Его завораживали ее молчание, ее царственный профиль, тонкие пальцы, необычайная женственность во всей фигуре, в каждой позе. К тому же она иностранка и говорит иногда на каком-то совершенно непонятном певучем языке.
Впрочем, разговор шел в основном на французском. Гумилев высказался достаточно самоуверенно:
– Всякая живопись декоративна! Так же, как всякая музыка музыкальна… Только цвет и сочетания красок создают впечатление. Так же и в поэзии: форма определяет все…
Он вдруг сбился на русский, заговорил быстро, непонятно, и молодого художника это возмутило: «Кто вы такой?»
Анна не сводила глаз с обоих мужчин – не хватало еще, чтобы Николай подрался в медовый месяц! И поспешила увести мужа.
Дома у них, вероятно, вспыхнула легкая перебранка, которые так часты в первые дни брака. Впрочем, как легко вспыхивают ссоры, так же легко приходит и радость примирения.
Гумилев с нежностью обнял жену:
– Ведь у нас, кажется, медовый месяц?
– Да, но все же… Мы испортили гостям настроение. – Она усмехнулась. – Знаешь, есть такая пословица: «Охоч гость до меду, да дали ему только воду».
Он снова настойчиво и нежно положил руки на ее талию.
А утром, вспомнив того художника, заметил:
– Мне бы не хотелось, чтобы ты встречалась с этим Модильяни.
– Так? Но мы же дали слово не стеснять взаимной свободы? – лукаво улыбнулась она.
– Что ж, ты свободна!
– Да? В таком случае я иду сегодня в Лувр с Модильяни. Он знает искусство лучше нас, и это обогатит меня.
– Хм. А потом поведет тебя в кабачок и напьется?
– Ты можешь пойти вместе со мной.
– И не сказать ни одного слова по-русски? Нет, я не пойду. – Николай Степанович отвернулся. – Лучше поеду куда-нибудь.
– Куда?
– Например, в Африку. – И он хлопнул дверью. Уходя, бормотал, кажется, стихи.
Что-то странное происходило в семье новобрачных. Ядом печали и грусти жена отравляла мужа, а он говорил дерзости. Ровно месяц провели они в Париже – и уже в июне отправились назад, в Россию. В сердце своем Анна увозила жар внезапно вспыхнувшего романа с художником Амедео Модильяни.
Дома их семейная жизнь сложилась довольно своеобразно. Муж часто оставался в Петербурге и намеревался по осени ехать в Африку. Она почти постоянно пребывала в имении Гумилевых в Слепнево.
Мать Николая Анна Ивановна чувствовала, что Анна трудно приживается в их доме, хотя та и вела себя безукоризненно, но холодно, обособленно, как человек из другого мира.
В Слепневе Анна написала стихотворение «Сероглазый король», в котором были такие страшноватые строки:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Неужели в сердце своем она похоронила Николая? Слово, да еще поэтическое, имеет особую силу, – зачем же она пророчит? Или то знаменитое стихотворение связано совсем не с именем Гумилева? Приведем его полностью:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли.
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…»
Впрочем, поэзия, как всегда, таинственна, так же, как и Музы, вызывающие стихи. Стихотворение это написано в декабре 1911 года.
А ведь в это время в сердце Ахматовой уже вошел Модильяни. Она часто вспоминала Амедео, молодого, горячего, очарованного ею. Они часами гуляли по Парижу, заходили в музеи, он показывал картины, которые любил сам, – и она смотрела на них его глазами… Что дальше? Он, конечно, взял ее адрес, но будет ли писать, да и зачем?
Модильяни стал писать ей не просто письма, а и стихи! Восхищался, поклонялся, мучился: «Вы для меня как наваждение!» Вспоминал ее пророчества и колдовство, ее слова о том, что истинные творцы умеют не только читать, но и передавать мысли, видят вещие сны. Каждая ее сентенция вызывала у него восхищение.
– О, это умеете только вы! О, передача мыслей!
– Вы еще и видите чужие сны?… О, это потрясающе!
Позднее Ахматова вспоминала:
«Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным и бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти…
Он мне казался окруженным плотным кольцом одиночества… Он не говорил ни о чем земном…»
Он бредил тогда Египтом и называл ее египтянкой. Она писала: «Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел… Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта».
Чем завершился этот фантастический роман? Он продолжился. Спустя год Ахматова вновь приехала в Париж! И вновь начались блуждания не только днем, но и ночью по «городу счастья». Лувр, Люксембургский сад, скульптуры Майоля… Все осталось в ее памяти.
«Как-то раз мы вероятно плохо сговорились. И я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла…
Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами…
…Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки…
Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?