Читать книгу "Святая с темным прошлым"
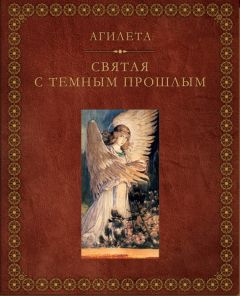
Автор книги: Агилета
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
IX
«…И не чаяла я там приискать себе иного мужа, а имела лишь твердое намерение избавиться от мучений …»
Примчавшись домой, сдернула Василиса с кровати покрывало и, распахнув сундук, принялась швырять на пеструю ткань все вещи без разбора. Много ли было у нее добра? Два небольших образа – Спасителя и Владимирской Божьей Матери (их она бережно завернула в тряпье, чтоб не повредились), трое рубах, несколько пар чулок, одна пара сапог, один узорный платок, немного холста для разных нужд, гребень да иголки с нитками. Все остальное было на ней.
Алый сарафан, в котором венчалась, оставила девушка на дне сундука. Присмотревшись, заметила в углу сиротливо притулившиеся там кружева, коими некогда одарила ее крестная. Тетка настояла взять их в Калугу, чтоб, если сладится дело, обшить сарафан перед венчанием, да все было недосуг. Подумав, прихватила Василиса и их – вдруг на что сгодятся, хоть продать.
Распрямилась и на несколько мгновений замерла, молясь. Господу – о том, чтобы простил ей этот грех, а Богородице о том, чтобы была ей заступницей и предстательницей перед своим Божественным Сыном. Напряженно ждала Василиса того, что вот-вот окутает ее провидческая тишина, истекали драгоценные мгновения, но ничего не происходило.
Тогда затянула узлом концы покрывала и тронулась в путь. Некому было ее остановить: тетка уж несколько дней как отбыла обратно в деревню. Стараясь не бежать и не привлекать к себе внимания, Василиса торопливо шагала к назначенному месту, огибая лужи. Неужто попустит Господь? Неужто дарует ей избавление?
И вдруг она покачнулась: тишина. Застыла поповна прямо посреди улицы, разжались руки, упал на мокрый снег ее пестрый узел. Чуть колыхалось ее тело в море безмолвия, и образы, коих никогда потом не могла вспомнить, проносились перед глазами. Затем отпустило. Тронуться бы Василисе снова в путь, но не смела она сделать ни шагу, ощущая невероятное смятение в душе.
– Как же я теперь? – потерянно прошептала она.
Некому было ответить.
Но вместе со смятением ощущала Василиса и другое. Как в ледоход с шипением, скрипом и треском наползают одна на другую льдины, освобождая течение реки, так ломалось и сдвигалось что-то и в ней самой, и не было такого мороза, чтобы вновь сковать ее льдом. Прижав левую руку к груди, как если б можно было унять летящее вскачь сердце, правой подняла она свой узел.
И продолжила путь.
* * *
Еще не были одержаны в Крыму решающие победы над Оттоманской Портой, открывающие России путь к Черному морю, но, будучи уверенной в исходе военного противостояния, императрица Екатерина уже мыслила на несколько шагов вперед. Станет российским Причерноморье, а населять его нешто одним татарам, чуть что готовым переметнуться под султанские знамена? Нет, негоже сие. Российским станет край – и по земле его ступать россиянам!
Императрица пожелала, привыкший исполнять ее желания князь Потемкин приказал – и вот «всех, назначенных за разными неспособностями в отставку» солдат, служивших в Тавриде, начали в принудительном порядке оставлять там на поселение. А в деревнях, где жили их давным-давно оставленные жены, стали появляться казенные команды с приказом препровождать женщин к мужьям. Брали и тех, что по доброй воле решили попытать счастья в чужих краях, если были они из государственных крестьян, а не из помещичьих.
Всего переселенных в Тавриду женщин набралось тысяча четыреста девяносто семь душ. Большая часть их соединилась со своими мужьями, двести восемнадцать были выданы замуж за русских поселенцев, живших в разных местах Таврической области, восемьдесят смелых и самостоятельных было поселено «на холостом положении» в Бахчисарае, а двадцать три несчастливицы умерли в госпиталях от болезней.
Документы тщательно фиксируют, сколько женщин осело в том или ином населенном пункте, но ни одна бумага не в состоянии передать, что нашли они для себя за тридевять земель от дома. Радость встречи с мужьями? Едва ли. За те десять, пятнадцать, а то и двадцать лет, что провели они в разлуке, супруги стали чужими людьми. И если во время рекрутского набора молодок разлучили с полными сил мужиками у своих ворот, то вновь соединили с инвалидами или стариками на чужой стороне. Сладко ли было им доживать остаток дней в таком союзе?
Те же, что были выданы замуж в самой Тавриде, вряд ли шли под венец с сердечной радостью. Выбирать женихов им не пришлось: кого назначили в мужья местные власти, того и любить изволь. Лишь восемьдесят своенравных особ, возможно, получили шанс на счастье. Восемьдесят из полутора тысяч.
Василисы не было в их числе. Ее имя вообще не фигурирует ни в одном документе, касающемся женщин, переселенных в Тавриду. Сознавала поповна или нет, но жизнь ее была неподвластна никому, кроме ее самой. И Господа Бога.
X
«…Долг свой христианский видела я в том, чтобы других утешать, особливо же тех, кому нигде в целом свете утешения не было…»
Охохонюшки! Далече ли еще? И где она затерялась, эта Таврическая область? Почитай весь Великий пост они в пути, а конца дороге не видать. Слезть с подводы, что ли – размять затекшие ноги? Да нет – увязнешь тут же; дорога – чисто каша-размазня, и подвода едва одолевает колесами весеннее месиво.
Снег в лесах уже почти сошел, лишь на полянах лежал еще пышно да гордо, но и там кое-где начинал обмякать и темнеть. Вся и забава в пути – примечать, как зима то отступает, то вновь берет свое, но под конец сходит-таки на нет в преддверии Пасхи. Торжествующе пламенели по обочинам дороги кусты краснотала, вылуплялись серые цыплята на вербе, да и скромница-ольха уже потряхивала сережками. Весна!
Завтрашний день был Вербным воскресеньем. Не было батюшки, чтобы объявить о том с амвона, но Василиса высчитывала в уме пасхальный календарь и сообщала о престольных праздниках своим товаркам-спутницам. Прознав, что она поповна, бабы только головой качали: и куда бежит, дура, от сытой жизни?
Василиса помалкивала в ответ, ни с кем не откровенничая о том, как и почему появилась она среди солдаток (коих набралось после объезда деревень в их губернии десятка полтора). Не ровен час высадит ее офицер в чистом поле – и без того который день уже волком на нее глядит. Невдомек было девушке, в чистоте выросшей и в других нечистоту не замечавшей, что берет он ее на подводу не за сиротский рубль, а за ясные очи и гибкий стан – чтобы тешиться ею в долгой дороге. Стоило Василисе тому воспротивиться, как люто осерчал на нее офицер и велел лишить харчей. Через пару дней, правда, смилостивился и вновь велел отпускать ей провизию, глядя, как товарки подкармливают девушку, но с тех пор боялась Василиса при нем и глаз поднять, и рта раскрыть: если б вовсе забыл он про нее – то-то была бы радость! Но нет, не забывал, посматривал то и дело с тягостным нетерпением в глазах, и Василиса в землю готова была зарыться от такого взгляда. Одна надежда – что доберутся они до Таврической области раньше, чем у его благородия терпение лопнет.
Тише воды была Василиса еще и потому, что всей душой ощущала: невыплаканным бабьим горем до краев полна их подвода, будь их воля, иные волком бы выли. Как соседка ее, Устинья. И без того сухая и блеклая, как давно сломанная ветка, и вовсе исхудала за дорогу – начисто съела ее тоска. Трое деток осталось у Устиньи – кому они нужны, кто их пожалеет, кроме нее самой, навек от них оторванной? Всяк, кому не лень, кинет в них бранное слово – «крапивники»[3]3
Так повсеместно называли внебрачных детей.
[Закрыть] – к кому побегут с плачем? Она-то уж привыкла, что хлещут ее словом «гулящая» в глаза и за глаза, а за деток душа болит: нешто нет ни в ком жалости и понимания? Как забрали у нее двадцатилетней мужа в солдаты, провели в кандалах с забритым лбом по деревенской улице, так и похоронила его для себя Устинья. А жить страсть как хочется, в двадцать-то лет кому ж не хочется? Деверь с женою милуются, а ей что же все земные радости до гробовой доски заказаны? Вот и кидало ее к случайным мужикам – хоть второпях глотнуть сладости любовной, что обернется потом горькой тоской. Вот и появлялись на свет детки под проклятия свекрови, ругательства свекра, да насмешки старшей невестки, жены деверя. Крестили их бранью, омывали позором, чуть не втаптывали в землю их мать, и никто не смилостивился, не смирил обидчиков, не утешил ободряющим словом.
– Разве ж так было Господом заведено, чтоб никто не жалел? – рыдающим шепотом допытывалась у Василисы Устинья. – Он блудницу и то от казни избавил, а я-то не такая! Я почитай, вдова, за что ж меня корить?
У Василисы сердце сжималось от этих слов. Истекала Устиньина душа кровью – чем залечишь раны? Вот батюшка знал бы чем! Вдруг вспомнилось ей что-то из батюшкиных наставлений, и она тихо промолвила:
– Батюшка сказывал: у одних людей в сердце елей копится, а у других деготь. А, случись что, каждый выплеснет то, что у него накоплено. Ежели елея не скопил, где ж его возьмешь?
– Да неужто у всех один деготь в душе? – пробормотала Устинья, ужасаясь, но и утешаясь.
Соседка ее, Варвара, поглядывала на Устинью с усмешкой: вот уж кого Бог умом обнес! Выставила себя на позор – еще и жалости ждет. Не могла она, что ли, перед родинами уехать к сроднице в другую деревню, чтобы разрешиться там? А младенчика либо подкинуть ко двору, где другой новорожденный, либо свезти в Москву, в Воспитательный дом. Еще и два рубля получила бы милостью государыни императрицы. Сама она, Варвара, так четверых пристроила. До Воспитательного дома всех живыми довезла – греха на ней нет – ну а дальше уж как Бог рассудит. Все честь по чести, и ворот ей дегтем никто не мазал, и свекор ни разу вожжами не отходил, а теперича едет себе преспокойно к мужу, не зная за собой никакой вины. По уму жить надо – вот и весь сказ!
У Устиньи дрожали губы.
– Ты живешь-то по уму, а Господь, он на душу взглянет на Страшном суде, – не удержавшись, упрекнула Василиса.
Варвара метнула в нее взгляд, точно камень:
– Тебя еще не слышали, приблудная! Гляньте, бабы, поп среди нас нашелся! Проповедовать она будет! Да чего ты в жизни знаешь, чего ты видела, чтобы судить?! На тебя, хворостину тощую, ясно дело, ни один мужик не позарился, через это с нами и тащишься, чтоб хоть у черта на куличиках кого-то подцепить. Тьфу, паскуда!
Обомлевшая Василиса задохнулась от оскорбления. Возбужденные бабы переговаривались вполголоса, но вступаться за девушку никто не спешил. Язык у Варвары, что когти у кошки! Боялись.
– Вот он деготь полез, – вдруг отчетливо и горько проговорила Устинья.
И все замолчали.
XI
«…Никогда не почитала я себя праведницей, а, обратно, по делом моим последней грешницей…»
Едва миновали Перекоп, Устинья слегла. И не сказать, что болезнь ее подточила, нет, но лежала и не вставала, и не хотела жить. Лишь время от времени шептала что-нибудь Василисе, вспоминая отходящую от нее жизнь, из одних только горестей и состоявшую.
– Как вышла я за порог – детки кричат, надрываются, а свекруха не нарадуется: «Ну, наконец-то привел Господь! Вывелась срамота с нашего двора! Чтоб тебе и вовсе пропасть дорогой, курва!» Видать, сглазила она меня, пропадаю, Васёна.
– Офицер сулит, днями до города доберемся, – ободряюще шептала Василиса, с дрожью в руках приглаживая Устиньины волосы. – Там гарнизон большой стоит – найдем попа, соборует он тебя, оклемаешься. Батюшка мой ежели кого соборовал, тот и со смертного одра вставал.
Устинья слабо мотала головой по рогоже, застилающей сено в телеге. Сидеть уж не могла, лежала, устремив взгляд в безоблачное, неистово синеющее небо. Яростное солнце жгло ее беспрепятственно, и когда Устинью положили на белые простыни в бахчисарайском госпитале, Василису ужаснуло черное, как головешка, лицо подруги. Припала она губами к ее лбу и долго покрывала его поцелуями.
– За деток моих молись, – неожиданно твердо и внятно произнесла Устинья. – За рабов Божьих Трифона, Филиппа, Ефимью. Свекрови их смерть одно облегчение, на нее надежды нет, а ты отмолишь, в тебя верю.
– В меня? – у Василисы дрожь прошла по телу.
– В тебя. Молитву праведницы Господь услышит.
– Да какая ж я праведница?! – пораженно воскликнула Василиса. – Да я паче других…
Устинья сжала ей руку, заставляя замолчать.
– Ты меня пожалела, – проговорила она, глядя девушке в глаза. И вдруг с остановившимся взглядом, откинулась на подушку.
Сквозь слезы не разбирая дороги, выбралась Василиса на воздух. Снаружи ярко сияла жизнь. Огромный цветущий куст при входе в госпиталь искупал ее в своем аромате. Целые водопады роз выплескивались на улицу из глухих двориков татарских домов. Виноград подобострастно вился под резными деревянными решетками балконов на домах побогаче. Солнечное золото было словно растворено в воздухе, и становилось совершенно не понятно, откуда берется смерть в этом жарко благоухающем раю.
Присев на какой-то камень, Василиса отняла руки от мокрого лица. Чуть поодаль похорошевшая в дороге от безделья Варвара, хохоча, заигрывала с солдатами. И впервые с болью задумалась девушка о том, почему так стремительно покидают земную юдоль самые чистые, нежные, светлые, в то время как истлевшие душою, точно сорная трава, впиваются в жизнь своими злыми корнями и прочно держатся в ней, пусть даже и губя других.
Подошел к ней офицер, тот самый, что возглавлял их казенную команду и имел на девушку виды, и встал, заслоняя солнце и недобро на нее глядя.
– Давай, поторапливайся! – приказал он. – Едем в селение Ахтиар, это почитай что день пути.
– А там что? – отважилась спросить поповна.
– Там дороге конец, – усмехнулся офицер, и непонятно было, так оно на самом деле, или нет.
XII
«…И помыслить я не могла, что когда-нибудь совершу нечто подобное…»
Едва взобравшись на слежавшееся сено, чтобы тронуться в путь, ощутила Василиса, как вошел в ее душу страх, потеснив горе. После Бахчисарая женщин на подводе осталось всего ничего: местное начальство отрядило остальных в те или иные села, где жили русские поселенцы. Лишь двоим, помимо нее, припало ехать в Ахтиар, и мог бы их сопровождать всего один солдат, но нет, и офицер с ними отправился. Уж не затем ли, чтобы хоть в конце пути, но все же взять свое, ради чего он увез ее, беглянку, из Калуги? И ведь ничто ему уже не помешает, улучит момент, и пропала она… Все холоднее и холоднее становилось у Василисы внутри, все уверенней и наглее взглядывал на нее офицер, все жарче и жарче палило солнце, и, казалось, не будет тому конца.
Дорогой почти не разговаривали – каждый был погружен в свое. Василиса пыталась вообразить себе, что ее ждет, доберись она благополучно до Ахтиара, и вообразить никак не могла. Сызнова замуж идти за кого прикажут? Нет уж, увольте нарушать закон божий и человеческий! Под венец ей дороги нет. А кроме как под венец куда податься?
И вдруг, обрывая душу, пришло к ней осознание того, что путь к людям, в их беспрестанную суету, радости и горести, ей покамест заказан. Не сыскалось еще для нее, Василисы Покровской должного места в этом мире. Не девкой же солдатской становиться, право слово, хоть ее принудить к этому и хотят!
Даже вздрогнула Василиса от такой мысли и села прямее, оглядываясь по сторонам. С обеих сторон дороги тянулись белые от ромашек поля, обрамленные на отдалении горами. Но до гор поди доберись, не бежать же в чистое поле! Размышляла поповна, прикидывала, выжидала. И дождалась: под вечер жара начала спадать, горы с одной стороны подошли вплотную к дороге, и покатилась их подвода вдоль невысокого обрыва. Василиса, вся напрягшись, приглядывалась к нему, и сердце замирало от предчувствия: пора! Обрыв пологий, оползневой, если и скатишься, не убьешься. Девушка взялась за свой узел, незаметно передвинула его к самому краю телеги, цепенея, выждала момент, когда подвода начнет поворачивать за выступ горы…
– Куда? Стой! – заорал офицер где-то наверху.
А Василиса и вскрикнуть не могла – пыль душила ее, забивая и нос, и горло, и глаза. Щебень, сухая глина и обломки горной породы, колотя и царапая девушку, мчали ее к подножью, крутили и переворачивали вверх ногами. Домчали, и встать не смогла – от страха ослабели ноги. Так и побежала она вдоль склона, потешно приседая, и непременно догнал бы ее офицер, если б вознамерился спрыгнуть следом. Но, то ли духу не хватило, то ли, решил уже плюнуть на несговорчивую девицу, погони не было. Однако Василиса о том не знала, от страха не слыша и не видя ничего вокруг, и сама не разумея, куда ее ноги несут.
Вдруг точно зеленая стена выросла перед ней. Сгоряча ткнулась девушка, но тут же отпрянула с воплем вся в глубоких царапинах: заросли ежевики резали, как пилой. Но, сквозь боль просияло в голове: уж там-то не доберутся до нее! Всхлипывая, нашла-таки место, где ежевичные кусты расступались, и, пригнувшись, кое-как протиснулась в заросли.
Господи! Что ж за лес такой дьявольский вырос! И не продерешься сквозь него: как ни повернись, всюду колет, режет, рвет. Что не ветка, то сухой крюк, что ни куст, в кровь раздирает ноги. И рукава у рубашки уже лохмотья, и чулки – лохмотья; лицо, щиколотки, руки – все в кровавых ссадинах. Уж и не всхлипывала девушка, а лишь беззвучно стонала всякий раз, когда острый шип вспарывал ей кожу. Но, как ни мучалась плоть, а душа радостно дрожала: ушла! От греха ушла, и от злой судьбы, и от всего того мучительства, что ожидали бы ее с еще одним постылым супругом.
Тем временем навалилась на землю тьма – ночь в этих краях наступала стремительно – и Василиса в изнеможении прилегла, найдя просвет меж шипов и колючек. Вместе с тьмой потянуло прохладой, и девушка выпростала из узла свой тулуп, завернулась в него и подложила остальное тряпье себе под голову. Сон настиг ее в одночасье, как смерть, и черной своей волной затопил в голове все земные печали.
* * *
Кто только ни находил себе приюта в Крымских горах! Не слишком высокие, с ровными зелеными плато наверху, изобилующие сухими, пригодными для жилья и хозяйственных нужд пещерами, они как будто специально поднялись над землей, чтобы давать убежище тем, кто гоним. Мирным земледельцам, укрывавшимся от воинственных кочевников; христианам, бежавшим из захваченной турками Византии; и, наконец, монахам.
Екатерина II была далеко не первой кого посетила донельзя христианская мысль разорить церковь, дабы пополнить свою казну. За десять веков до нее церковные владения стал прибирать к рукам византийский император Лев III. Однако, он, в отличие от бесцеремонной немки на российском престоле, не решился действовать напрямик, а нашел для своих гонений идеологическую подоплеку. Почитание икон объявили язычеством. По приказу властей разрушались храмы с росписями, уничтожались намоленные изображения святых, закрывались монастыри. Ища спасения от этого святотатства, священники, монахи, да и некоторые миряне бежали за море, на север – в Крым, где со вздохом облегчения находили райский климат и уютные пещеры-кельи на склонах гор, оставшиеся еще со времен первых христиан на крымской земле.
Так возникли в Тавриде пещерные монастыри. Один из них, монастырь святого Климента, ставший впоследствии самым крупным, располагался неподалеку от селения Ахтиар на берегу Черной реки, впадающей в Черное море. После захвата Крыма турками в 1475 году монастырь обезлюдел, и к тому моменту, как обессилевшая Василиса рухнула на землю в зеленых зарослях (и, сама о том не подозревая, в нескольких сотнях метров от обители) там не осталось ни единого насельника.
Зато остался полуразрушенный храм и пустые кельи на склоне горы. Живи себе, молись, да залечивай раны, душевные и телесные. А что, собственно, еще ей оставалось делать?
XIII
«…Благодарю тебя, Господи за то, что сподобил меня еси прожить день сей…»
Такими словами предваряла Василиса отныне каждый вечер свое молитвенное правило. Пылала в душе благодарность, как свеча, зажженная у образа, благодарность, никогда доселе ее не озарявшая. День миновал, и никто не вторгся бесцеремонно в ее уединение, не схватил, не увел силком. Призрел Господь и на телесные ее нужды и послал ровно столько пищи, сколько должно быть потребно, а ежели мнится, что надо бы хоть чуточку больше, так то от недостатка смирения. Не райский ли сад ее окружает, где земля в изобилии родит плоды, и вовсе никакого труда не нужно, чтобы ими насладиться? Вон сколько сладкой ежевики созрело вокруг, сколько диких слив, абрикосов да шелковицы! Попасешься у кустов да под деревьями, собирая паданцы – вот живот на время и полон. А как опустеет – напиться следует поболе, благо речка в двух шагах. А ежели и после голод скрутит, как бывало уж не раз, делать нечего: доберись до татарской деревушки поодаль, дождись, чтобы какая-нибудь женщина одна осталась в саду, и с низким поклоном протяни руку. Добры к ней были татарки, до того добры, что порой у Василисы слезы на глазах выступали от благодарности. То лепешку подадут, то мешочек орехов – то-то праздник! Да буде и просто с грядки сорвут незнакомый исчерна-синий овощ с бело-зеленой мякотью, и то слава Богу! Василиса приспособилась разламывать его, класть на раскаленные камни в самый разгар дневного пекла и держать так, пока не спадет жара. После этого овощ мягчал изнутри, и есть его становилось способнее. А как-то раз вынесли ей рыбки сушеной, и, обглодав каждую косточку, обсосав каждый хрящик так, что и муравьям нечем было на рыбьем скелете разговляться, ощутила Василиса, что все ее утерянные силы разом к ней вернулись. Взыграла душа, и сердце в пляс пустилось.
Платья же и вовсе было у нее в достатке. Правда, сарафан так истерзан шипами, да колючками, что носить его – чистый срам! Но на что он ей в здешнем жарком мареве? Одной рубахи подпоясанной достанет. Правда, у рубахи все рукава в клочья изорваны, ну да рваное оторвать легко; оно и легче в жару без долгих рукавов. Сапожки вот только развалились совсем, ну да ноги можно и холстом обмотать, благо холст у нее в узелке припрятан. Здесь обмотать, там подвязать – вот и обувка. Одета, обута, накормлена – живи да радуйся! В келье-пещерке чисто да сухо, ночью камень тепло отдает, холодает лишь под утро, но на то у нее тулуп имеется. На одну полу ляжешь, другой накроешься – и спи себе спокойно. Благодать!
А из каменного киота наверху, невесть когда в этой пещерке высеченного, на спящую иконы смотрят. С тревогой – Спаситель, с болью – Богоматерь. Сколько уж дней прошло со времени ее побега, а никого, кроме них так и нету подле Василисы.









































