Текст книги "Слишком поздно"
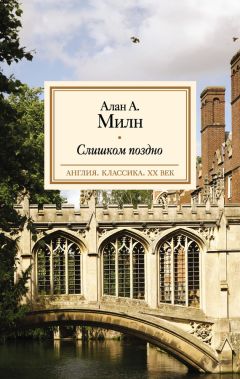
Автор книги: Алан Милн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Нам повезло, что Кен попал в колледж по дополнительному набору, ведь теперь нас разделяло только два триместра. Я ни на миг не усомнился, что буду поступать в июне, даже если стану самым юным абитуриентом в истории колледжа. Следующие пять месяцев я трудился как никогда раньше и редко когда потом.
Кен приезжал домой на выходные. Под его руководством я усвоил все многочисленные правила и странные словечки, которые были в ходу в колледже.
В частности, первокурсникам запрещалось носить мантию, второкурсникам это вменялось в обязанность, на слушателей третьего курса смотрели сквозь пальцы, а четверокурсникам дозволялось носить все, что заблагорассудится. Когда директор входил во двор, ты, если выпадало твое дежурство, должен был проорать на весь колледж: «Резерфорд идет!» – а если ты забывал про дежурство, то не миновать тебе хорошей порки.
Ни слова об учебе, ни слова о спорте. Единственное, что имело значение, – бессмысленный набор правил, а единственным мерилом нравственности служила приверженность традициям. Никогда «Это неправильно, потому что глупо», всегда «Это не может не быть верным, потому что все так делают уже целых триста лет».
Бедный старина Кен, которому пришлось изучать эти правила с чистого листа. Юный счастливчик Алан, который не только знал их назубок еще до того, как стал первокурсником, но и верил в их незыблемость, ведь Кен делал так целых шесть месяцев.
Брат приезжал домой в субботу. Утром ему выдавали шиллинг на карманные расходы, а так как обычно к субботе мои еженедельные три пенса возрастали до шиллинга, денег у нас было поровну. Два пенни от Дэвис, столько же – от мамы, которой я помогал мотать шерсть, шесть пенсов от папы за решенную задачку по тригонометрии, с которой я, к его удивлению, справился. С двумя шиллингами в кармане мы отправлялись вверх по Хай-роуд, в магазинчик по правой стороне улицы, где она сворачивает к Брондесбери. Там мы поедали мороженое, порцию за порцией, и Кен рассказывал мне о Вестминстере, иными словами, о колледже. О колледже, куда я попаду в сентябре.
6Однажды некий юноша сдавал экзамен по богословию. Прослышав, что экзаменатор питает слабость к царям Израиля и Иудеи, он выписал их в столбик и заучил. Теперь он был уверен хотя бы в одном ответе. На экзамене выяснилось, что никто не горит желанием расспрашивать его про царей Израиля и Иудеи. К счастью, восьмой вопрос звучал так: «Перечислите малых пророков». Подбоченившись, юноша заявил:
– Кто я такой, чтобы расставлять пророков по ранжиру? Лучше я расскажу вам про царей Израиля и Иудеи.
Так он и поступил.
Не забывайте, я изучал математику. Я знал, как по-гречески будет «фонтан». Этим мои познания ограничивались. Тщетно искал я в отрывке для перевода с греческого знакомое слово – его там не было; не было ни единого упоминания о ключах, источниках и каналах. Мне оставалось лишь перевести все союзы, оставив между ними пробелы. Таким образом, отрывок из Ксенофонта выглядел так: «… и … и …и». А более замысловатый отрывок из Геродота так: «…и …и …и …и …и». Переводя на греческий, я преобразовал союзы обратно, что, поверьте, гораздо сложнее. Тем не менее я с честью вышел из этого испытания.
На экзамене по латыни я дал себе волю, начав сочинять латинское стихотворение. С тех пор я написал немало английских стихотворений, некоторые опубликованы, и я даже получил причитающийся мне гонорар. Пришла пора увидеть свет моим латинским виршам.
Я помню только первую строчку, но это меня не остановит. Пентаметр, не иначе.
Persephone clamant; nonne pericla times?
Как видите, прямой вопрос (подразумевающий утвердительный ответ), адресованный Персефоне. Тем не менее поэзия.
Меня всегда занимали наши греческие и латинские опыты. В школе и Кембридже каждый слышал о «великолепном сборнике латинских стихов», благодаря которому некто Шут получил стипендию, и «блестящей греческой эпиграмме», за которую некий Плут удостоился золотой медали. Между тем всем известно, что Шут начисто лишен поэтического дара, а Плут не в состоянии сочинить самой завалящей остроты. В родном языке они не способны связать двух слов, однако с помощью словаря Шут умудряется сочинять изысканные вирши, а Плут – извлекать из пустой головы вдохновенные импровизации. «Спаси тебя Бог, Основа, спаси тебя Бог! Ты стал оборотнем!»[12]12
Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» (перевод Т. Щепкиной-Куперник).
[Закрыть]
Интересно, что сказали бы римляне о стихах Шута? Сочли бы они их достойными школьной газеты? Кто знает. А как насчет эпиграммы Плута? Для математика и литератора все это очень странно.
Но вернемся к нашим экзаменам.
Мне было одиннадцать, и я изучил алгебру, геометрию, тригонометрию, аналитическую статику, динамику и теорию конических сечений. Когда я говорю «изучил», я имею в виду, что приступил к их изучению и продвинулся достаточно далеко, чтобы сдать первый экзамен. Я упоминаю об этом без всякого самодовольства, потому что это осталось моим высшим достижением на математическом поприще. В двенадцать лет все считали, что в будущем мне суждено быть лучшим на курсе в Кембридже. И примерно тогда же математика перестала меня занимать.
Я играл во дворе, когда пришли результаты экзаменов. В разгар дня в школе было чем заняться, и лишь я один болтался без дела. Папа разрешил мне уделять учебе столько времени, сколько я сам сочту нужным. Он имел в виду летние каникулы, но вышло так, что его слова определили мою дальнейшую жизнь. Я влез до середины каната, когда он помахал мне телеграммой из окна гостиной.
«Ну вот, – подумал я, – больше беспокоиться не о чем», – и съехал вниз.
7Пришла пора сказать «прощай» папе и маме. У воспитанников закрытых школ не бывает пап и мам – у них есть отцы и матери. Перемена дается им не слишком легко, но если вы целый триместр пишете «дражайшему отцу», заканчивая письма пожеланиями всего наилучшего «горячо любимой матушке», то к каникулам успеваете привыкнуть. В любом случае папы и мамы канули в лету, растворились в викторианском закате, уступив место папулям и мамулям нового века. Между тем самый юный (во всяком случае, так мне говорили) ученик колледжа Квин дважды в неделю писал дражайшему отцу, а если был голоден – то и горячо любимой матушке.
Мы распрощались и с Хенли-Хаус. В конце моего первого триместра в Вестминстере наша семья снялась с места, оставив коллекцию минералов, прах жабы, три пенса и гимнастический снаряд папиному преемнику.
Папу давно не устраивал район, где мы жили – лучшие дни Килбурна остались в прошлом. Еще вероятнее, папа понял, что у школ, подобных нашей, нет будущего и выжить в нынешние времена могут только начальные школы для мальчиков до четырнадцати.
Уже два года он искал подходящий дом в сельской местности и обычно брал в поездки меня. Чтобы я не путался под ногами, папа, отправляясь за железнодорожными билетами, оставлял меня в зале ожидания на странных станциях в странных районах Лондона. Оставлял на несколько минут, но минуты казались часами. Меня, словно малого ребенка, охватывал необъяснимый страх. Причем я знал, что папа меня не бросит, я был уверен (ну почти), что он обо мне не забудет, меня не терзали предчувствия, что с ним случилось что-то нехорошее. И тем не менее оставаться одному было невыносимо. То ли дело вдвоем! Вместе с Кеном мы обожали торчать в залах ожидания и мечтали, чтобы папа подольше не возвращался. Сколько удивительных возможностей открывалось перед нами! Не важно, собирались мы реализовать рискованную затею Кена или мой хитроумный план, главное – разделить приключение на двоих. В одиночестве я ощущал себя брошенным и никому не нужным.
Поскольку папа не подозревал о моих страхах, я попросил маму, чтобы она уговорила его брать с собой Кена. Мама ответила, что мы не можем позволить себе еще один билет. Пожалуй, тогда я впервые осознал, как мы бедны – из-за нескольких шиллингов я был вынужден умирать от страха.
Наконец папа нашел дом в Уэстгейт-он-Си. Дом был старым, долго простоял без хозяев, и к нему прилагалось семь акров земли. Рента составляла триста пятьдесят фунтов в год, а папа получил наследство – тысячу фунтов.
Когда приходящих школьников распустили по домам, а пансионеров старше четырнадцати отправили восвояси, у папы на руках осталось десять мальчиков. На острове Танет хватало преуспевающих начальных школ, директора которых заканчивали Оксфорд или Кембридж. У папы с его дипломом бакалавра Лондонского университета было мало шансов основать успешную школу – он мог полагаться лишь на собственный здравый смысл и природный дар к учительству. Вместе с мальчиками папа переехал в Стрит-Корт и начал наводить справки. В свою очередь, местные, наведя справки о нем, дали новой школе не больше трех лет…
Прощай, папа, я оставляю тебя с твоим храбрым, робким сердцем и забавными манерами, с твоим юмором, мудростью и неиссякаемой добротой. Отныне наши пути расходятся. Я буду нетерпелив – ты стерпишь все, и на мою нелюбовь ты ответишь любовью. «Что ж, это естественно, – усмехнешься про себя ты, – он был моим до двенадцати лет. Потом дети вырастают и начинают тяготиться опекой, а наши представления кажутся им устаревшими. О, если бы снова прижать к себе моего малыша, подбросить в воздух, увидеть его смеющееся личико!»
Однажды, когда папа подбросил меня в воздух, плечевой сустав, подвернутый на крикете, выскочил, и ему пришлось ловить меня одной рукой. Папа рассказывал эту историю столько раз, что мы с Кеном привыкли насмешливо переглядываться: вот заладил! Как будто сами никогда не пересказывали одну и ту же историю больше одного раза.
И все же до двенадцати лет я был твоим, папа, и если есть во мне что-то, чем ты можешь гордиться, то оно от тебя. Спасибо тебе, дорогой.
Школьник
1893–1900
Глава 6
1В летние каникулы 1894 года я прочел «Завоевание Мексики» Прескотта и выучил наизусть стихотворение Уильяма Аллингема (да, то самое). Как я выяснил, это была часть летнего задания в Вестминстере. Я намеревался понравиться учителю, добровольно осилив за лето учебную программу, – и немедленно убедился, что инициатива не вознаграждается. Никто не просил меня продекламировать стихотворение, никто не жаждал разделить со мной мои познания о Мексике. Однако я не сдавался. Ничто не могло погасить мой боевой дух, пока я не сравняюсь с Кеном.
Кен опережал меня на год. Я был еще в младшей школе, мы не могли даже вместе ходить на математику. Я из кожи вон лез, изучая классические языки, а Кен никуда не спешил, и в январе я его догнал.
Следующий триместр стал для меня счастливым. Я наконец-то учился в старшей школе и к тому же был одним из лучших по математике. Впервые в жизни мне нравилась латынь (наверное, потому, что мы изучали Марциала, а он писал намного увлекательнее Цезаря, хоть и уступал ему в военном искусстве). Даже в греческом я с удовольствием расширил свой кругозор, более не ограничивая его фонтанами. Полагаю, и погода стояла хорошая – запамятовал. Во всяком случае, общее впечатление от весны 1894 года осталось самое солнечное.
В конце триместра жизнь показалась нам еще радостнее. В те времена родители узнавали об успехах сыновей только по краткому отзыву директора школы. Обо мне там говорилось: «Умен, любознателен и быстро усваивает» – по-моему, лучше и не скажешь. О Кене, по сути: «Давно бы так», – но в доброжелательном духе. Отец был счастлив. Будучи сам директором школы, он относился к отзывам очень серьезно. За каникулы мы на велосипедах исколесили весь Кент.
Не помню, что говорилось об успехах Кена за следующий триместр. Уверен только, отзыв был хуже моего – как всегда. Мы оба принимали это как данность, не влияющую на то, сколько времени и сил каждый из нас посвящает учебе, а сколько – развлечениям. Летом 1894 года отзыв Кена был определенно хуже моего, а мой гласил: «Учится плохо, не проявляет усердия ни по каким предметам, даже по математике». Прочтя такое, отец отворотился лицем к стене[13]13
Ис. 38:2.
[Закрыть] и оставил всякую надежду. Я, в свою очередь, обратил лице свое к более светлым сторонам жизни и оставил всякие попытки трудиться.
Напомню, мне было двенадцать лет. По математике я был одним из лучших в школе, а на экзаменах в конце года оказался лучшим. В специальный математический класс принимали только с шестого курса. В том учебном году, о котором идет речь, спецкласс состоял из трех учеников, от шестнадцати до восемнадцати лет. Если не считать этих троих, я в свои двенадцать стал лучшим по математике во всей школе. И мне говорят, что я плохо учусь!
Я до сих пор помню, как школьный отчет ворвался в нашу счастливую летнюю жизнь. Как встревожилась матушка при виде конверта, опасаясь, что там очередная жалоба на бедолагу Кена, и как Кен уверял, что ничего слишком ужасного о нем не скажут, помню свою твердую уверенность, что моего успеха хватит на двоих… и строгое, застывшее лицо отца, когда он начал читать. Помню свою досаду, превратившуюся в растерянность пополам с возмущением, как только до меня дошло, что в отчете говорится не «за исключением математики», как мне вначале послышалось, а «даже по математике». Бесполезно объяснять отцу, что отчет составлялся до того, как объявили результаты экзаменов, а результаты эти доказывают полную смехотворность отчета. Школьные директора не ошибаются. Доктор Резерфорд сказал, что я плохо учусь – значит, я учусь плохо.
На том все и закончилось. Больше стараться было незачем. По своему любимому предмету я обогнал всех, кого можно было обогнать. С Кеном нас уже не разлучат, а для отца, как видно, мнение чужих равнодушных людей важнее моих настоящих достижений. И я перестал работать. Сейчас я понимаю, что был вовсе не математическим гением, а просто умненьким мальчиком, который способен научиться чему угодно, если учитель энтузиаст. Этакая смесь честолюбия и беспечности; в учебе меня привлекали в основном победы. Энтузиастов поблизости не нашлось, и побед не предвиделось. Вот мы с Кеном и предались веселой праздности. Так началось мое «образование».
2Примерно в то же время на уроках французского я впервые столкнулся с «жульничеством».
В целом школьное жульничество делится на две разновидности: получить нечестное преимущество по сравнению с другими учениками или обхитрить преподавателя. Первое делать «не принято»; второе иногда приходится. У нашего учителя французского были самые роскошные пышные усы, никогда таких не видел. И сам он, как я узнал позднее, был очаровательным человеком. Но он переоценивал способность своих учеников усваивать тонкости французского языка. На каждом уроке он диктовал двадцать четыре вопроса, а мы должны были письменно на них ответить. Тех, кто даст меньше двадцати правильных ответов, «оставляли после уроков» – это значило, что во второй половине дня им приходилось заниматься вместо того, чтобы играть со всеми. Оставленному после уроков больше пятнадцати раз за полугодие грозила публичная порка директорской рукой (березовыми розгами). В колледже Квин остаться после уроков даже и один раз считалось позорным.
Закончив отвечать, мы менялись листочками, и каждый проверял работу соседа по парте. Предполагалось, что это исключает возможность сжульничать, на самом же деле такая система жульничеству только способствовала – мы с чистой совестью исправляли ошибки друг у друга. Нас рассаживали по алфавиту, и моим соседом оказался мальчик по фамилии Мун. Леонард Мун был близок к тому, чтобы стать героем всей школы и впоследствии стал им. Он только что поступил в школьные команды по футболу и по крикету, а позднее играл в крикет за клуб «Мидлсекс», в футбол за «Коринфян» и Южную Англию и набрал сто перебежек в матче с австралийцами. Притом он был необыкновенно хорош собой, скромным и дружелюбным. Мог ли я допустить, чтобы этого идеального персонажа, по части французского еще слабее меня, оставили после уроков? Нет, конечно! Мог ли я, как истинный вестминстерец, нанести удар школе, позволив, чтобы Мун пропустил тренировку по крикету или по футболу? Немыслимо. Когда учитель называл его фамилию, я твердым голосом объявлял: «Двадцать один». А когда звучала моя фамилия и Мун говорил: «Двадцать два», – столь же немыслимо было мне встать и заявить: «Сэр, по-моему, этот замечательный мальчик сказал неправду. Вряд ли у меня наберется хотя бы семь правильных ответов. Требую пересчитать!» Нет, я молчал, скромно опустив глазки. Обман быстро вошел в привычку.
3К чему я никак не мог привыкнуть, так это к школьной кормежке. Сорок лет прошло, а и сейчас вспоминаю с содроганием. С семи до восьми утра мы занимались, за этим следовал завтрак, состоящий из чая и хлеба с маслом. Хлеб был безвкусный, а масло совершенно несъедобное – иначе мне бы нравилось, ведь я люблю хлеб с маслом. Чай есть чай, тут нечего привередничать, но к нему полагалось кипяченое молоко с плавающими громадными кусками пенки. Мне становилось дурно от одного вида этого молока, от одной мысли о нем. До сих пор при воспоминании тошнота подступает к горлу. Таков был наш завтрак, «самая божественная трапеза дня, та, что никогда не разочарует». В час нам подавали обычное «мясо с овощами», а за ним так называемый десерт. Мясо резали заранее и подогревали до чуть теплого состояния. В сезон фруктов нам давали ревень. Не будучи любителем тепловатых ломтей говядины (а также ревеня), я старался не иметь с обедом ничего общего. Был один ужасный случай: Резерфорд зашел в столовую, заметил, что я смотрю на еду без интереса, и велел принести мне стакан молока. Я для вида поднес стакан к губам, кое-как сдерживая тошноту и молясь про себя, чтобы директор поскорее ушел, пока я окончательно не опозорился. С тех пор при его появлении я хватался за нож и вилку, старательно притворяясь, будто ем. И наконец, в шесть пятнадцать нам подавали ужин – тот же чай, что и на завтрак, и к нему все те же ломти мяса, теперь уже официально холодные, для желающих. Желающих находилось очень мало.
Разрешалось дополнять завтрак и ужин едой, привезенной из дома или купленной на свои деньги: сардинки, язык, варенье, консервированное мясо и так далее. Домашние припасы быстро заканчивались, и тогда возникала насущная проблема – так распределить карманные деньги, чтобы украсить школьную еду до приемлемого состояния и чтобы хватало как можно дольше. К примеру, мы выяснили, что семифунтовая банка джема помогает впихнуть в себя значительное количество хлеба, а с маринованными огурчиками ужин становится почти съедобным. И все равно мы постоянно были голодными. Ночами я лежал без сна, думая о еде, а когда наконец засыпал, грезил все о том же. За все годы в Вестминстере я не помню и дня, когда бы я чувствовал себя сытым.
Отец, сам директор школы, не принимал наши жалобы всерьез. Все мальчишки жалуются на кормежку, это часть школьной традиции. А уж Алан, как известно, вообще любит капризничать за столом. Было время, когда он воротил нос даже от молодой картошки! Да если бы отец нам и поверил, он мало что мог поделать. Мы учились за государственный счет и получали стипендию, а уж как на нее прожить – исхитряйся, как умеешь.
И мы исхитрялись. Школа постоянно требовала расходов: сбор денег по подписке, вступительные взносы за различные конкурсы, стрижка, плата за проезд, если мы уезжали на выходные, иногда подарок на свадьбу учителю или на похороны священнику. На подобные расходы отец выдавал нам в начале каждого полугодия три-четыре фунта, а мы должны были потом представить ему подробный отчет о своих тратах. Мы быстро приноровились смотреть на эти деньги как на свои собственные. Сразу откладывали небольшую сумму к возвращению домой, а остальное спускали в кондитерской Саттса на печенье и прочие сладости, которых требовали наши истощенные желудки. «Отчетность» не составляла проблемы. Откуда отцу знать, женился ли в этом полугодии кто-нибудь из учителей и не скончался ли очередной школьный священник? Равным образом не мог он судить о том, какую именно сумму потребуют с учеников по такому радостному или, наоборот, печальному случаю. «Венки – 15 ш., свадебные подарки – 17 ш. 6 п.» – на наш взгляд, вполне реалистично. Кен называл такую методу «системой двойной записи», поскольку в итоге все расходы записывались дважды, и утверждал, что это прекрасная система, проверенная временем, и все бухгалтеры ею пользуются.
Правда ли, нет ли, система служила нам отменно. Как-то на Пасху случился тревожный момент: отец внезапно потребовал отчета по поводу пяти фунтов, о которых, как мы надеялись, он давно забыл. Беда в том, что на этот раз у нас совсем не осталось сдачи. Едва ли отец, выдавая эти пять фунтов, мог быть настолько прозорлив, что определил предстоящие нам расходы с точностью до пенни; еще менее вероятно, что расходов оказалось больше, а мы не обратились к нему за недостающей суммой. Итак, очевидно, какие-то деньги должны были остаться, а у нас в карманах ни грошика. Кен, решив потянуть время, отправился на поиски собаки, которая как раз куда-то ушла по своим собственным делам. Собаку Кен не нашел, зато нашел на дороге шиллинг. Полтора пенса он потратил на имбирное пиво, за что никто не может его осудить, и с торжеством принес домой сдачу. Вечером мы представили отцу подробный отчет. В то полугодие смертность среди священнослужителей Вестминстера резко подскочила (зима выдалась на редкость промозглая), а неромантичные преподаватели вдруг ринулсь вступать в брак (видите ли, весна была такая чудесная!). Словом, то да се, к концу полугодия осталось всего три с половиной пенса.
– Они у тебя, Алан?
Да, они были у меня, и мы их торжественно вручили отцу.
Маленький лорд Фаунтлерой остался в далеком прошлом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































