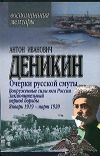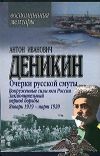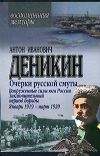Текст книги "Путь русского офицера"

Автор книги: Александр Афанасьев
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Результаты «майского набега» таковы: разгромлены две транспортных дороги со складами, запасами и телеграфными линиями; уничтожено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей; взято в плен 234 японца (5 офицеров) и не менее 500 выведено из строя. Определено точно расположение трех дивизий генерала Ноги и, между прочим, захвачен курьер с большой корреспонденцией, адресованной ему. Стоил нам набег 187 убитыми и ранеными.
Но не в этой материальной стороне – главное. При неподвижном стоянии обеих армий на месте трудно было достигнуть большего. Важен был тот моральный подъем, который явился следствием набега – как в отряде, так до некоторой степени и в армии. Картины бегущего и сдающегося в плен противника не слишком часто радовали нас на протяжении злополучной кампании.
Главнокомандующий прислал телеграмму: «Радуюсь и поздравляю генерала Мищенко и всех его казаков с полным и блестящим успехом. Лихой и отважный набег. Сейчас донес о нем государю».
* * *
Генерал Мищенко любил офицеров и казаков, сердечно заботился о них и не давал в обиду. Пользовался среди них совершенно исключительным обаянием. Внутренне горячий, но внешне медлительно-спокойный в бою – он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков, он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальнику.
Популярность генерала Мищенко, в связи с успехами его отряда, распространялась далеко за его пределами. И началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом кратковременного отпуска и оставались в отряде. Бежали из других частей армии офицеры и солдаты, в особенности в томительный период бездействия на Сипингайских позициях, когда только на флангах, преимущественно у нас, шли еще бои. Приходили без всяких документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями, Мищенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но, в конце концов, принимал всех. В массе приходил к нам элемент прекрасный, истинно боевой.
К лету 1905 года, в результате такого своеобразного «дезертирства», в частях Урало-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава – офицеров десятки, солдат – сотни. И не одной только пылкой молодежи: были и штаб-офицеры, и пожилые запасные, и солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольного начета, я доложил генералу Мищенко цифровые итоги.
– Что ж, знаете ли, надо покаяться!
Донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился от генерала Каульбарса вполне благоприятный: учитывая хорошие побуждения «дезертиров» и чтобы не угашать их духа, командующий армией не только оставил их в отряде, но даже разрешил принимать приходящих и впредь, под тем, однако, условием, чтобы это решение отнюдь не разглашалось и не вызвало массового паломничества в отряд.
Так жили и воевали в нашей «Запорожской Сечи».

Конец Японской войны
Последний бой Конного отряда, ставший последним боем Русско-японской войны, произошел 1 июля под Санвайзой, когда мы взяли штурмом левофланговый опорный пункт неприятельской позиции, уничтожив там батальон японской пехоты.
В середине июля поползли в армии слухи, что президент США Теодор Рузвельт предложил нашему правительству свои услуги для заключения мира… Установившееся на фронте затишье подтверждало эти слухи. Как были восприняты они армией? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в преобладающей массе офицерства перспектива возвращения к родным пенатам – для многих после двух лет войны – была сильно омрачена горечью от тяжелой, безрезультатной и в сознании всех незаконченной кампании.
Начались переговоры в Портсмуте.
От командования Маньчжурских армий не был послан представитель на мирную конференцию, в состав делегации Витте. Не был запрошен и главнокомандующий по поводу целесообразности заключения мира и определения условий договора.
Армию не спросили.
Правая русская общественность сурово обвиняла Витте за его якобы «преступную уступчивость» и заклеймила его злой кличкой «граф Полу-сахалинский»[51]51
Витте за Портсмут был награжден графским титулом. (Примеч. автора.)
[Закрыть]. Обвинение совершенно несправедливое, в особенности принимая во внимание, что уступка половины Сахалина сделана была велением государя, не по настоянию Витте. Он проявил большое искусство и твердость в переговорах и сделал все, что мог, в тогдашних трудных условиях.
Не встречал он сочувствия и со стороны левой общественности. Видный социалист Бурцев[52]52
Владимир Львович Бурцев (1862—1942) – революционер, до 1905 г.– террорист. За террористическую пропаганду осуждался в Англии, высылался из Швейцарии и Франции. Примыкал к эсерам, но формально в их партию не входил. После начала Первой мировой войны резко поменял курс, выступил за оборону России от германской агрессии. В 1915 г. добровольно сдался русским властям на границе, был судим, сослан, затем амнистирован. После большевистского переворота эмигрировал. Посвятил много времени и сил разоблачению большевистского шпионажа в пользу Германии и в предательстве России.
[Закрыть] – впоследствии, во время Первой мировой войны ставший всецело на «оборонческую позицию» – писал в дни Порт-смута Витте: «Надо уничтожить самодержавие; а если мир может этому воспрепятствовать, то не надо заключать мира».


Вначале Витте не встречал сочувствия и в президенте Теодоре Рузвельте, который не раз обращался непосредственно к государю, обвиняя Витте в неуступчивости, тогда как японцы в первой стадии переговоров буквально нагличали. Они требовали уплаты Россией контрибуции, ограничения наших сухопутных и морских сил на Дальнем Востоке и даже японского контроля над их составом. Возмущенный этими требованиями, государь категорически отверг их одним словом своей резолюции:
– Никогда!
Конференция все затягивалась, и дважды члены ее «укладывали и раскладывали чемоданы». Между тем американские церкви и пресса становились все более на сторону России. В печати все чаще стали раздаваться голоса, предостерегавшие от опасности, которая может угрожать интересам Америки в Тихом океане при чрезмерном усилении Японии… Под давлением изменившегося общественного мнения, президент счел необходимым послать телеграмму микадо о том, что «общественное мнение США склонило симпатии на сторону России» и что «если портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать в США того сочувствия и поддержки, которые она встречала ранее».
Несомненно, это заявление оказало влияние на ход переговоров.
Было ли в интересах Англии «оказывать Японии эту поддержку ранее», об этом свидетельствуют события 1941—1945 годов.
5 сентября 1905 года в Портсмуте было заключено перемирие, а 14 октября состоялась ратификация мирного договора. Россия теряла права свои на Квантунь и Южную Маньчжурию, отказывалась от южной ветви железной дороги до станции Куачендзы и отдавала японцам южную половину острова Сахалин.
Для нас не в конференции, не в тех или других условиях мирного договора лежал центр тяжести вопроса, а в первоисточнике их, в неразрешенной дилемме: могли ли Маньчжурские армии вновь перейти в наступление и одержать победу над японцами?
Этот вопрос и тогда, и в течение ряда последующих лет волновал русскую общественность, в особенности военную, вызывал горячие споры в печати и на собраниях, но так и остался неразрешенным. Ибо человеческому интеллекту свойственна интуиция, но не провидение.
Обратимся к чисто объективным данным.
Ко времени заключения мира русские армии на Сипингайских позициях имели 446,5 тыс. бойцов (под Мукденом – около 300 тыс.); располагались войска не в линию, как раньше, а эшелонированно в глубину, имея в резерве общем и армейских более половины своего состава, что предохраняло от случайностей и обещало большие активные возможности; фланги армии надежно прикрывались корпусами генералов Ренненкампфа и Мищенко; армия пополнила и омолодила свой состав и значительно усилилась технически – гаубичными батареями, пулеметами (374 вместо 36), составом полевых железных дорог, беспроволочным телеграфом и т. д.; связь с Россией поддерживалась уже не тремя парами поездов, как в начале войны, а двена-дцатью парами. Наконец, дух Маньчжурских армий не был сломлен, а эшелоны подкреплений шли к нам из России в бодром и веселом настроении.
Японская армия, стоявшая против нас, имела на 32 % меньше бойцов. Страна была истощена. Среди пленных попадались старики и дети. Былого подъема в ней уже не наблюдалось. Тот факт, что после нанесенного нам под Мукденом поражения японцы в течение шести месяцев не могли перейти вновь в наступление, свидетельствовал по меньшей мере об их неуверенности в своих силах.
Но… войсками нашими командовали многие из тех начальников, которые вели их под Ляояном, на Шахэ, под Сандепу и Мукденом. Послужил ли им на пользу кровавый опыт прошлого? Проявил ли бы штаб Линевича более твердости, решимости, властности в отношении подчиненных генералов и более стратегического уменья, чем это было у Куропаткина? Эти вопросы вставали перед нами и, естественно, у многих вызывали скептицизм.
Что касается лично меня, я, принимая во внимание все «за» и «против», не закрывая глаза на наши недочеты, на вопрос: «Что ждало бы нас, если бы мы с Сипингайских позиций перешли в наступление?» – отвечал тогда, отвечаю и теперь:
– Победа!
Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но… Петербург «устал» от войны более, чем армия. К тому же тревожные признаки надвигающейся революции, в виде участившихся террористических актов, аграрных беспорядков, волнений и забастовок, лишали его решимости и дерзания, приведя к заключению преждевременного мира.
* * *
Уже в августе постепенно создавалось впечатление, что война кончилась. Боевые интересы уходили на задний план, начинались армейские будни. Полки начали спешно приводить в порядок запущенное за время войны хозяйство, начались подсчеты и расчеты. На этой почве произошел у нас характерный в казачьем быту эпизод.
Наш Конный отряд переименован был, наконец, в штатный корпус, командиром которого утвержден был официально генерал Мищенко. Его дивизию Урало-Забайкальскую принял генерал Бернов. Приехал и приступил к приему дивизии; я сопровождал его в качестве начальника штаба. В Забайкальских полках все сошло благополучно. Приехали в 4-й Уральский полк. Построился полк, как требовалось уставом, для опроса жалоб, отдельно офицеры и казаки. Офицеры жалоб не заявили. Обратился начальник дивизии к казакам с обычным вопросом:
– Нет ли, станичники, жалоб?
Вместо обычного ответа – «Никак нет!» – гробовое молчание. Генерал опешил от неожиданности. Повторил вопрос второй и третий раз. Хмурые лица, молчание. Отвел меня в сторону, спрашивает:
– Что это, бунт?
Я тоже в полном недоумении. Прекраснейший боевой полк, исполнительный, дисциплинированный…
– Попробуйте, ваше превосходительство, задавать вопрос поодиночке.
Генерал подошел к правофланговому:
– Нет ли у тебя жалобы?
– Так точно, ваше превосходительство!
И начал скороговоркой, словно выучил наизусть, сыпать целым рядом цифр:
– С 12 января и по февраль 5-й сотня была на постах летучей почты и довольствия я не получал от сотенного шесть ден… 3 марта под Мукденом наш взвод спосылали для связи со штабом армии – десять ден кормились с лошадью на собственные…
И пошел, и пошел.
Другой, третий, десятый то же самое. Я попробовал было записывать жалобы, но вскоре бросил – пришлось бы записывать до утра. Генерал Бернов прекратил опрос и отошел в сторону.
– Первый раз в жизни такой случай. Сам черт их не разберет. Надо кончать.
И обратился к строю:
– Я вижу, у вас тут беспорядок или недоразумение. От такого доблестного полка не ожидал. Приду через три дня. Чтоб все было в порядке!
Надо сказать, что казачий быт сильно отличался от армейского, в особенности у уральцев. У последних не было вовсе сословных подразделений; из одной семьи один сын выходил офицером, другой – простым казаком,– это дело случая. Бывало, младший брат командует сотней, а старший – у него денщиком. Родственная и бытовая близость между офицерами и казаками составляли характерную черту уральских полков.
В последовавшие за смотром два дня в районе полка было большое оживление. С кургана, прилегавшего к штабу дивизии, можно было видеть на лугу, возле деревни, где располагался полк, отдельные группы людей, собиравшиеся в круг и ожесточенно жестикулирующие. Приятель мой, уралец конвойной сотни, объяснил мне, что там происходит:
– Сотни судятся с сотенными командирами. Это у нас старинный обычай, после каждой войны. А тут преждевременный смотр все перепутал. Казаки не хотели заявлять жалоб на смотру; да побоялись – как бы после этого не лишиться права на недоданное.
К вечеру перед новым смотром я спросил уральца:
– Ну как?
– Кончили. Завтра сами услышите. В одних сотнях скоро поладили, в других – горячее дело было. Особенно командиру N-й сотни досталось. Он и шапку оземь кидал, и на колени становился. «Помилосердствуйте,– говорит,– много требуете, жену с детьми по миру пустите»… А сотня стоит на своем: «Знаем, грамотные, не проведешь!» Под конец согласились. «Ладно,– говорит сотенный,– жрите мою кровь, так вас и этак»…
На другой день, когда начальник дивизии вторично спрашивал – нет ли жалоб, все казаки, как один, громко и весело ответили:
– Никак нет, ваше превосходительство!
* * *
В личной своей жизни я получил моральное удовлетворение: высочайшим приказом от 26 июля «за отличие в делах против японцев» был произведен в полковники. Генерал Мищенко представил меня еще к двум высоким боевым наградам.
Ввиду окончания войны Урало-Забайкальская дивизия подлежала расформированию; оставаться на службе в Маньчжурии или в Сибири я не хотел, потянуло в Европу. Простившись со своими боевыми соратниками, я поехал в Ставку. Попросил там, чтобы снеслись телеграфно с Управлением Генерального штаба в Петербурге о предоставлении мне должности начальника штаба дивизии в Европейской России.
Так как ответ ожидался не скоро – начались уже забастовки на телеграфе, и Ставка принуждена была сноситься с Петербургом через Нагасаки и Шанхай,– я был командирован на время в штаб 8-го корпуса, в котором я числился давно на штатной должности, еще по мирной линии.

После той «Запорожской Сечи», какую представлял из себя Конный отряд генерала Мищенко, в штабе 8-го корпуса я попал в совершенно иную обстановку.
Командовал корпусом генерал Скугаревский. Образованный, знающий, прямой, честный и по-своему справедливый, он, тем не менее, пользовался давнишней и широкой известностью как тяжелый начальник, беспокойный, подчиненный и невыносимый человек. Получил он свой пост недавно, после окончания военных действий, но в корпусе успели уже его возненавидеть. Скугаревский знал закон, устав и… их исполнителей.
Все остальное ему было безразлично: человеческая душа, индивидуальность, внутренние побуждения того или иного поступка, наконец, авторитет и боевые заслуги подчиненного. Он как будто специально выискивал нарушения устава – важные и самые мелкие – и карал неукоснительно как начальника дивизии, так и рядового.
За важное нарушение караульной службы или хозяйственный беспорядок и за «неправильный поворот солдатского каблука»; за пропущенный пункт в смотровом приказе начальника артиллерии и за «неуставную длину шерсти» на папахе… В обстановке послемукденских настроений и в преддверии новых потрясений первой революции – такой ригоризм был особенно тягостен и опасен.
Скугаревский знал хорошо, как к нему относятся войска, и по той атмосфере страха и отчужденности, которая сопутствовала его объездам, и по рассказам близких ему лиц.
Я ехал в корпус в вагоне, битком набитом офицерами. Разговор между ними шел исключительно на злобу дня – о новом корпусном командире. Меня поразило то единодушное возмущение, с которым относились к нему. Тут же в вагоне сидела средних лет сестра милосердия. Она как-то менялась в лице, потом, заплакав, выбежала на площадку. В вагоне водворилось конфузливое молчание… Оказалось, что это была жена Скугаревского.
В штабе царило особенно тягостное настроение, в особенности во время общего с командиром обеда, участие в котором было обязательно. По установившемуся этикету, только тот, с кем беседовал командир корпуса, мог говорить полным голосом, прочие говорили вполголоса. За столом было тоскливо, пища не шла в горло. Выговоры сыпались и за обедом. Однажды капитан Генерального штаба Толкушкин, во время обеда доведенный до истерики разносом Скугаревского, выскочил из фанзы, и через тонкую стену мы слышали, как кто-то его успокаивал, а он кричал:
– Пустите, я убью его!
В столовой водворилась мертвая тишина. Все невольно взглянули на Скугаревского. Ни один мускул не дрогнул в его лице. Он продолжал начатый раньше разговор.
Как-то раз командир корпуса обратился ко мне:
– Отчего вы, полковник, никогда не поделитесь с нами своими боевыми впечатлениями? Вы были в таком интересном отряде… Скажите, что из себя представляет генерал Мищенко?
– Слушаю.
И начал:
– Есть начальник и начальник. За одним войска пойдут, куда угодно, за другим не пойдут. Один…
И провел параллель между Скугаревским, конечно, не называя его, и Мищенко. Скугаревский прослушал совершенно спокойно и даже с видимым любопытством и в заключение поблагодарил меня «за интересный доклад».
Для характеристики Скугаревского и его незлопамятности могу добавить, что через три года, когда он стал во главе Комитета по образованию войск, он просил военного министра о привлечении в Комитет меня.
Жизнь в штабе была слишком неприятной, и я, воспользовавшись начавшейся эвакуацией и последствиями травматического повреждения ноги, уехал, наконец, в Россию.

Часть пятая
Первая революция – в Сибири и на театре войны
Приехав в Харбин, где начиналось прямое железнодорожное сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу подымавшихся революционных настроений. Харбин был центром управления Китайских железных дорог, средоточием всех управлений тыла армии и массы запасных солдат, подлежавших эвакуации.
Изданный под влиянием народных волнений Манифест 30 октября, давший России конституцию, ударил, словно хмель, в головы людям и, вместо успокоения, вызвал волнения на почве непонимания сущности реформы или стремления сейчас же явочным порядком осуществить все свободы и «народовластие».
Эти сумбурные настроения в значительной мере подогревались широкой пропагандой социалистических партий, причем на Дальнем Востоке более заметна была работа социал-демократов. Не становясь во главе революционных организаций и не проводя определенной конструктивной программы, местные отделы социалистических партий во всех своих воззваниях и постановлениях исходили из одной негативной предпосылки – долой!
Долой «лишенное доверия самодержавное правительство», долой поставленные им местные власти, долой военных начальников, «вся власть – народу»!
Эта демагогическая пропаганда имела успех в массах, и во многих местах, в особенности вдоль Великого Сибирского пути, образовались самозваные «комитеты», «советы рабочих и солдатских (тыловых) депутатов» и «Забастовочные комитеты», которые захватывали власть. Сама Сибирская магистраль перешла в управление «смешанных забастовочных комитетов», фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог.
Самозваные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из элемента случайного, по преимуществу «более революционного», или имевшего ценз «политической неблагонадежности» в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания, слушал речи встречавших поезда делегатов и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой!», не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в настроениях народных.
Официальные власти растерялись. Во Владивостоке комендант крепости, генерал Казбек, стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла, генерал Надаров, не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья, генерал Холщевников, подчинился всецело комитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими «народной самообороны», утверждал постановления солдатских митингов, передал революционерам всю почтово-телеграфную службу и т. д. Штаб Линевича, отрезанный рядом частных почтово-телеграфных забастовок от России, пребывал в полной прострации, а сам главнокомандующий устраивал в своем вагоне совещание с забастовочным комитетом Восточно-Китайской железной дороги, уступая его требованиям…
Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой, и с такой легкостью сдававших свои позиции, усугублялся тем обстоятельством, что, воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся им на головы Манифестом, устанавливающим новые формы государственного строя, в которых они поначалу не разобрались. Тем более что привычных «указаний свыше», вследствие перерыва связи со столицей, первое время не было. А из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге и даже о падении царской власти…
Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Кроме мелких частей, был только один случай, когда весь офицерский состав полка (Читинский полк, стоявший в гор. Чите), с командиром во главе, вынес сумбурное постановление, в котором, между прочим, выражалось сочувствие «передаче власти народу», считалось «позорным подавление какой бы то ни было политической партии силою оружия» и обещалось, «в случае беспорядков, угрожающих кровопролитием, впредь до сформирования милиции, принять участие в предупреждении братоубийственной войны – по требованию гражданских властей».
Очевидно – революционных, так как другие в Чите бездействовали.
В революционное движение вклинился привходящим элементом – бунт демобилизуемых запасных солдат.
Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и к речам делегаций, высылаемых на вокзалы «народными правительствами». Единственным лозунгом их был клич: «Домой!»
Они восприняли свободу, как безначалие и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу, в особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушались ни своего начальства, ни комитетского, требуя возвращения домой сейчас, вне всякой очереди и не считаясь с состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении – в 10 тыс. километров – Сибирского пути.
Под давлением этой буйной массы и требований «железнодорожного комитета», Линевич, имевший в своем распоряжении законопослушные войска Маньчжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам, целыми частями и приказал начать перевозку всех запасных.
При этом, вместо того чтобы организовать продовольственные пункты вдоль Сибирской магистрали и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали одних, выдавая в Харбине кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же на Харбинском вокзале и на ближайших станциях, по дороге понемногу распродавался солдатский скарб, а потом, когда ничего «рентабельного» больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки.
Достойно удивления, как в таких условиях корпуса бывших Маньчжурских армий сохранили организацию и дисциплину. Выброшенные за тысячи километров от родных очагов, придавленные бесцельностью принесенных жертв в неудачной и незаконченной кампании, томившиеся, в ожидании возвращения домой, в холодных, тесных землянках, не имевшие никаких сведений, благодаря забастовкам, о том, что делается на родине и дома, забрасываемые харбинскими революционными листовками, они все же устояли.
Устояли, благодаря офицерскому корпусу, сжившемуся с солдатами за время маньчжурской страды и сохранившему авторитет и влияние, благодаря привитой дисциплине и здравому смыслу, не пошатнувшемуся в солдатской среде строевых частей.
* * *
Самое бурное время (ноябрь 1905 – январь 1906) я провел в поезде на Сибирской магистрали, пробираясь из Маньчжурии в Петербург. Ехал бесконечно долго по целому ряду новоявленных «республик» – Иркутской, Красноярской, Читинской и др. Жил несколько недель среди эшелонов запасных, катившихся, как саранча, через Урал домой, наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское море.
Несогласованность в распоряжениях «республик» и ряд частных забастовок иногда вовсе приостанавливали движение: в Иркутске, где нам пришлось поневоле прождать несколько дней, скопилось до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продовольствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными в Иркутске.
Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, по расписанию, мы делали не более 100—150 км в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных; поезд не выпускали со станций; однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке, без буфета и воды – на том же, где накануне заснули… Оказалось, что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, отцепили и захватили наш.
Стало очевидным, что с «легальностью» никуда не доедешь. Собрались мы четверо оказавшихся в поезде полковников и старшего, командира одного из Сибирских полков, объявили комендантом поезда. Назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне – старший. Из доброхотных взносов пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде, по 60 коп. суточных, и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух «революционных» вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный.

От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами; впереди нас поджидали другие, с целью преградить нам путь. Но, при виде наших организованных и вооруженных команд, напасть на нас не решились.
Только вслед нам в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризированные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз, при приближении нашего поезда, вместе со всем служебным персоналом, скрывались в леса. Тогда мы ехали без путевки. Бог хранил.
Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество, всем хотелось попасть домой к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора: частная забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно, и когда восстановится, неизвестно. К довершению беды, сбежал из-под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить положение. Что делать? Каково же было общее изумление, когда из «революционных» вагонов нашего поезда пришла к коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов, но только, «чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою»…
Снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному по Самарской станции мы передали по телефону категорическое приказание: «Через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь, через станцию. Чтоб путь был свободен!»
Проехали благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально, и я добрался до Петербурга в самый Сочельник.
Этот «майн-ридовский» рейд в модернизованном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных «республик» и озверелых толп.
* * *
Между тем Петербург пришел в себя и стал принимать решительные меры. По инициативе главы правительства графа Витте, для восстановления порядка на Сибирской магистрали были командированы воинские отряды: генерала Меллер-Закомельского, который шел от Москвы на восток, и генерала Ренненкампфа, двигавшегося от Харбина на запад. Позже подошел к Владивостоку генерал Мищенко, когда схлынула уже наиболее буйная масса запасных, и успокоил город мирным путем.
Генерал Ренненкампф выступил из Харбина 22 января 1906 г. с дивизией, шел, не встречая сопротивления, восстанавливая железнодорожную администрацию и усмиряя буйные эшелоны запасных. Усмирение производилось обыкновенно таким способом: высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком километров за 25 по сибирскому морозу (30—40 град. по Реомюру) до следующей станции, где к определенному сроку их ждал порожний состав поезда.
Подойдя к Чите, считавшейся наиболее серьезным оплотом революционного движения, Ренненкампф остановился и потребовал сдачи города. После нескольких дней переговоров Чита сдалась без боя. Ренненкампф сменил высших администраторов Забайкальской области[53]53
Военный губернатор граф Холщевников был впоследствии судим и подвергнут заключению в крепости. (Примеч. автора.)
[Закрыть], отобрал у населения оружие и арестовал главных руководителей мятежа, предав их военному суду.
Так поступал и в дальнейшем. Впоследствии левая печать обрушилась на Ренненкампфа, обвиняя его суды в нарушении процессуальных правил, в несправедливости и суровости приговоров… Вероятно, судебные ошибки были, в особенности принимая во внимание царствовавший тогда хаос. Но это был суд, предваряемый следствием, дававший возможность подсудимым и защите выступать против обвинения.
Совершенно иначе действовал генерал Меллер-Закомельский. Я знал его по службе в Варшавском округе, где он командовал 10-й пехотной дивизией, в штабе которой я отбывал лагерный сбор в 1899 г. Нрав у него и тогда был крутой, но в мирной обстановке ничем особенным он себя не проявлял.
В донесении Меллер-Закомельского государю о результатах экспедиции были такие строки: «Ренненкампфовские генералы сделали крупную ошибку, вступив в переговоры с революционерами и уговорив их сдаться… Бескровное покорение взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления».
Исходя из этого взгляда, с отрядом всего только 2 роты, 2 пулемета и 2 орудия, посаженным в поезд Меллер-Закомельский в три недели проехал от Москвы до Читы более 6 тыс. километров, произведя повсюду жестокую расправу…
* * *
К середине февраля революционное движение на Сибирской магистрали схлынуло, в Харбине стачечный комитет был арестован, началась нормальная эвакуация маньчжурских корпусов.
Государь, крайне недовольный бездействием генерала Линевича в отношении революционного движения, приказал ему немедленно выехать в Россию, не дожидаясь приезда его заместителя, генерала Гродекова. Такой же приказ получил и генерал Куропаткин, который в отношении революции держал себя твердо и разумно. Причем Куропаткину повелено было ехать морем через Владивосток, высадиться в одном из портов Черного моря, где ждать дальнейших распоряжений. Словом – ссылка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?