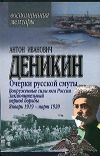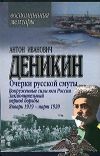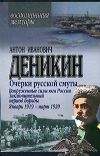Текст книги "Путь русского офицера"

Автор книги: Александр Афанасьев
Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Извечная издательская проблема в изданиях, подобных данному: что включить в сборник, какие произведения и документы опубликовать, чтобы как можно полнее осветить жизнь и деяния главного действующего лица? А в случае с Деникиным она «усугубляется» плодовитостью Антона Ивановича – его литературное наследие велико и явно не соответствует формату отдельного тома. С одной стороны, как уже отмечалось, «Очерки русской смуты» – его главное произведение.
Но оно посвящено пусть и судьбоносному, но все же короткому отрезку времени из жизни Деникина, да и сам он, его судьба отодвинуты на второй план, уступив место национальной трагедии 1917—1920 гг. Последняя же книга Антона Деникина – «Путь русского офицера» – осталась, к великому сожалению, незаконченной, но она все же отражает значительный период его жизни – от рождения и первых лет жизни, становления как человека и русского офицера, до середины 1910-х гг., когда его имя уже гремело на фронтах Первой мировой.
Именно поэтому для нашего издания мы и выбрали такую схему: «Путь русского офицера» – основное произведение, стержень издания, и отдельные, самые важные главы из «Очерков русской смуты» – в качестве дополнения. Надеемся, что читатель не осудит нас за подобный выбор.
* * *
Бельгия – страна, дорогая для жизни. Так есть сейчас, так было и в 1920-х гг. Прожив в Брюсселе до июня 1922 г., Деникины, чтобы «вписаться» в скудный бюджет, решили перебраться в Венгрию. Венгерские официальные лица, как в свое время британские, не сразу смогли понять, что причины переезда «российского диктатора» – экономические. Но приняли их радушно, быстро оформили необходимые документы. Деникины поселились в Шопроне, небольшом городке на северо-западе Венгрии.
Поначалу «добротная» провинциальная глушь нравилась Антону Ивановичу, но затем он начал тяготиться оторванностью от людей и общественной жизни. Публикация «Очерков русской смуты» позволила поправить финансовое состояние, и в конце лета 1925 г. Деникины вернулись в Брюссель. Однако долго задерживаться в бельгийской столице они не собирались и весной следующего года перебрались в Париж – центр русской эмигрантской жизни.
Несмотря на свое пятилетнее «затворничество», Деникин по-прежнему оставался значимой фигурой в эмигрантской среде. И, как у любой значимой фигуры, вынужденной действовать в переломные моменты истории, у него было немало критиков. Непросто складывались отношения Деникина и его преемника на посту командующего ВСЮР Петра Врангеля, Антон Иванович серьезно расходился во взглядах с Российским общевоинским союзом (РОВС) – самой влиятельной эмигрантской организацией бывших участников Белого движения.
Гораздо спокойнее и приятнее складывались отношения Деникина с писателями, жившими в то время во Франции. Он тесно и плодотворно общался и обменивался опытом с Иваном Шмелевым, сотрудничал с Иваном Буниным и Александром Куприным, встречался с Мариной Цветаевой.
«Генерал не имел практической жилки,– говорил о Деникине Дмитрий Лехович.– В вопросах личного материального благополучия он был по-детски беспомощен. Мысль, что семья может очутиться в нищете, угнетала его. Единственным утешением (о котором, впрочем, он говорил только жене) было сознание, что, не в пример многим другим, он не скопил себе состояния, когда был у власти. Пришел он к ней с пустым карманом и таким же бедняком расстался с ней».
Что правда – то правда: Антон Иванович имел немало возможностей жить как минимум безбедно, но… В начале 1930-х гг. деньги, полученные от публикации «Очерков русской смуты» и других книг, закончились, и, чтобы поправить финансы, Антон Иванович решил читать лекции о международном положении. А оно, как известно, было непростым. Когда в Германии к власти пришел Гитлер, многие русские эмигранты приветствовали национал-социализм как средство борьбы с большевизмом. Деникин же категорически отвергал «пораженческую» идею: любое иностранное нашествие на Россию, лишь бы свергнуть большевиков.
Начало Второй мировой войны не было неожиданностью для Деникина. Но молниеносного крушения французской армии он не ожидал. Не желая жить «под немцами», Антон Иванович вместе с родными спешно выехал в Мимизан – городок на Атлантическом побережье, недалеко от испанской границы. Однако фашисты вскоре оказались и тут.
Врожденный антигерманизм Деникина (а что еще можно ожидать от человека, воевавшего с Германией в Первую мировую и считавшего, что именно Германия во многом поспособствовала приходу к власти в России большевиков) присовокупился к ненависти, которую вызывали «нынешние» захватчики. Антон Иванович не скрывал своего к ним отношения. Русские эмигранты, «лица без гражданства», обязаны были регистрироваться в местной комендатуре – но Деникин отказался проходить эту унизительную процедуру.
Несмотря на запрет властей, каждый год 14 июля, в день взятия Бастилии, он демонстративно дефилировал по центральной площади Мимизана. А когда к нему в Мимизан приехал немецкий генерал с сопровождающими с предложением сотрудничества, ответил, что его «не заставить надеть форму армии, которая стремится поработить его Отечество,– даже если меня за это расстреляют».
Антон Иванович искренне сопереживал Красной армии – ее неудачам в начале войны и успехам, когда наступил перелом. И так же искренне, всеми фибрами души, продолжал ненавидеть большевизм и его лидера – Сталина, которого считал «кровавым диктатором». Многим такая позиция казалась странной – им Деникин отвечал, что для России «не хочет ни ига, ни ярма».
В августе 1944 г. Париж был взят союзными войсками. Однако, опять же по причине безденежья, Деникины вернулись в столицу только в конце мая следующего года. Но и здесь они пробыли недолго…
Победа СССР в войне безусловно обрадовала Антона Ивановича. Однако усиление советского влияния и прокоммунистических настроений в странах Европы – и не только Восточной, но и Западной, в том числе и Франции,– вызывало у него озабоченность и тревогу.
Скорее всего, здесь сработал «антикоммунистический» стереотип Деникина – о его антифашистской позиции знали в СССР и вряд ли стали бы преследовать престарелого генерала. Но стоит ли осуждать за такую стереотипность мышления человека, который всю свою жизнь был непримиримым врагом большевизма?.. Так или иначе, Антон Иванович принял решение – «от греха подальше» – переехать из Франции в США.
7 декабря 1945 г. Антон и Ксения Деникины (дочь Марина решила остаться во Франции) прибыли в Нью-Йорк. Вскоре жизнь потекла своим чередом: Антон Иванович выступал с лекциями, работал над книгами, следил за тем, что происходит в мире. Разве что все чаще стало беспокоить сердце. Чтобы избежать нью-йоркской жары, летом 1947 г. Деникины воспользовались приглашением одного из друзей и перебрались на ферму в штате Мичиган.
20 июля у Антона Ивановича случился тяжелейший сердечный приступ. Его отвезли в ближайший город Энн-Арбор и поместили в больницу при Мичиганском университете. Казалось, что Деникину стало лучше, но 7 августа 1947 г., после очередного приступа, его сердце не выдержало. Последними его словами были: «Жаль, что я не увижу, как спасется Россия»…
А. Ю. Хорошевский


ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА
«Подруге дней моих суровых» – жене, помощнице в трудах, согретый ее заботами, связанный единомыслием, оставляю рассказ о начале моего бытия.
А. Деникин. Мимизан (Франция) 16 января 1944 г.
Часть первая
Родители
Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске[1]1
Ныне город Влоцлавек в Куявско-Поморском воеводстве Польши. (Здесь и далее, если не указано особо,– примечания редакции.)
[Закрыть] Варшавской губ., вернее, в пригороде его за Вислой – в деревне Шпеталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить после отставки отца.
Как известно, часть Польши, со столицей Варшавой, входила тогда в состав Российской империи.
Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за пять лет до наполеоновского нашествия на Россию (1807) в крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет… Поэтому о прошлой жизни отца – по его рассказам – у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания.
В молодости отец крестьянствовал. А 27-ми лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращался домой), меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась: родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету.
Где они и живы ли – он не знал. Только однажды,– был еще тогда отец солдатом,– во время продвижения полка по России, судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец – «вышедший в люди раньше меня»… Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед. И как жена брата вынесла ему прибор на кухню, «не пустив в покои»… Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались.

Солдатскую службу начал отец в царствование императора Николая I. «Николаевское время» – эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказании – «прогнать сквозь строй». Когда солдат, вооруженных ружейными шомполами, выстраивали в две шеренги, лицом друг к другу, и между шеренгами «прогоняли» провинившегося, которому все наносили шомпольные удары… Бывало, забивали до смерти!..
Рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном:
– Строго было в наше время, не то что нынче!
На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кое-чему подучился. И после 22-летней лямки, в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени – весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи.
В 1863 году началось Польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе, в районе города Петрокова[2]2
Ныне город Пётркув-Трыбунальский в Лодзинском воеводстве Польши.
[Закрыть] (уездного). С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Задолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным.
Ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков… Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома, с кратким приказом:
– Если через полчаса не вернусь, атаковать дом!
Зная расположение комнат, прошел прямо в зал. Увидел там много знакомых. Общее смятение… Кое-кто из не знавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся:
– Зачем вы тут – я знаю. Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не взыщите. А только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справиться с русскою силой. Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время.
Ушел.
Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стиля передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный.
В сохранившемся сухом и кратком перечне военных действий («Указ об отставке») упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при дер. Крживосондзе, банды Юнга – у деревни Новая Весь, шайки Рачковского – у пограничного поста Пловки, и т. д.
Почему-то про Крымскую и Венгерскую[3]3
Имеется в виду подавление революции в Венгрии (1848—1849).
[Закрыть] кампании отец мало рассказывал – должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про Польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать, а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды… Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений…
Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды «косиньеров» [4]4
За недостатком оружия, многие отряды были вооружены косами. (Примеч. автора.)
[Закрыть], пограничники – кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья – бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами… В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища: бешеной скачки голых и черных (от пыли и грязи) не то людей, не то чертей… Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксендза…
И т. д., и т. д.
Рассказывал отец и про другое: не раз он спасал поляков-повстанцев – зеленую молодежь. Надо сказать, что отец был исполнительным служакой, человеком крутым и горячим и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи – студентов, гимназистов. Отсылка в высшие инстанции этих пленных, «пойманных с оружием в руках», грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже.
Тем более что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц – самовластный и жестокий немец. И потому отец, на свой риск и страх, при молчаливом одобрении сотни (никто не донес), приказывал, бывало, «всыпать мальчишкам по десятку розог» – больше для формы – и отпускал их на все четыре стороны.
Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть-семь. Отцу пришлось ехать в город Липно зимой в санях – в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать.
Оказалось, бывший повстанец – один из отцовских «крестников».
Как известно, Польское восстание началось 10 января 1863 года и окончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискация имуществ, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима.
В 1869 году отец вышел в отставку, с чином майора. А через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; кажется, брак был неудачный.
Мать моя – полька, происхождением из города Стрельно[5]5
Ныне город Стшельно в Куявско-Поморском воеводстве Польши.
[Закрыть], прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом.
Когда происходила Русско-турецкая война 1877—1878 гг., отцу шел уже 70-й год. Он, заметно для окружающих, заскучал. Становился все более молчаливым, угрюмым и прямо не находил себе места. Наконец, втайне от жены, подал прошение о поступлении вновь на действительную службу… Об этом мы узнали, когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу: майору Деникину отправиться в крепость Новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны.
Слезы и упреки матери:
– Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова… Боже мой, ну куда тебе, старику…
Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что «папа мой идет на войну».
Но через некоторое время пришло известие: война кончалась, и формирования прекратились.

Детство
Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда – четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.
Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице: две комнаты, темный чуланчик и кухня. Одна комната считалась «парадной» – для приема гостей; она же – столовая, рабочая и проч.; в другой, темной комнате – спальня для нас троих; в чуланчике спал дед, а на кухне – нянька.
Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполлония, в просторечье Полося, постепенно врастала в нашу семью, сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком.
Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц, перед получкой, отцу приходилось «подзанять» у знакомых 5—10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой; бывало, дня два собирается, пока пойдет… 1-го числа долг неизменно уплачивался, с тем чтобы к концу месяца «начинать сказку» сначала…
Раз в год, но не каждый, спадала на нас манна небесная, в виде пособия – не более 100 или 150 руб. – из прежнего места службы (Корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов). Тогда у нас бывал настоящий праздник: возвращались долги, покупались кое-какие запасы, «перефасонивался» костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу – увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило.
Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последний мундир и военные штаны; одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились, пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдныя кончины,– как говаривал отец,– чтоб хоть в землю лечь солдатом»…
Помещались мы так тесно, что я поневоле был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно; мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне, работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши. Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости.
Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся – в долг, но, обыкновенно, без отдачи… Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо. Сыпались упреки:
– Что же это такое, Ефимыч, ведь нам самим есть нечего…
Или еще – солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Возмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать – в гневе:
– Ну кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов?..
Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом.

В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался… молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер.
Однажды мать бросила упрек:
– В этом месяце и до половины не дотянем, а твой табак сколько стоит…
В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба – мать и я – стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму.
Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел. Но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца.
Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец – никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден… Что карандаши у меня плохие, ломкие, а не «фаберовские», как у других… Что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, не полна и неисправна…
Что нет коньков – обзавелся ими только в 4-м классе, после первого гонорара в качестве репетитора… Что прекрасно пахнувшие, дымящиеся «сердельки» (колбаски), стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны… Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки, а на открытый берег реки родители не пускали… И мало ли еще что.
Но с купаньем был выход простой: уходил тайно с толпой ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами; одним из лучших пловцов стал. Прочее же – ерунда. Выйду в офицеры – будет и мундир шикарный, появятся не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть каждый день…
Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно социальную неправду,– это когда, благодаря скверной готовальне (только потому, так как чертежник я был хороший), учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный балл и я скатился вниз по ученическому списку.
И еще один раз… Мальчишкой лет шести-семи, в затрапезном платьишке, босиком, я играл с ребятишками на улице, возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист 7-го класса, Капустянский, и, по обыкновению, давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому:
– Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками!
Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому.
– Ах он, сукин сын! Гувернантки, видите ли, нет у нас. Я ему покажу!
Пошел к инспектору и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал – куда деваться, как извиниться.

Русско-польские отношения
Больные русско-польские отношения, вторгавшиеся в нашу жизнь извне, внутри ее не вызывали решительно никаких недоразумений. Отец был кровный русак, мать оставалась полькой, меня воспитывали в русскости и в православии. Собственно, «воспитывали» – в данном случае понятие относительное. В нем предполагается какая-то система, направление.
Ничего подобного не было. Я рос – по тесноте нашей – среди больших, много слышал, много видел, что нужно и ненужно было, воспринимал и перемалывал в своем сознании самолично, редко обращаясь к старшим за разъяснением по вопросам из области духовной.
Ни отец, ни мать не отличались лингвистическими способностями. К сожалению, это свойство унаследовал и я. Отец, прослужив в Польше 43 года, относясь к полякам и к языку их без всякого предубеждения, все понимал, но не говорил вовсе по-польски. Мать впоследствии старалась изучить русский язык, много читала русских авторов, но до конца своей жизни говорила по-русски плохо.
И так, в доме у нас отец говорил всегда по-русски, мать – по-польски, я же – не по чьему-либо внушению, а по собственной интуиции – с отцом – по-русски, с матерью – по-польски. Впоследствии, после выпуска моего в офицеры, когда матери пришлось вращаться почти исключительно в русской среде, чтобы облегчить ей усвоение русского языка, я и к ней обращался только по-русски. Но польского языка не забыл.
Не было никаких недоразумений и в отношении религиозном. Отец был человеком глубоко верующим, не пропускал церковных служб и меня водил в церковь. С девяти лет я стал совсем церковником. С большой охотой прислуживал в алтаре, бил в колокол, пел на клиросе, а впоследствии читал Шестопсалмие и Апостола.
Иногда ходил с матерью в костел на майские службы – но по собственному желанию. Но если в убогой полковой церковке нашей я чувствовал все свое, родное, близкое, то торжественное богослужение в импозантном костеле воспринимал только как интересное зрелище.
Иногда польско-русская распря доносилась извне…
В нашем городке под Пасху, в Страстную субботу, ксендзы и полковой священник обходили дома для освящения пасхальных столов. К нам приглашались и ксендз, и русский священник отец Елисей. Последний знал про этот наш обычай и относился к нему благодушно. Но ксендзы иной раз приходили, иной раз отказывались. Помню, какую горечь такой отказ вызывал у матери и какой гнев – у отца. Впрочем, один из ксендзов объяснил, что принципиальных препятствий он не имеет, но боится репрессий со стороны русской власти…
Однажды – мне было тогда лет девять – мать вернулась из костела чрезвычайно расстроенная, с заплаканными глазами. Отец долго допытывался – в чем дело, мать не хотела говорить. Наконец, сказала: ксендз на исповеди не дал ей разрешения грехов и не допустил к причастию, потребовав, чтобы впредь она воспитывала тайно своего сына в католичестве и в польскости…
Мать разрыдалась, отец вспылил и крепко выругался. Пошел к ксендзу. Произошло бурное объяснение, причем под конец перепуганный ксендз упрашивал отца «не губить его»… Власть в Привислянском крае была в то время (1880-е годы) крутая, и «попытка к совращению» могла повлечь ссылку в Сибирь на поселение. Конечно, никакой огласки дело не получило.
Не знаю, как проходили дальнейшие исповеди матери, ибо никогда более родители мои к этой теме не возвращались.
На меня эпизод этот произвел глубокое впечатление. С этого дня я, по какому-то внутреннему побуждению, больше в костел не ходил.
Надо признаться, что обострению русско-польских отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особенности в школьной области. Во Влоцлавском реальном училище, где я учился (1882—1889), дело обстояло так: Закон Божий католический ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; польский язык считался предметом необязательным, экзамена по нему не производилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем был немец Кинель, и по-русски-то говоривший с большим акцентом.
В стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квартирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны. И даже бывший варшавский генерал-губернатор Гурко, герой русско-турецкой войны, пользовавшийся в глазах поляков репутацией «гонителя польскости», не раз в своих всеподданнейших докладах государю, с которыми я познакомился впоследствии, указывал на ненормальность некоторых мероприятий обрусительного характера[6]6
В 1905 году вышел указ: преподавание польского языка и Закона Божия должно производиться на польском языке; во внеурочное время разрешено пользоваться «природным языком». (Примеч. автора.)
[Закрыть].

Нужно ли говорить, что все эти строжайшие запреты оставались мертвой буквой. Ксендз на уроках бросал для виду только несколько русских фраз, ученики никогда не говорили между собой по-русски, и только аккуратный немец Кинель тщетно пытался русскими словами передать красоты польского языка.
Я должен, однако, сказать, что эти перлы русификации бледнеют совершенно, если перелистать несколько страниц истории, перед жестоким и диким прессом полонизации, придавившим впоследствии русские земли, отошедшие к Польше по Рижскому договору (1921). Поляки начали искоренять в них всякие признаки русской культуры и гражданственности, упразднили вовсе русскую школу и особенно ополчились на Русскую Церковь. Польский язык стал официальным в ее делопроизводстве, в преподавании Закона Божия, в церковных проповедях и местами – в богослужении.
Мало того, началось закрытие и разрушение православных храмов: Варшавский собор – художественный образец русского зодчества – был взорван; в течение одного месяца в 1937 году было разрушено правительственными агентами 114 православных церквей – с кощунственным поруганием святынь, с насилиями и арестами священников и верных прихожан. Сам примас Польши в день Святой Пасхи в архипастырском послании призывал католиков в борьбе с православием «идти следами фанатических безумцев апостольских»…
Отплатили нам поляки, можно сказать, с лихвою! И впереди никакого просвета в русско-польской распре не видать.
Вернемся, однако, к нашему далекому прошлому.
Застав в училище такое положение, я, десятилетний мальчишка, по собственной интуиции нашел modus vivendi[7]7
Латинская фраза (от modus – способ и vivendi – жить), означающая согласие сторон сосуществовать с разными взглядами на определенный объект несогласия.
[Закрыть]: с поляками стал говорить по-польски, с русскими товарищами, которых было в каждом классе по три, по четыре,– всегда по-русски. Так как многие из них действительно ополячились, я не раз подтрунивал над ними, поругивал их, а иногда в серьезных случаях и поколачивал, когда позволяло «соотношение сил». Помню, какое нравственное удовлетворение доставило мне однажды (в 6-м классе), когда мой приятель – серьезный юноша и добрый поляк,– после одной такой сценки, пожал мне руку и сказал:
– Я тебя уважаю за то, что ты со своими говоришь по-русски.
Кроме поляков и русских, в каждом классе училища были и евреи – не более двух-трех. Хотя почти половина населения города состояла из евреев, которые держали в своих руках всю торговлю, и много среди них было людей состоятельных, но лишь очень немногие отдавали тогда своих детей в училище.
Остальные ограничивались хедером – специально еврейской, отсталой, талмудистской, средневекового типа школой, которая допускалась властью, но не давала никаких прав по образованию. В нашем реальном училище «еврейского вопроса» не существовало вовсе: сверху евреи не испытывали никаких ограничений, а в ученической среде расценивались только по своим моральным, вернее, товарищеским качествам.
В 7-м классе я учился уже вне дома, в Ловичском реальном училище, о чем речь впереди. Был «старшим» на ученической квартире (12 человек). Должность «старшего» предоставляла скидку – половину платы за содержание, что было весьма приятно; состояла в надзоре за внутренним порядком, что было естественно; но требовала заполнения месячной отчетности, в одной из граф которой значилось: «уличенные в разговоре на польском языке».
Это было совсем тягостно, ибо являлось попросту доносом. Рискуя быть смещенным с должности, что на нашем бюджете отразилось бы весьма печально, я всякий раз вносил в графу: «таких случаев не было».
Месяца через три вызывают меня к директору. Директор Левшин знал меня еще по Влоцлавскому училищу, откуда он был переведен в Лович, и любил. За что – не знаю. Должно быть, за то, что я порядочно учился и хорошо пел в ученическом церковном хоре – его детище.
– Вы уже третий раз пишете в отчетности, что уличенных в разговоре на польском языке не было…
– Да, господин директор.
– Я знаю, что это неправда.
Молчу.
– Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы: мы должны замирить и обрусить этот край. Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?