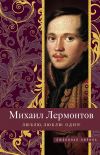Текст книги "Дьявол"

Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
В другом сказании. «О танцующей девице» – «некой девке танцовати обыкшей и пети беси что сотвориша», – столь тяжкие преступления повели к самым плачевным последствиям: «точио очи смешите, в том сне восхищена бысть от бесов; и занесоша ю беси в геену, и тамо ю тако опалиша, иже ни един влас на главе ее не бысть, и все тело ея великими вреды страшными обложися, и нестерпимый смрад испущая, и по опалении един демон главню ей горячую в уста ея вонзе, и рече: имей сие за песни и «за танцы и прелестные ризы; ризы ея ни следу опаления прияша. Обудися воплем страшным от болезни кричаще, матери же и иным пребывшим, что ей сотворися всем поведая; призванный же священник на исповеди ни единого смертного греха обрете, едино се, еже все тщание име танцевати и песни пети». Каждое ухищрение комфорта, каждое развлечение, хотя бы самое невинное на первый взгляд, могло стать для человека сетью дьявольской. Однажды св. Франциск Ассизский, жестоко мучаясь головной и зубной болью, позволил себе преклонить голову на пуховую подушку. Тотчас же набросился на него дьявол и издевался над ним, покуда св. Франциск не отбросил подушку прочь. Губерт из Ножана рассказывает, что два охотника заполевали демона под видом барсука и, думая, что имеют дело с обыкновенным животным, спрятали его в мешок и понесли домой. Но тотчас же на них напало бесчисленное множество демонов, так что они должны были выпустить своего пленника, а, придя домой, оба умерли. – Ubique daemon! (всюду демон!) – восклицает Сальвиан, ибо католический мир, действительно, умел открыть Сатану и в красоте, и в богатстве, и в таланте, и в науке, он грозно сиял в каждом пороке и умел скрываться за любой добродетелью.
При такой огромной и пестрой опеке над миром, дьяволам редко случалось сидеть без дела. Их жизнь-непрерывная скачка по суше и по водам в поисках добычи, непрерывный труд провокаций греха и подготовки удобной для него почвы. У дьявола всегда на руках тысячи затей ко вреду человечества, День и ночь вырываются из ада все новые и новые черти, один другого свирепей, все с новыми и с новыми затеями.
Ужас перед этим могуществом – необъятным, повсеместным, повсечасным – загипнотизировал средние века: вся их история затемнена легшей на нее тенью дьявола. По одной арабской сказке, в той крайней и неведомой, полной чудес и опасности части Атлантического океана, которая носила название Моря Мрака, – там, на горизонте, поднималась из грозных волн неизмеримо громадная черная лапа князя демонов, как страшное предостережение слишком отважным морякам. Так-то и в мире средних веков, над городами, стеснившимися вокруг островерхих церквей, как стада вокруг пастырей, поднимается гордым знаком мрачного владычества страшная рука Сатаны. И ужас перед ней, переполняющий души, принимает формы и краски, и пластику в уродливых призраках, в мрачных легендах, созидая целое искусство, заключенное в чудовищные образы и мучительную мысль.
В средние века большая часть верующих управлялась ужасом перед Сатаной и страхом ада в гораздо большей мере, чем любовью к богу и желанием рая. Тысяча способов и средств изобретались, чтобы воспрепятствовать могуществу великого врага и чтобы обмануть его ухищрения. Шли даже далее того. В попытках смягчить его свирепость смиренствовали перед ним, как бы перед богом с другой стороны – зловредным, но тоже всемогущим. Сатана получал молитвы, дары, жертвы. Французский бенедектинец Петр Берсюир (ум. 1362 г.) рассказывает такую историю. Где-то в горах итальянского города Нурсии (Norcia) есть озеро, обитаемое демонами, которые хватают и похищают всех, кто приближается к их жилищу, кроме профессиональных колдунов. Вокруг всего города была выстроена стена, охраняемая стражами, обязанными следить, чтобы колдуны не ходили к врагу с проклятыми книгами своих заклинаний. Ежегодно этот город должен был посылать в дань демонам живого человека, которого нечистые моментально разрывали на куски и пожирали. Для страшной жертвы выбирали, конечно, какого-нибудь злодея, присужденного к смертной казни. А если бы город уклонился от обычной дани и оставил демонов без жертвы, они опустошили бы Нурсию и даже, может быть, разрушили бы ее бурями.
Ужас к дьяволу поддерживала вера в близкое светопреставление, которая не раз прокатывалась по средневековому миру острыми вспышками, похожими на эпидемический психоз. А было известно, что на некоторое время, незадолго до конца мира, могущество Сатаны, с соизволения божия, должно возрасти безмерно. Конечному торжеству добра должно было предшествовать такое переполнение мира развратом и всяческим злом, какого и не видано раньше на земле и самая пылкая фантазия не в состоянии вообразить. Сатана осужден на низложение и казнь, но побежден будет не прежде, чем даст последнюю и отчаянную битву богу и его церкви.
Глава седьмая
Любовь и дети дьявола Инкубы и суккубы
Самым тяжким и вместе с тем наиболее известным явлением одержимости было соединение дьявола с мужчинами и женщинами рода человеческого в плотскую связь и нарождение, через то, особой породы сатанинских – существ, уже самым актом появления своего на свет обреченных аду, а, во время земной своей жизни, успевающих, обыкновенно, нанести человечеству жесточайший вред.
Способность любви и деторождения, по-видимому, признавались за демонами вообще, так как еще кабалисты считали, что, помимо мужских и женских форм, которые дьяволы могут принимать на себя, как оборотни, они и сами по себе делятся на женских и мужских, сочетаются между собой и размножаются, как люди. Народные сказки Германии хорошо знают женщин-дьяволов, но все старух: чертову бабушку, чертову матушку, – не особенно злые существа, охотно вступающиеся за людей перед своим свирепым внуком или сыном. В поверьях и пословицах малороссов «Чертова мать» даже очень популярна, «Дочекався чертовой мами» и т. д. Если «дощ йди кризь сонце», то-есть при солнечном сиянии, это значит, что «черт жинку бье» либо «дочку замуж виддае». Однородные приметы-поверья и соответственные поговорки имеются у чехов, польских русинов, французов (le diable bat sa femme) и немцев (Афанасьев). Женщины-демоны одинаково популярны как в славянских, германских, латинских и кельтических поверьях (русалки, виллисы, феи, никсы и пр.), но, в большинстве, это не настоящие адские дьяволы, а стихийные духи, они сами по себе. Подобно домовым, лешим и т. д. это скорее союзная и вассальная Сатане, чем истинно дьявольская сила. Однако, как справедливо отметил Костомаров в своем, послесловии к «Повести о Соломонии Бесноватой», – русские, «бесы составляют свой отдельный материальный мир и, как животные, разделяются на два пола; к Соломонии приходит в качестве повитухи, темнозрачная баба уже не человеческой, а бесовой породы. Русский народ повсеместно изображает бесов, – под образом двух полов; существует слово чертовки; существуют рассказы видевших бесовских самок. Один мужик в Новгороде мне (Костомарову) рассказывал, что он собственными глазами видел ночью на озере Ильмене черную бабу, которая сидела на камне, мылась и хохотала, потом исчезла. Это была, по его понятию, не русалка, но чертовка, бес женского пола».
Раввины приписывали перво-дьяволу Самаэлю четырех жен, от которых и расплодилось бесчисленное дьявольское племя. Но, вообще-то, жена черта – существо, не определившееся в поверьях, хотя иногда и упоминаемая. Черт гуляет по свету холост, не найдя себе невесты под пару. Половую энергию, которую приписывали ему некоторые богословы и между ними особенно энергично Михаил Пселл, он избывает в свободных союзах с женщинами человеческими – с ведьмами на шабашах, либо в том виде напущения (obssessio), которое носило название инкубата.
По определению специалистов черной мистики, инкубы суть демоны, соединяющиеся плотской любовью с женщинами, а суккубы – дьяволицы, преследующие с той же целью мужчин.
Угрюмо-страстное поверье об инкубах и суккубах восходит к древнейшим временам человечества, чуть ли не к началу мира. Змий, соблазнивший Еву, не кто другой, как инкуб Самаэль. По талмудическому преданию (рабби Илии), Адама, в течение 130 лет, посещали чертовки, которые и народили он него ларвов и суккубов. Вероятно, затем, чтобы остепенить молодого человека, и пришлось женить его на Еве. У праотца – похождения с бесовками, праматерь – жертва влюбленного беса: нечего сказать, – замечает Артуро Граф, – недурное начало для рода человеческого! Свирепого Каина почитали сыном Сатаны не только некоторые раввины, но и грек Суида (XI век) в знаменитом «Словаре» своем, толкуя в этом смысле 44-й стих VIII главы Евангелия от Иоанна: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Книга Бытия говорит о падении сынов божьих в союзах с дщерями человеческими. От этих браков родились гиганты.
Теологическая литература об этом приключении огромна. Конечный вывод ее, что павшие сыны божьи – ангелы, изменившие небу, чтобы стать инкубами. Байрон превратил схоластическое доказательство в чудные мысли и краски мистерии «Небо и Земля». Вообще, фантазия поэтов-байронистов не мало поработала во славу инкубата. Чтобы не ходить далеко за примерами, достаточно будет назвать нашего Лермонтова, который возился с этим сюжетом всю свою недолгую жизнь: написал суккуба («Ангел смерти»), написал инкуба («Демон») и принялся было за другого («Сказка для детей»), но умер. После него, кажется, уже никто из русских классиков не посягал на тему, исчерпанную волшебной страстью лермонтовского стиха. «Сон», «Клара Милич» и «Призраки» Тургенева – довольно слабые рассказы с печатью той внешне красивой и сложной придуманности, которой в авторах-реалистах всегда выдается отсутствие фантастического настроения и недостаток веры в свой собственный искусственный замысел, – ближе относятся уже к иной, хотя и смежной, области фантастического царства: к вампиризму.
В 80-х годах XIX века в русской интеллигенции поднялся интерес к демоническим галлюцинациям – под впечатлением наблюдений Шарко, Рише и др. в области гипнотизма и большой истерии. Интерес был еще чисто материалистический. Пример ему давал из Франции сам Гюи-де-Мопассан, литературный божок нашей молодежи. Не мало в то время было написано рассказов, лукаво скользивших по зыбкой границе между физиологическим познанием и суеверной тайной. Кое-кто из восьмидесятников, однако, поплатился за эти опасные игрушки. Безумия заразительны, и многие, подходившие к спиритизму, теософии, магии и т. п., одевшись в броню научного скептицизма недостаточно толсто, потом сами становились спиритами, теософами, служили черные обедни, заболевали духовидением, и с перепуга уходили в аскетизм, под покровительство той или другой властной церкви. Напомню всесветно громкий пример Гюисманса (Huysmans). Смолоду он, ученик Золя и товарищ Мопассана, почти гениальным романом своим «Марта» взял самую высокую ноту художественного натурализма. Затеял писать исторический роман о ведовстве (подобный тому, как Н. К. Михайловский, после «Бесов», советовал написать Достоевскому), ушел в изучение средневековья и – утонул в наплыве чудовищных материалов. Исторического романа он не написал, он сделался демономаном. Его «La Bas» и «Au Rebours» наделали, в свое время, много шума и сыграли значительную роль в развитии сатанической литературы и пропаганде мистического миросозерцания. Кончил жизнь Гюисманс католиком, с чисто мужицкой дуалистической верой-испугом, прячущейся под патронат доброго белого начала от страха к началу злому и черному. Говорят, впрочем, что в последние годы и это с него схлынуло, и он понемногу, как выздоравливающий, начал возвращаться к идеям своей молодости. Если это правда, – ну, и тяжело же было ему доживать, в сознательной оглядке, даром испорченную жизнь.
Поэтический неоромантизм, долго слывший у нас под неопределенно-широким именем декадентства, широко открыл недра свои всем мистическим настроениям и потому сделался усерднейшим адвокатом всякой сверхчувствительности, в том числе и демонологической. Если позволено будет сыграть словами, то главный интерес к сверхчувствительности истекал из вычурной чувствительности, и понятно, что сладострастные сказки об инкубах и суккубах выползли в литературных бредах 1895–1909 гг. на первые, почетные места. Им отдали дань решительно все мало-мальски крупные поэты и прозаики неоромантизма: Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов и т. д. Особенно же любопытна в этом отношении покойная Лохвицкая – Жибер, талантливая поэтесса, с блестящим стихом, разнообразно выкованным из пестрот «озлобления плоти». Этой писательнице, в ее бесчисленных перепевах всевозможных чувственных суеверий, иногда удавалось не только найти средневековое демонологическое мировоззрение, но и слиться с ним в совершенную искренность ужаса или восторга. Две огромные драмищи ее – «Бессмертная любовь» и «In nomine Domini» – очень плохи, но бесовская сторона даже и в них превосходна. В мелких же балладах Лохвицкой, воспевающих тайны шабашей и дьявольские поцелуи, дышит энергия такой правдивой страсти, что невольно соглашаешься с известным утверждением Авксентия Поприщина, будто женщина влюблена в черта. Единственная из всех наших демономанов и демономанок, твердящих свою дьявольщину с прозрачным и далеко не всегда умелым притворством, точно зазубренный урок из черной магии, единственная Лохвицкая нашла в себе родство со знойным безумием средневековой истерички.
Искренность Лохвицкой настолько убедительна, что, несмотря на пламенное сладострастие, разлитое в стихах ее, ни одна даже из самых буйных и беззастенчивых грез поэтессы не пробуждает в читателе мысли:
– А не порнография ли?
Мысли, к сожалению, почти неотлучной при чтении российских Гюисмансов. Одной балладой «Мюргит» Лохвицкая сказала о сатаническом бунте женщины, создавшем на границе средневековья и Возрождения эпидемию колдовства и контр-эпидемию костров, гораздо больше и яснее, чем огромная часть ученых исследований. «Мюргит» Лохвицкой настолько же реально ярка и глубока, как «Бесы» Пушкина, как «Морская царевна» Лермонтова, а местами достигает и красоты их сжатого стиха и веско скупого слова.
* * *
Языческая свобода плоти несомненно и тенденциозно преувеличена, апологетикой первых христианских веков. Юристы на этот счет иного мнения, чем теологи. Но, во всяком случае, античный мир, построивший свои общества и государства не только на поощряемости, но даже и на принудительности брака и деторождении, врагом полу не был и к запросам его относился просто, как во всякой другой физиологической потребности, привычке, странности, страсти. Отношение к половому развратнику в этической литературе античного мира приблизительно такое, как в современной – к привычному пьянице или опиофагу, на человека кладется пятно порока, но не клеймо греха. Половая эксцентричность в античном обществе отнюдь не похвалялась, но с ней считались, глядя по непосредственному вреду ее, личность, семья, государство, обычное право, а не религиозный принцип, враждебный и запретный. Половая сказка Эллады и Рима всегда проста, светла и улыбчива. Мрак ненависти в нее наплывает только с Востока, из «религий страдающего бога». И – когда Восток овладел миром через победу христианской государственности, то перед грозными глазами его аскетического идеала померкла, половая сказка, и веселый олимпийский день ее почернел – в адскую полночь. Грациозный миф об Эросе и Психее, обессмертивший имя Апулея становится колдовской историей, подлежащей духовному суду, с пыткой и костром. Александр Великий, Август выдумывали себе происхождение от инкубов, чтобы придать себе божественный блеск в глазах покоренных народов, но не только английские Плантагенеты, а уже византийский Юстиниан борется с подобными легендами о своем происхождении, как со злейшей обидой роду.
Сказка о Роберте Дьяволе, сыне инкуба, известна даже и тем, кто никогда не занимался ни историей средних веков, ни фольклором, и тем, кто никогда не занимался ни историей средних веков, ни фольклором, – по знаменитой опере Мейербера. Музыка ее уже отжила свой век, но в романтическом движении тридцатых годов прошлого столетия она сыграла большую роль и остается типическим его памятником. Мейербер был необыкновенно умный знаток публики и мастер потрафлять на вкус эпохи. Запустив руку в самую сердцевину романтической мифологии, он вытащил оттуда на потребу века как раз самое характерное и любимое из черных поверий средневековья: грех принцессы соблазненной инкубом. И, с легкой руки Мейербера, сверхъестественный любовник и призрачная любовница начинает владычествовать в музыке столько же, как и в поэзии. Ныне совершенно забытый Маршнер прославился «Гансом Гейлингом» и «Вампиром». Герольд в «Цампе» даже предупредил Мейербера, рассказав звуками популярную итальянскую легенду о суккубе – мраморной статуе покинутой невесты. О балете я уж и не говорю: его романтика – постоянный апофеоз инкубата. Наконец, Вагнер сделал для мифа больше, чем кто-либо: любовное общение стихийных демонов со смертным человечеством – сюжет, пронизывающий все его оперное творчество, за исключением «Мейстерзингеров» и «Риэнзи». Не знаю, возможно ли выразить страсть и философскую глубину мифа о суккубах словами с большей силой и поэтическим проникновением, чем сумел Вагнер – музыкой Венеры в «Тангейзере».
У нас в России тему сверхъестественной любви – кроме Рубинштейна, счастливо создавшего «общедоступного», а потому гораздо выше своих достоинств любимого «Демона» – (после Рубинштейна писали музыку на тот же сюжет барон Фингоф-Шель, П. И. Бларамберг и Э. Ф. Направник), – особенно усердно разрабатывал Н. А. Римский – Корсаков, Фея в «Антаре», Снегурочка, царевна Волхова, Лебедь, Шемаханская царица, Кащей – удивительнейшие памятники не только внешне – музыкальных красот, но и совершенно исключительного истинно народного чутья к тайне стихийного мифа. Одна из гениальнейших страниц во всей русской музыке – сцена очарования Ратмира в «Руслане и Людмиле» Глинки – еще ждет какого-нибудь своего Шаляпина в юбке, который растолкует публике сжигающую страстность этой бесовской галлюцинации. Обыкновенно тайны сцены этой безнадежно пропадают в бессмысленной рутине невежественных певиц и вульгарного кордебалета. Создание музыкального типа, подобное тому, которое Шаляпин дает в каждой своей парши, а Фелия Литвин и Ершов – в вагнеровском репертуаре, еще не выпало на долю Глинки. Темная власть демона, дышащего из страшных фраз Ратмира, остается еще невысказанной тайной. Может быть, оно и к лучшему, потому что иначе пролилась бы со сцены в зал страстная зараза, в сравнении с которой волшебство «Крейцеровой Сонаты», как расписал его, к слову сказать, совершенно произвольно Л. Н. Толстой, должно показаться чуть не детской молитвой. Я думаю, что, если бы Глинка вложил музыку Ратмира в уста тенора, то эта сцена была бы самым страшным оружием обольщения, какое когда-либо создавала музыка. Но судьба заступилась за женский пол, надоумив великого композитора к расхолаживающей ошибке поручить глубочайшее выражение мужской страсти – женщине в мужском костюме, то-есть воплотить его в глазах и воображении публики существом какого-то среднего пола: ни мальчик, ни девочка, ни для женской любви, ни для мужской. Глубокие контральто, которых требует партия Ратмира, довольно редки, и всего чаще слышишь в Ратмире меццо-сопрано: новое препятствие к полноте впечатления.
* * *
«Ожидание божественного сна», о котором кричит и стонет Лохвицкая, – чувственное одиночество, бунт пола против вынужденного целомудрия, – и есть та атмосфера, в которой, – как выражается едва ли не талантливейший критик современной Франции, но в то же время один из самых лукавых магов века, Реми-де-Гурмон, – «материализуется инкуб». Древность довольно богата сказками этого поверья: они отразились даже в законодательстве Моисея (Второзаконие, 4; Левит). Античный мир Эллады и Рима узаконил инкубат и суккубат бесчисленными баснями своей мифологии, с которыми вела беспощадную борьбу христианская апологетика, а неоплатоники тщетно пытались перевести их в стихийные символы пантеизма. Отцы церкви верили в инкубов. Бл. Августин зовет их еще по-старинному, из языческого мифа, фавнами и сатирами. Аскетическая пустыня, где мучились сверхчеловеческой борьбой с голосом плоти Антоний, Иероним и другие, оставившие нам потрясающие летописи своих искушений, сделалась рассадником и лабораторией, мучительно грустных легенд, которые через «Житие святых» и устное предание прошли сквозь средние века, обновились в эллинизме Возрождения и, на зло рационализму, материализму и позитивизму новой цивилизации, благополучно доползли до XX века. Романтические эпидемии, пролетающие время от времени над Европой, оживляют и укрепляют старый миф, вечно возвращающийся на первое – по существу, но расцветающий новыми красотами символов, образов и формы, Старая сказка Филострата о невесте – Эмпузе, разоблаченной Апполоном Тианским, доживает до чести превратиться в «Коринфскую невесту» Гете. Гностический маг, выдававший свою любовницу за перевоплощение Елены Спартанской, воскресает в «Фаусте» Марло, а еще 200 лет спустя Гёте пользуется той же наивной сказкой о суккубе – Елене для одного из грандиознейших исторических символов, обратив союз Фауста и Елены в призрачный праздник Возрождения. Венера, перестав быть богиней, сохранила свои чары, как прелестнейшая и губительнейшая из чертовок. Она очаровала и завлекла в вечный плен доблестного рыцаря – поэта Тангейзера, за что XIX век мог послать ей позднее, но заслуженное спасибо, так как этой легенде мы обязаны чудесной балладой Гейнриха Гейне и гениальной оперой Рихарда Вагнера. Тангейзер был не единственной жертвой богини. Во мраке и скуке узких средних веков ее-древнюю и неувядаемо юную – любили и искали многие, и она многих любила, как в старицу, – по крайней мере, также ревновала. Английский летописец XII века, Вильгельм Мальмсберийский, рассказывает сильным и красочным латинским языком удивительный случай, как некий знатный римский юноша сенаторского рода был захвачен демоном Венерой в самый день своей свадьбы. В промежутке пира брачные гости задумали сыграть партию в шары. Боясь сломать обручальное кольцо, молодой снимает его и, чтобы не потерять, одевает на палец близстоящей статуи. Окончив игру, он подходит, чтобы взять свое кольцо обратно, но с изумлением видит, что палец статуи, бывший дотоле прямым, согнут и крепко прижат к ладони. Пробившись довольно долго, но напрасно, чтобы возвратить кольцо, юноша возвратился к пирующим друзьям, но о приключении своем не сказал ни слова, боясь, что его поднимут на смех, или кто-нибудь пойдет тайком, да и украдет кольцо. Когда пир кончился и упали сумерки, он, в сопровождении нескольких домашних и слуг, вновь идет к статуе и – поражен, видя палец опять прямым, а кольцо исчезло. Жене удалось рассеять его смущение и досаду на убыток. Наступила брачная ночь. Но едва юноша лег рядом, с супругой и хотел к ней приблизиться, как почувствовал, что между ним и ею волнуется нечто неопределенное – как будто густой воздух – ощутимое, но невидимое. Отрезанный таким образом от супружеских объятий, молодой муж вслед за тем слышит странный голос:
– Будь не с ней, а со мной, так как сегодня ты обручился и мне. Я Венера. Ты надел мне кольцо на палец. Кольцо у меня, и я его больше не отдам.
Юноша, испуганный чудом, не посмел возразить ни слова, и провел остаток ночи без сна, молча обсуждая в душе этот загадочный случай. Прошло немало времени, но, в какой бы час он не пробовал приблизиться к супруге, всегда слышал и чувствовал то же самое, – вообще же оставался мужественным хоть куда и способным, лучше чего желать нельзя. В конце концов, побуждаемый жалобами жены, он во всем открылся родным, и семейный совет пригласил уврачевать его некого священника из пригорода, по имени Палумба. Этот Палумб был знаток черной магии и командовал демонами, как ему было угодно. Заранее выговорив огромнейшее вознаграждение, он пустил в ход все свое искусство и, написав письмо магическими знаками, вручил его молодому человеку, с наставлением: – Поди, в таком-то часу ночи, на такой-то перекресток, где дороги расходятся на четыре стороны света, и внимательно смотри, что будет. Пройдут там многие человеческие образы мужского и женского пола, всяких возрастов, сословий и состояний; иные – верхом, другие – пешие, одни – с повешенной головой, другие – с гордо поднятым носом, в их лицах и жестах ты увидишь все виды и образы радости и скорби, сколько есть их на земле. Ни слова ни с одним из них даже если кто заговорит с тобой. За толпой этой будет следовать один – всех выше и грузнее, – восседающий на колеснице. Молча подай ему письмо, и желание твое исполнится немедленно, если только ты не струсишь и будешь действовать решительно, как прилично мужу.
Молодой человек отправился, куда, ему было указано, и ясная ночь показала ему все чуда, обещанные Палумбом. Между проходившими призраками он вскоре заметил женщину, едущую на лошачихе, одетую как куртизанка, с волосами, распущенными по плечам, и золотой диадемой на голове. В руках она держала золотой хлыст, которым подгоняла свою лошачиху; по тонкости одевавших тканей тело ее казалось как бы нагим, и она бесстыже выставляла его вызывающими жестами. Это и была – богиня Венера. Наконец, вот и последний – на великолепной колеснице, сплошь отделанной изумрудами и жемчугами. Вперив ужасные глаза свои в лицо молодого человека, он спросил:
– Зачем ты здесь?
Но тот, не отвечая, протянул к нему руку с письмом.
Демон, видя знакомую печать, не осмелился не принять письма и, в негодовании воздел руки к небу, воскликнул:
– Всемогущий боже! Доколе же ты будешь терпеть подлости Палумба!
Затем, не теряя времени, он послал двух своих приспешников немедленно взять у Венеры требуемое кольцо. Чертовка долго сопротивлялась, однако, отдала. Таким образом, получив желаемое, молодой человек был возвращен объятиям законной любви. Но Палумб, когда узнал, что демон воззвал против него жалобу к богу, догадался, что, значит, близок его конец. Поэтому, чтобы избежать лап гневного дьявола, он поторопился сам устроить себе искусственное мученичество: велел обрубить себе руки и ноги и умер с жалобным покаянием, исповедавшись перед папой и всем народом, в неслыханных преступлениях и грехах. Любопытно, что подобный, плачевный конец с предсмертной пыткой в искуплении чародейства – легенда приписывает папе Сильвестру II (знаменитому ученому математику Герберту, ум, 1003).
Гейне в «Стихийных духах» рассказывает эту легенду в несколько ином варианте, подставляя на место Венеры Диану и давая ей, более царственную, роль в ночном бесовском поезде. Во времена Вильгельма Мальмеберийского эта история была ходячей в Риме и рижской Кампанье, и матери передавали ее детям, чтобы она жила в памяти поколений из рода в род. Действительно, ей посчастливилось дожить, в числе немногих сохранившихся народных сказок Италии, до нашего времени. В прошлом столетии, из эпизода статуи, похищающей кольцо, Герольд взял сюжет для оперы. («Цампа»), и – не помню кто – кажется Пуни – для балета «Мраморная невеста». В изящной словесности тот же сюжет обработан Проспером Мериме в волнующей повести «La Venus d'ille» (Венера Илльская). Вилльмен, заимствуя легенду из летописи некоего Германа Контракта (Hermannus Contractus), воспользовался ею в своей «Истории Григория VII» для характеристики суеверий, царивших в Риму XI века. Но она была широко распространена в продолжение всего средневековья. Ею пользовались как доказательством демонического характера древних богов и подтверждением их способности вступать в брачные союзы с людьми. Фабула на тему статуи-невесты имеется в старых сборниках западного фольклора Меона и Ле Гран д'Осси (Le Grand d'Aussy). Но, помимо целей полемических, христианство, в особенности по утверждению безбрачия духовенства, воспользовалось столь благодарной темой и с целью дидактической. В книге Ле Гран д'Осси (Contes devots, Fables et Romans anciens pour servir de suite aux fabliaux, Paris, 1781) есть монашеская поэма XIII века в рифмованных стихах, под заглавием «О человеке, который надел обручальное кольцо на палец пресвятой богородице» (De celui qui met l'anneau nuptial au doigt de Notre-Dame»). В этой поэме молодой римлянин уже подменен молодым веселым дьяконом, а статуя Венеры или Дианы – статуей мадонны. Эпизод с кольцом, которое статуя принимает вместе с клятвой «не любить другой женщины кроме тебя», остается неизмененным. Дьякон женится, но в брачную ночь ему является, в сонном видении, дева мария:
– Лгун и изменник! – восклицает она, – где же твое обручение со мной?
И – отделила дьякона от молодой его супруги. Конец дидактически изменен. Христианский обет клирика богородице, конечно, сила более крепкая, чем шутка какого-то полуязычника с Венерой или Дианой, – и против вмешательства оскорбленной мадонны в семейную жизнь дьякона не нашлось, конечно, никакого Палумба. Дьякон покидает свою жену, раздает имущество, бежит в пустыню и постригается в монахи. (P. Saintyves. Les saints successeurs des dieux.). Распространенность мифа в такой христиански перерожденной версии достаточно доказывается тем обстоятельством, что Цотенберг нашел это чудо, среди других чудес святой девы, в одном рукописном сборнике Парижской Национальной Библиотеки.
Такое перерождение пережили с течением веков не только легенды, но и самые феномены «инкубата» и «суккубата». В XIX веке, – говорит Жюль Делассю, – случаи были не так часты, вернее – реже получали огласку. Наука, презирающая все оккультное, видит в наблюдаемых ею случаях не более как болезни пола, для происхождения которых она не ищет особых внешних причин. Зато если бы можно было откровенно поговорить с духовенством, мы наслушались бы редкостных признаний. Но священников сдерживает тайна исповеди, а также боязнь религиозного скандала, которые могли бы произвести подобные разоблачения. По изредка всплывавшим все-таки гласным признаниям такого рода, совершенно ясно, что в наше время побежденный средневековый демон, для любовных похождений в качестве инкуба или суккуба, систематически «облачается в ангела света», и в фантастических романах истериков и истеричек место дьяволов и дьяволиц заняли взятые обоего пола, не исключая – и чаще всего – стоящих на самых высоких ступенях небесной иерархии. (Случай эсктатички Мари Анж в 1816–1817 гг.; случай Гауденберга в 1855 году. В обоих влюбленная греза витает вокруг видений и. христа и девы марии).