Текст книги "Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение"
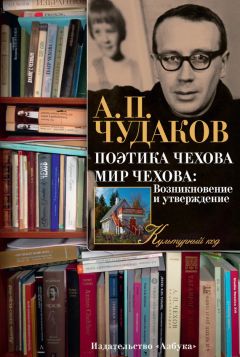
Автор книги: Александр Чудаков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.
Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника» («Гусев»).
«Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая» («Спать хочется»).
«А на другой день в полдень Зинаида Федоровна скончалась» («Рассказ неизвестного человека»).
«К вечеру он затосковал, просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил, потом затих под тулупом и к утру умер» («Мужики»).
«Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой» («В овраге»).
В большинстве случаев самое главное – сообщение о катастрофе – из потока рядовых бытовых эпизодов и деталей не выделяется даже синтаксически. Оно не составляет отдельного предложения, но присоединено к другим, входит в состав сложного.
Сюжетный сигнал, предупреждающий, что предстоящее событие будет важным, чеховская художественная система допускает лишь в рассказах от 1-го лица.
«…но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность» («Ариадна»).
«А потом что было? А потом – ничего» («Рассказ госпожи NN»).
Разрешается предварять историю и рассказчикам вставных новелл: «Нет, вы послушайте, – говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. – Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте…» («Попрыгунья»).
В рассказах от 1-го лица встречаются и традиционные философские вступления, которые сам рассказ должен подтвердить и обосновать. Такова «интродукция в историю» – рассуждение Шамохина о женщинах в «Ариадне», рассуждение Буркина о «футлярном» атавизме («Человек в футляре»), Алёхина о любви, о том, что надо «индивидуализировать каждый отдельный случай» («О любви»).
В рассказах же в 3-м лице единственный случай сюжетного ударения на предуготовляемом событии встречается в «Палате № 6».
Важнейшее событие повести, на котором держится вся фабула, сюжетно отмечено до того, как оно случилось:
«Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.
Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.
Странный слух!»
«Палата № 6» вообще необычна для поэтики зрелого Чехова и некоторыми чертами близка к рассказам от 1-го лица (см. гл. II, 6). Кроме того, предварение это не столь явно и конкретно, как в рассказах от 1-го лица. Оно дано в конце четвертой главы и на ближайшем повествовательном пространстве никак не реализовано. В главах пятой – седьмой излагается история жизни Андрея Ефимыча, в главе восьмой – доктора Хоботова. Только в девятой главе повествование возвращается к тому, на что намекалось. Но как подается теперь это событие?
«В один из весенних вечеров <…> доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка <…>
– Дай копеечку! – обратился он к доктору».
Доктор подал милостыню, вслед за Мойсейкой зашел во флигель и случайно разговорился с Громовым. Так, под маской случайного, введено событие, имевшее для героя роковые последствия. Акцент, сделанный в четвертой главе, снимается. Важность события затушевывается.
Ввод события в дочеховской литературной традиции бесконечно разнообразен. Но в этом бесчисленном многообразии есть общая черта. Место события в сюжете соответствует его роли в фабуле. Незначительный эпизод задвинут на периферию сюжета; важное для развития действия и характеров персонажей событие выдвинуто и подчеркнуто (способы, повторяем, различны: композиционные, словесные, мелодические, метрические). Если событие значительно, то это не скрывается. События – высшие точки на ровном поле произведения. Вблизи (например, в масштабах главы) видны даже небольшие возвышенности; издали (взгляд с позиции целого) – только самые высокие пики. Но ощущение события как иного качества материала сохраняется всегда.
У Чехова иначе. Сделано все, чтобы эти вершины сгладить, чтобы они были не видны с любой дистанции.
Само впечатление событийности, того, что происходит нечто существенное, важное для целого, – гасится на всех этапах течения события.
1. Оно гасится в начале. В эмпирической действительности, в истории крупному событию предшествует цепь причин, сложное взаимодействие сил. Но непосредственным началом события всегда является эпизод достаточно случайный (сараевское убийство). Историки различают это как причины и повод. Художественная модель, учитывающая этот закон, будет выглядеть, по-видимому, наиболее приближенной к эмпирическому бытию – ведь она создает впечатление не специальной, открытой подобранности событий, но их непреднамеренного, естественного течения. Именно это происходит у Чехова с его «нечаянными» вводами всех важнейших происшествий.
2. Впечатление важности события затушевывается в середине, в процессе его развития. Оно гасится «лишними» деталями и эпизодами, изламывающими прямую линию события, тормозящими его устремленность к разрешению.
3. Впечатление гасится в исходе события – неподчеркнутостью его итога, незаметным переходом к дальнейшему, синтаксической слиянностью со всем последующим.
В результате событие выглядит незаметным на общем повествовательном фоне; оно подогнано заподлицо с окружающими эпизодами.
Но факт материала, не поставленный в центр внимания, а, напротив, уравненный сюжетом с прочими фактами, – и ощущается как равный им по масштабу. Незначительны они – как неважный ощущается и он. Событие выглядит как несобытие.
Психологический эффект от такого сюжетного оформления результативного события близок к эффекту от события с нулевым результатом (см. гл. V, 6). Разница лишь в том, что там – это явление материала, а здесь – формы, стиля.
Легенда о бессобытийности Чехова основывается, таким образом, не только на фактах материала, но и на фактах стиля. В основе впечатления, ее питающего, как это часто бывает, – существенная черта поэтики, неверно и прямолинейно истолкованная.
Итак, каждый событийный элемент фабулы ликвидируется либо в самом материале («нулевой результат»), либо гасится сюжетом. Делается все, чтобы событие не было дано в его субстанциональном виде. Оно предстает не как нечто заведомо важное, но как событие, роль которого в фабуле повествователю неизвестна. Единственность события не оговорена, уникальность затушевана. По сюжетному оформлению события нельзя предсказать, чем оно явится для произведения.
Событие у Чехова мало напоминает то, что обозначается этим словом в других художественных системах. Применительно к «событию мира Чехова» более всего был бы точен термин Фернана Броделя «кратковременность»[193]193
Historie et sciences sociales. La longue durе́e // Annales. 1958. Octobre – dе́cembre. P. 749–751.
[Закрыть] – то есть краткий отрезок текущего бытия, вобравший в себя всё без исключения, произошедшее в это время. Поэтому история у Чехова – не история событий, но история «кратковременностей». См., например, рассказ «Студент», в котором известный эпизод – ночь после тайной вечери – представлен как нерасчлененный комплекс бытия, где костер, холод, ночь, то есть элементы «антуража», по эмоциональной значимости приравнены к самим действиям людей.
8
Уже рецензенты первых сборников Чехова говорили о «незавершенности», «оборванности»[194]194
Ав-въ <Гольцев В. А.?>. Чехов. «В сумерках» // Русские ведомости. 1887. 1 сентября. № 240.
[Закрыть], «недоговоренности»[195]195
<Без подписи>. «В сумерках». Очерки и рассказы Ан. П. Чехова // Петербургская газета. 1887. 10 сентября. № 248.
[Закрыть] его рассказов, о том, что у них нет «конца». Это расценивалось как недостаток. Правда, Н. Михайловский, например, отмечал, что талант Чехова заставляет читателя довольствоваться «обрывками, как целым; незаконченным, как законченным, получая при этом своеобразно цельное художественное впечатление». Но вывод был тем не менее однозначным: молодому автору давался совет писать «законченно»: «…читатель все-таки, может быть, заинтересуется: дескать, ну как же дальше жили дьячок с „ведьмой“, пожаловался ли он на нее попу-духовнику, как угрожал, сбежала ли она от него, были ли еще встречи вроде как с почтальоном или так все и замерло в якобы семейной тиши и глади? Как „Верочка“ после неудачного объяснения в любви коротала свой век? Как встретились Агафья Стрельчиха и ее муж? Убил он ее или прибил, выругал, простил? Какие она слова говорила?.. Никаких таких вполне естественных вопросов при чтении сборника г. Чехова не возникает – и так хорошо… Условно, однако, хорошо. <…> мы желали бы видеть цельное, законченное произведение г. Чехова»[196]196
<Михайловский Н. К.>. Ан. П. Чехов. «В сумерках». Очерки и рассказы // Северный вестник. 1887. № 9. С. 83–85. Ср. полемические выпады В. Буренина по поводу этой статьи: «Критика требует, чтобы автор непременно выяснил, как встретил муж Агафью: „убил он ее или прибил, выругал, простил?“ Очевидно, критике хочется, чтобы была изображена супружеская потасовка или примирение во вкусе современного реализма: тогда бы рассказ был „закруглен“ по всем требованиям рутины» (Буренин В. Критические очерки. Рассказы г. Чехова // Новое время. 1887. 25 сентября. № 4157). Это не значит, конечно, что Буренин понимал и принимал чеховское фабульное новаторство. Значительно позже, разбирая «Даму с собачкой», он сам обвинял Чехова в пренебрежении «старой, но доброй» манерой давать вещь «законченной и обработанной»: «…на этом роковом вопросе г. Чехов круто прерывает рассказ, хотя, собственно, тут-то ведь и начинается драма…» (Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1900. 25 февраля. № 8619).
[Закрыть].
Упреки в «незаконченности» сопровождали Чехова на всем его литературном пути. Вот что писали в этом плане в разные годы о его произведениях.
О «Бабьем царстве»: «На нас этот рассказ производит впечатление начала обширной повести или даже романа <…>. Но коль скоро мы имеем перед собой „рассказ“, мы вправе требовать, чтобы он имел начало и конец»[197]197
W. Летопись современной беллетристики. А. П. Чехов. «Бабье царство» // Русское обозрение. 1894. № 10. С. 898.
[Закрыть].
Об «Убийстве»: «Но какую веру обрел Яков? Была ли она новою только для него или он, действительно, не исцелившись всецело от прежней гордыни, создал себе нового своего кумира? Дошел ли он до смирения или нет? К сожалению, это неясно из последних строк рассказа А. Чехова, и эту неясность мы ставим автору в вину…»[198]198
Скопинский А. <Шевелев А. А.> Литературно-критические наброски. Гордые люди // Русское слово. 1895. 25 ноября. № 320.
[Закрыть]
О «Трех годах»: «Весь рассказ внезапно обрывается как раз там, где он вступает в новый, наиболее интересный фазис»[199]199
W. Летопись современной беллетристики. А. П. Чехов. «Три года» // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 449.
[Закрыть].
О «Мужиках»: «Это даже не рассказ, а просто картина <…> без начала и без конца»[200]200
Скриба <Соловьев Е. А.>. Литературная хроника. «Мужики» г. Чехова // Новости и биржевая газета. 1897. 1 мая. № 118.
[Закрыть].
Об «Учителе словесности»: «Тут Никитин становится интересен, но тут же и кончается рассказ г. Чехова. Если затем вы хотите знать, как ведет себя в жизни человек, которому противна пошлость и который страдает от нее, вам придется обратиться к другим авторам: г. Чехов вам этого не покажет»[201]201
Качерец Г. Чехов. Опыт. М., 1902. С. 70–71.
[Закрыть].
О «Чайке»: «Странная символическая пьеса без начала и конца»[202]202
Андреевич <Соловьев Е. А.>. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900. С. 190.
[Закрыть].
О «Даме с собачкой»: «Этот рассказ – отрывок, он даже ничем не заканчивается, и его последние строки только наводят на мысль о какой-то предстоящей жестокой драме жизни»[203]203
Там же. С. 239–240.
[Закрыть].
О фабулах Чехова в целом: «Во всех произведениях г. Чехова <…> сюжет всегда отрывочен, недоделан…»[204]204
Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1893. № 5. С. 131.
[Закрыть]
Теоретически позицию современной критики обосновывал сотрудник «Русского обозрения» в рецензии на повесть Чехова «Три года»: «Старое, вечное правило, гласящее, что каждое произведение искусства должно иметь начало и конец, оказывается вовсе не лишенным здравого смысла <…> жизнь каждого человека состоит, в сущности, из целого ряда отдельных более или менее законченных эпизодов, имеющих свое начало, свое развитие и свой конец и могущих поэтому служить темами для отдельных повестей и рассказов. <…> Все это – правила элементарные, но вполне разумные и основательные, выработанные тысячелетним опытом, и нарушать их безнаказанно никому не удастся, как бы даровит он ни был. Не мог их безнаказанно нарушить и г. Чехов»[205]205
W. Летопись современной беллетристики // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 447–448.
[Закрыть].
Об «отсутствии концов» как новаторском чеховском художественном приеме впервые сказал А. Г. Горнфельд в известной статье «Чеховские финалы»[206]206
Горнфельд А. Чеховские финалы // Красная новь. 1939. № 8–9. С. 286–300.
[Закрыть]. Правда, возникновение этого феномена объяснено в статье упрощенно (автор связывает его с героем Чехова – бессильным, бездействующим и только размышляющим интеллигентом), но важна мысль об его эстетической значимости: «И столь же завершенными, сколь совершенными давно уже представляются „незаконченные“ рассказы Чехова. <…> Это не отсутствие художественного конца – это бесконечность, та победительная, жизнеутверждающая бесконечность, которая неизменно открывается нам во всяком создании подлинного искусства»[207]207
Там же. С. 300.
[Закрыть].
Открытые финалы чеховских рассказов – одно из средств создания «эффекта случайностности».
Рассказ с завершенной фабулой выглядит как специально отобранный период из жизни героя – отобранный с более или менее явной целью. Развязка («конец») объясняет и освещает – и часто совсем новым светом – все предшествующие эпизоды.
По сравнению с таким рассказом рассказ Чехова, кончающийся «ничем», предстает как отрезок из жизни героя, взятый непреднамеренно, без выбора, независимо от того, есть ли в нем показательная законченность или нет. Взят как бы любой отрезок со всем его – и существенным, и случайным – содержанием.
Завершенность фабулы предполагает возможность художественного разделения бытия на некие законченные периоды. Об искусственности, условности такого вычленения хорошо сказал Торнтон Уайлдер в романе «День восьмой»: «Существует лишь одна история, которая началась с появлением первого человека и окончится, когда померкнет последнее человеческое сознание. Любые другие начала и концы не более чем искусственно выбранные отрезки <…> Грубые ножницы историка вырезают из огромного гобелена несколько фигурок и небольшой промежуток времени. Над открытой раной сверху и снизу, справа и слева торчат перерезанные нити; они протестуют против насильственной операции»[208]208
Wilder T. The eight day. N. Y., 1967. P. 395.
[Закрыть].
У Чехова фабула и сюжет рассказа или драмы подчинены тому, чтобы изображенный отрезок жизни не был «вырезан» из потока бытия, но осторожно вынут. Связи сохранены, нити не перерезаны, они тянутся дальше, за грань, обозначенную последней фразой рассказа. Поток бытия не имеет «концов» – он непрерывен.
Итак, основу чеховской фабулы составляет конкретный эпизод, изображенный во всей его индивидуальной случайностности. Эпизоды не отобраны по признаку существенности для целого. События нерезультативны, судьбы не завершены. Все эти явления материала создают впечатление его неотобранности, следования автора за хаотичной сложностью бытия. Но чеховская фабула включает и явления второго рода – картины обобщенные, события результативные. В дочеховской традиции они главенствовали; эта главенствующая роль всячески поддерживалась сюжетом. В чеховской художественной системе действие сюжета направлено в сторону диаметрально противоположную. Под действием сюжета явления второго рода приближаются по созданному впечатлению к явлениям первого.
И фабула, и сюжет демонстрируют картину нового ви́дения мира – случайностного – и случайностного, во всей неотобранной множественности, его изображения.
На сюжетно-фабульном уровне осуществлен тот же принцип отбора материала и его организации, что и на уровне предметном.
9
Особой единицей всякой художественной системы является герой (персонаж). Он объединяет в себе многие сюжетно-фабульные ходы; некоторые из них существуют именно и только для него. Многие, но, однако же, не все. Фабула героем не исчерпывается – в нее входит жизнь природы (биосферы), в ней может изображаться ход истории – независимо от героя произведения. Фабула может быть вообще безгеройной. Сюжет и фабула служат не только герою, – как, например, повествовательный уровень существует для более высокого, предметного уровня.
Герой – категория, находящаяся в одной плоскости с фабулой-сюжетом, входящая в тот же уровень системы. Но вместе с тем это – единица, отличная от других категорий уровня. Мотивы, художественные предметы могут быть объединены эпизодом, сценой. Но объединение их в персонаже и вокруг него – совершенно особое. В модели мира писателя это единственное художественное целое, сотворенное по образу и подобию человека, прямо изображающее его самого – в целокупности с его внутренним миром и внешним обликом, его аналог. И целое это не похоже на любые другие элементы произведения, имеющие к человеку отношение опосредствованное.
Поэтому понятен и правомерен особый интерес критики, литературоведения, философии именно к изображению в любой художественной системе прежде всего человека – аналога того, для кого и предназначено искусство. (С этим связано распространенное требование публикой внешнего предметного «правдоподобия» в изображении человека, независимо от школы, направления и художественных установок автора, и распространенное же неприятие всех условных способов изображения.) Следуя традиции, поставим вопрос: как изображается человек в художественной системе Чехова?
После Лермонтова в русскую литературу в изображении внутреннего мира человека вошел способ, впоследствии получивший название психологического анализа. Главное в этом способе – возможно более полная картина психической жизни героя, объяснение всех движений его души, внутренних причин поступков и действий героя. Крайнее выражение этот способ нашел у Толстого с его «диалектикой души». В психологии толстовского персонажа ничто не оставлено непроясненным; автор изобразил, как говорил он сам, все «подробности чувства»; душа героя рассказана, всякое деяние его подготовлено и психологически объяснено.
У Чехова внутренний мир в изображении человека занимает место существенное. Но это нельзя назвать психологическим анализом в старом смысле. Психология героя здесь выглядит иначе.
В рассказе «У знакомых» чувства героя в решающей ситуации описываются так:
«– Отчего бы и не жениться на ней, в самом деле? – подумал Подгорин, но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому».
Нельзя сказать, что эта сцена никак не подготовлена. О Подгорине читатель знает уже многое. Рассказано о его юности, известна история его отношений с обитателями Кузьминок. Прямо сказано о главных чертах его характера: «В нем было два человека. Как адвокату, ему случалось вести дела грубые, в суде и с клиентами он держался высокомерно и выражал свое мнение всегда прямо и резко, с приятелями покучивал грубо, но в своей личной интимной жизни, около близких или давно знакомых людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен и не умел говорить прямо. <…> Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями или присяжными <…> когда же вопрос предлагали ему лично, на его разрешение, то он терялся».
По всему этому причины такого, а не иного его поведения в решительной ситуации в целом ясны. Но – не до конца. Точки над «и» не поставлены. Однозначное объяснение повествователем не дано. Читатель оставлен один перед целой группой возможных объяснений. Предложена лишь как бы некая шкала причин. Но стрелка не зафиксирована автором против какого-то деления. Она колеблется.
Далее в рассказе ситуация повторяется – Надя ждет, что Подгорин наконец объяснится: «…а ему было неловко, он сжался, притих, не зная, говорить ли ему, чтобы все, по обыкновению, разыграть в шутку, или молчать, и чувствовал досаду, и думал только о том, что здесь, в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной девушки он так же равнодушен, как на Малой Бронной, – и потому, очевидно, что эта поэзия отжила для него так же, как та грубая проза».
Объяснение дано. Оно вскрывает многое. Но в нем нет категоричности. Все это не точно так, но лишь возможно так. Предложен, в сущности, вариант объяснения. Оно лишено исчерпанности.
Часто повествователь устраняется от объяснения демонстративно: «Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?» («Душечка»).
«Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое. <…> Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же <…> Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?» («Невеста»).
Еще отчетливее это видно в драме, по условиям жанра лишенной повествователя. В «Вишневом саде» Лопахин собирается сделать предложение Варе: «…я хоть сейчас готов… Покончим сразу – и баста <…> Кстати и шампанское есть…» (д. IV). Приходит Варя. Но Лопахин предложения почему-то не делает. Говорят о чем угодно, кроме главного.
«Варя (долго осматривает вещи). Странно, никак не найду…
Лопахин. Что вы ищете?
Варя. Сама уложила и не помню.
Пауза.
Лопахин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?
Варя. Я? К Рагулиным… Договорилась к ним смотреть за хозяйством… в экономки, что ли.
Лопахин. Это в Яшнево? Верст 70 будет.
Пауза.
Вот и кончилась жизнь в этом доме…»
Современный исследователь называет эту сцену «одной из самых сложных чеховских загадок»[209]209
Туровская М. На разломе эпох // Театр. 1960. № 1. С. 20.
[Закрыть].
Впечатление неисчерпанности объяснения создается не только материалом – оно возникает у Чехова уже на уровне повествования благодаря особым свойствам его структуры, и прежде всего уществованию ликов повествователя, ограниченных в возможностях проникновения во внутренний мир персонажа (см. гл. III, 13–14).
Может показаться, что в таком изображении психологии Чехов близок к Достоевскому с его неожиданными, часто как будто необъясненными действиями и поступками персонажей, с его любовью к слову «вдруг» при обращении к их душевной жизни. Но на самом деле это принципиально разные явления. Как точно заметил А. П. Скафтымов, для Достоевского «в его персонажах нет загадок, он ясно видит мотивы и импульсы их поступков». «Действующие лица часто сами не знают, что они делают и почему они делают, но автор в таких случаях имеет лишь в виду указать на подпочвенные силы души, в которых и разум, и воля человека не властны, сам же он провидит эти скрытые причины и так или иначе особыми приемами всегда укажет их читателю. Его загадки всегда имеют отгадку в самом тексте романа. Он или мимолетным замечанием, или репликой действующего лица, или параллельным указанием на другого персонажа всегда откроет корни темных импульсов»[210]210
Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Творческий путь Достоевского. Л.: Сеятель, 1924. С. 180–182.
[Закрыть]. Мотивы же поведения чеховских героев никогда не раскрываются вполне.
Новые принципы чеховской психологической рисовки особенно наглядно видны в случаях, когда герой меняется в процессе сюжетно-фабульного развития, становится другим человеком («Дуэль», «Жена», «Невеста»).
В литературной традиции всякие изменения в характере героя тщательно подготавливаются. Особо выделяются черты, предопределившие превращение, – например, особенности характера, сделавшие из молодого человека, появившегося в салоне Анны Шерер, того Пьера Безухова, которого мы видим в конце романа «Война и мир». Подробно анализируются все внутренние причины, приведшие к такому результату. Изображение стремится к полной психологической детерминированности всех действий персонажа.
В изображении человека у Чехова такого стремления нет.
Какие черты характера, чувства, прошлые поступки предопределили такие резкие перемены в поведении главного героя «Жены»? Что в характере Лаевского («Дуэль») объясняет полное изменение всего строя его жизни после дуэли? Какие внутренние процессы привели к возникновению «страстной, раздражающей жажды жизни» у героя «Рассказа неизвестного человека»? Отчего стала испытывать «страх, беспокойство» героиня «Невесты» в тот самый момент, когда готова исполниться ее давняя мечта?
Прямых ответов на такие вопросы у Чехова найти невозможно. Изменения в психике героя в предыдущем тексте не подготовлены. Об их причинах можно лишь догадываться по косвенным данным.
В тех же редких случаях, когда последующая эволюция характера как-то подготовлена, эта подготовка тоже весьма своеобразна.
В рассказе «Ионыч» в первых главах герой молод, полон сил и самых лучших стремлений. Но несколько раз даются детали, намекающие на те черты, которые разовьются впоследствии, некие сигналы, предсказывающие, что из доктора Старцева получится Ионыч.
«И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:
„Ох, не надо бы полнеть!“»
«А приданого они дадут, должно быть, не мало, – думал Старцев, рассеянно слушая. <…> Дадут приданое, заведем обстановку…»
«Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:
– Сколько хлопот, однако!»
Но эти детали – именно лишь намеки. Они не дают картины внутренней жизни персонажа и не служат подробной психологической мотивировке эволюции его характера, как это делается у Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого. И дело здесь не в жанровых различиях. Пример тому – В. Гаршин. Он работал в тех же жанрах, что и Чехов, но гаршинский рассказ или короткая повесть целиком основываются на возможно более полном психологическом детерминизме.
Отсутствие в чеховских рассказах психологически разработанной мотивировки позднейших перемен в характере героя долгие годы вызывало в критике горячие обсуждения – они возникали по поводу буквально каждого такого рассказа Чехова, где личность персонажа претерпевает какие-либо изменения. В 1888 году один из критиков писал об «Огнях»: «Г. Чехов в своем очерке дает один только слабый намек на известные душевные движения; для того, чтобы проследить процесс перевоспитания человека жизнью в данном направлении, для того, чтобы дать ясную и живую картину эволюции нравственного чувства, обусловливаемой жизненным опытом <…> для этого понадобилось бы больше красок, и больше художественной законченности, и больше места, и больше времени»[211]211
Веневич <Стукалич В. К.>. Очерки современной литературы // Русский курьер. 1888. 20 июня. № 168. «О невыдержанности» психологии главного героя «Огней» говорилось и в других отзывах. См.: Z. <Эрманс А. С.?> На журнальной ниве // Новости дня. 1888. 14 июня. № 1773; <Без подписи>. Недельные заметки // Неделя. 1888. 19 июня. № 25. Стб. 800–802; Аристархов <Введенский А. И.>. Журнальные отголоски // Русские ведомости. 1888. 1 июля. № 179.
[Закрыть].
Похожие высказывания сопровождали и драматургию Чехова – с самого ее начала.
«Но как же могло случиться, что Иванов, разлюбив ее, готов совратить другую порядочную девушку, тоже богатую; как объяснить, что он, сохраняя все свое благородство, действительно убивает жену <…> несколькими жесточайшими словами; что он перед этим только что бегал, желая обнять приехавшую к нему амазонкой Сашу; что, похоронив жену и готовясь идти к венцу с Сашей, он вдруг не хочет идти, потому что у него седина на висках, и почему, наконец, услышав брошенное ему в лицо вполне заслуженное слово „подлец“, он застреливается?..»[212]212
К…ий <Языков Д. Д.?>. Театральные и музыкальные известия. Письмо из Петербурга // Московские ведомости. 1889. 5 февраля. № 36.
[Закрыть]
Это обостренное внимание критики к изображению психологии у Чехова особенно усилилось в начале 1892 года, с почти одновременным появлением двух его произведений, где главные герои в финале претерпевают духовную метаморфозу, – повести «Дуэль» и рассказа «Жена»[213]213
Отдельное издание «Дуэли» появилось в середине декабря (18 декабря 1891 г. датированы дарственные надписи на двух экземплярах книги. – См.: Литературное наследство. Т. 68. М., 1960. С. 276, 278), и перед рождеством книжка уже поступила в продажу (см. письмо Чехова А. И. Смагину от 4 января 1892 г.); рассказ «Жена» был опубликован в январском номере «Северного вестника» за 1892 г.
[Закрыть]. Отношение к этим вещам Чехова, как обычно в начале 90-х годов, было разноречивым. Но мнение об их финалах объединило всех, в том числе и литераторов – корреспондентов Чехова, в общей оценке этих произведений сильно расходившихся с печатной критикой.
Д. Мережковский, высоко оценивший «Дуэль» в целом, писал Чехову: «Тип Лаевского прелесть, он как живой, если бы не самая последняя глава, которая все-таки фантастична. Зачем эта добродетельная метаморфоза?»[214]214
Письмо от 16 декабря 1891 г. – Гос. б-ка им. Ленина. Отдел рукописей, ф. 331, карт. 51, ед. хр. 58.
[Закрыть]
Почти о том же писал Чехову А. Н. Плещеев: «Мне совершенно не ясен конец ее, и я был бы вам очень благодарен, если б вы объяснили мне <…> чем мотивируется эта внезапная перемена в отношениях всех действующих лиц между собой. Почему вражда Ф.-Корена к человеку, которого он так поносил и унижал, – вдруг заменяется уважением <…> почему ненависть этого последнего к женщине, с которой он живет, превращается в любовь, несмотря даже на все, что он про нее узнал и чего прежде не подозревал? <…> По-моему, рассказ окончен слишком произвольно»[215]215
Письмо от 2 января 1892 г. // Слово. Сб. 2. М., 1914. С. 283–284.
[Закрыть]. П. А. Воеводский, рукописный отзыв которого хранил в своем архиве Чехов, считал неоправданность финала единственным недостатком повести. Что Лаевский и Надежда Федоровна «пришли к порицанию всей предшествующей их возрождению пошлой и пустой жизни, представляется вполне понятным, но этого недостаточно. Такой вывод без положительных нравственных начал, направивших их жизнь по другому пути, мог привести или к самоубийству, или к дальнейшему падению. Под влиянием каких нравственных начал он осознал, что она самый близкий ему человек, после того как убедился в ее измене, и под влиянием каких начал совершилось в них нравственное перерождение – и неясно в рассказе. За исключением этого, на мой взгляд, недостатка, рассказ, я полагаю, можно считать образцовым произведением»[216]216
Гос. б-ка им. Ленина. Отдел рукописей, ф. 331, карт. 39, ед. хр. 13.
[Закрыть].
А. М. Скабичевский считал, что возрождение героев повести ничем не подготовлено, что Чехов производит «над некоторыми из своих действующих лиц такие чудеса, какие могут равняться лишь тем волшебным метаморфозам, какие совершаются в „Волшебных пилюлях“»[217]217
Скабичевский А. Литературная хроника // Новости и биржевая газета. 1892. 20 февраля. № 50.
[Закрыть].
«В конце повести, – писал П. Перцов, – г. Чехов совершил со своим героем овидиевскую метаморфозу <…>. Но, каемся, это возрождение Лаевского непонятно для нас <…>. Непонятно, потому что оно до такой степени противоречит основному смыслу фигуры Лаевского, что для полного его правдоподобия и ясности слишком недостаточно того материала, который дан г. Чеховым. <…> Возрождение происходит, собственно, за кулисами, и благодушным читателям предоставляется верить автору на слово и дорисовывать по своему усмотрению оставленный им пробел»[218]218
Перцов П. Изъяны творчества (Повести и рассказы А. П. Чехова) // Русское богатство. 1893. № 1. С. 59–60.
[Закрыть].
В разных вариациях мысль о том, что изменения, произошедшие с героями, ничем не обоснованы и никак не подготовлены автором, проходит и во многих других статьях, рассматривавших эту повесть Чехова[219]219
См.: Ал. А-и <Амфитеатров А. В.>. Антон Чехов. «Дуэль» // Каспий. 1892. 19 января. № 15; Южный М. <Зельманов М. Г.> Новые произведения Чехова // Гражданин. 1892. 21 января. № 21; Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1892. № 1. С. 181; <Без подписи>. Антон Чехов. «Дуэль» // Книжный вестник. 1892. № 1. Стб. 13; Белинский М. <Ясинский И. И.> Новые книги // Труд. 1892. № 2. С. 479; Р-ий. Смелый талант // Гражданин. 1892. 3 февраля. № 34; Ив. Иванов. Заметки читателя // Русские ведомости. 1892. 17 декабря. № 348. Ср. в позднейшей статье французского критика: «Оба они обретают в себе силу характера, благородные чувства, желание быть полезными другим людям. <…> Да, это так, но почему? Этого, вероятно, мы никогда не узнаем» (Вогюэ Е. М. де, виконт. Антон Чехов. Этюд / Пер. с фр. Изд. 2-е. М., 1903. С. 17).
[Закрыть]. Как образец представлений тогдашней критики о допустимом и недопустимом в изображении психологии очень показательна статья К. Медведского. «Развязка повести, – писал критик, – является неожиданной и странной. <…> Относительно героя повести „Дуэль“ нужно сказать, что он создан Чеховым вопреки <…> непреложному закону нравственных метаморфоз. Почти до последних страниц повести Лаевский представляется нам человеком ничтожным, без всяких определенных устоев <…> – эгоистом, безвольным, бесхарактерным и даже пошлым. Нет ни одной черты, которая, не говорю уже, умеряла бы его недостатки, но хоть сколько-нибудь свидетельствовала о заложенных в нем природой добрых основах. Лаевский в духовном отношении – настоящая пустыня аравийская. Рассчитывать, чтобы из него вышло нечто путное, нет никаких данных. <…> Чехов заставляет <…> его совершать деяния, свидетельствующие о полном перерождении. Вместе с тем он лишает своего героя того нравственного материала, который единственно обусловливает возможность перерождения»[220]220
М-ский. Жертва безвременья (Повести и рассказы Антона Чехова) // Русский вестник. 1896. Кн. VII. С. 242–244.
[Закрыть].
Аналогичным образом оценивала критика и изображение духовной эволюции в рассказе «Жена»[221]221
См.: Иванов Ив. Заметки читателя // Русские ведомости. 1892. 20 января. № 19; Южный М. <Зельманов М. Г.> Новые произведения Чехова // Гражданин. 1892. 21 января. № 21; Протопопов М. Письма о литературе. Письмо третье // Русская мысль. 1892. Кн. II. С. 214; Р-ий. Смелый талант // Гражданин. 1892. 3 февраля. № 34; Скабичевский А. Литературная хроника // Новости и биржевая газета. 1892. 20 февраля. № 50.
[Закрыть]. Похожие оценки высказывались и позже. «Переход к уразумению бога, – писало «Литературное обозрение» о рассказе «Убийство», – совсем не охарактеризован. Как же это так: все не знал, не знал истинного бога, а тут вдруг познал и захотел даже вразумлять других? Окончание является совсем туманным и не развитым…»[222]222
<Без подписи>. Беллетристика. «Убийство», рассказ А. П. Чехова // Литературное обозрение. 1895. 3 декабря. № 49. Стб. 1361.
[Закрыть] «Эта недосказанность пережитого им переворота <…> – писала о герое этого же рассказа «Русская беседа», – делает нам чуждой личность Якова…»[223]223
Залетный И. <Гофштеттер И. А.> Критические беседы // Русская беседа. 1895. № 12. С. 189. См. также: К. М-ский <Медведский К. П.>. Журнальная хроника // Сын отечества. 1895. 1 декабря. № 326; Полтавский М. <Дубинский М. И.> Литературные заметки. А. П. Чехов. «Убийство», рассказ // Биржевые ведомости. 1895. 15 декабря. № 344.
[Закрыть] «Автор не показал читателю, – писал о повести «Три года» обозреватель «Русских ведомостей», – при помощи каких душевных процессов меняются чувства героя»[224]224
Д. М. Журнальные новости // Русские ведомости. 1895. 27 февраля. № 57.
[Закрыть].
Такой способ описания внутреннего мира, когда автор не подготавливает будущие метаморфозы героя подробными психологическими обоснованиями, создает впечатление, что в душе изображаемого человека есть нечто скрытое, неназванное (но от этого не менее реальное) и оно-то и играет решающую роль в психологических катаклизмах личности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































