Текст книги "Курдюг"
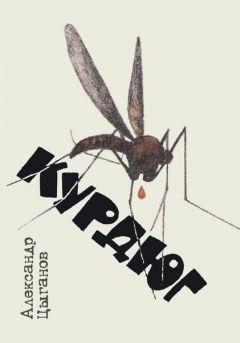
Автор книги: Александр Цыганов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Вскоре за вежливо вошедшим завхозом Сугробовым потянулись по делу, но, кажется, больше без дела другие осуждённые: все, как один, с красными треугольными нашивками на рукавах; с завхозом переговариваются вполголоса, а то возьмут да о чём-нибудь и меня спросят… Вот так я, чуж-чуженин, и становился семьянин, а какой же мирянин от миру прочь?..
Дверь с грохотом распахнулась, и передо мной человек вырос: поперёк себя толще, да на щеке бородавка – телу прибавка; в горле петух засел:
– Гражданин начальник! Крысу поймали! Что делать? Крысу поймали!..
Ума не приложу: смотрел то на него, то на завхоза:
– Да что делать?.. Убить и выбросить. – Долго думать, тому же быть, да и лишние догадки всегда невпопад живут.
А завхоз Сугробов, прислушиваясь к шуму и грохоту в курилке, довольно улыбался:
– Оторвут сейчас от хвоста грудинку… «Застегнут» они его, гражданин начальник. Как пить дать – замочат!
– Кого – «его»? – всё не мог я понять. – Крыса же «она»! – Аль я уши отсидел?..
А у завхоза по-прежнему рот до ушей:
– Кто в тумбочках крадёт, крыса по-нашему. Крысятник. Вот по заслугам вора и жалуют.
Много учён, да не досечен, – кинулся я в курилку, а завхоз за мной – обогнал и блажанул:
– Мужики, завязывай! Проучили – и хана!
В курилке – спиной к печке – мужичок прижался: глаза на нитке висят, по пояс юшкой умылся, сопит и всхлипывает. Увидев меня, все расступились и отодвинулись. Ждали: каким глазом взглянет?..
– Разойдись! – себя я не узнавал. – Все по местам! Сам разберусь! – Развернулся, а мужичок следом за мной: голосом пляшет, ногами поёт – спасся!
В кабинете завхоз Сугробов передо мной верёвки из песка вил:
– Гражданин начальник! Слово-олово: больше пальцем не тронут, кому охота срок за гниль тянуть.
Попало за дело. Никто не видел и не слышал. Слово-олово!
Так сработано, что не придерёшься. Думаю, добро, шпана замоскворецкая: видно, всю вашу хитрость не изучишь, а только себя измучишь. Но одно здесь верно: слушай в оба, зри в три!..
Как раз по селектору на всю зону и фильм объявили: «Внимание! Завхозам отрядов построить осуждённых и привести в клуб для просмотра фильма «Возьму твою боль»!
Вроде и у дела я оказался: в два счёта построив людей возле отряда, завхоз доложил о готовности, на что я неопределённо дёрнул головой, а завхоз скомандовал: «Шагом марш!» – И я уже со своим законным отрядом, немного сбоку, как и положено начальству, дошагал до клуба; кругом слабые и тусклые огоньки лампочек на столбах, зябко да неуютно…
Зато возле клуба светлынь: подходили отряд за отрядом, завхозы докладывали дежурному Сирину, и тот своим зычным гласом: «Давай, урки!» – разрешал вход. А у клубных мостков помощник дежурного – чернющий прапорщик, едва до пупа не расхристанный, схватил за грудки осуждённого, мальчишку, пытавшегося в неустановленных по форме одежды ботинках взобраться по крутым ступенькам клуба:
– Ти-и… че-эго это виисиваешь? Па-ачему тут висиваешь?!
Малокровный и съёжившийся парнишка, запахиваясь в великовозрастную фуфайку, оправдывался:
– У меня плоскостопие, разрешено медчастью. Можно пройти?..
Но у прапора, внезапно налившегося кровью, как бы отслоились толстые выразительные усы:
– Марш в отряд! Ка-а-аму гаварю!..
Между делом подключился и Сирин:
– Что, не ясно? Посажу!
Кто барствует, тот и царствует; и пошагал, головушку опустив, стриженый-бритый, к родному общежитию-бараку. Одиноко да понуро: отлежаться, носом в подушку сунувшись.
– Всё верняком, – подмигнул мне Сирин. Пощёлкивая пальцами, он прищурил глаза и вдруг попросил, как рублём одарил: – Слышь, будь другом: посиди в клубе, пока фильм идёт. А то весь наряд на обходе. Один остался. Выручай, братан.
Конечно, спрос не грех, да и отказ, наверное, не беда. Да вот только не всё то есть, что видишь. Е с т ь у молодца не хоронится, а н е т – не воротится.
Вошёл я следом за последним в зал. Дверь закрыли на защёлку, чтобы не вовремя пожелавшие не лезли, свет выключили – и фильм начался.
Сидел я, точно оглушённый, на лавке бок о бок с пожилым, глянувшим на меня исподлобья, но выбирать уже не приходилось. То и есть, что двадцать шесть…
Из аппаратной – легкий хрупкий треск, струилась сверху песочно-лунная, прозрачная дорожка… На экране – титры: ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ… Шла война, – до сих пор в воспитательных целях сохранилась полезная привычка показывать такие фильмы, – и на глазах ребёнка немецкие прислужники убивали его мать и сестрёнку; и слышал мальчишка в свои неполные восемь лет последний крик матери и плач сестрёнки; и болью сердце гинет, ведь все мы одной матери дети…
И видел я боковым зрением, как плакал молчаливо мой пожилой сосед: растеклась под глазом светлая морось, к щеке подсбегала маленькой и горючей капелькой… И дикими мне показались думы подпольные, страхи летучие: хоть и не ровня, так свой же брат – человек человека стоит. Одним миром мазаны.
И долго ещё потом меня мучило – уже дома, в своей комнатушке, бессонной ночью, одинокого и далёкого ото всех родных и близких…
А ещё поразило меня то, что я как будто и не нашёл в этой жизни, в своих первых впечатлениях, ничего особенно поражающего или, вернее сказать, неожиданного. Всё это словно и раньше мелькало передо мной в воображении, когда я старался угадать свою долю.
Молвя правду, правду и чини; и хотя судить о человеке, не зная его, – дело последнее, но увиденное мною заставляет задуматься о том, что боль собственного сердца сострадающего прежде всяких наказаний убивает его своими муками. И он сам себя осудит за своё преступление беспощаднее и безжалостнее самого грозного закона…
3.
Утренняя планёрка проходила на втором этаже штаба, в просторном кабинете начальника колонии полковника Любопытнова Виктора Ильича, пожилого уже человека с совершенно седой круглой головой и серо-чёрными с завитушками к вискам бровями. Сказывают, твёрдостью и определённостью при решении служебных вопросов он даже завоевал расположение мало кому верящих подопечных за колючей проволокой.
Среди старожилов посёлка упорно бытует легенда, что будто к одному из дней рождения начальника – без добрых дел вера мертва! – подарили ему осуждённые собственноручно изготовленный автомат, смастерив его на нижнем складе и тайно, по частям, доставив в жилзону, где возложили новенькое, смазанное оружие прямо на стол уважаемого человека, разумеется, до прихода того на рабочее место. Мол, кто нас помнит, того и мы помянем.
И этому как-то трудно было не верить, как и тому, что однажды некий изобретатель этого «колючего окружения» умудрился сконструировать ещё из бензопилы «Дружба» подобие вертолёта, затем на свой страх и риск даже сделал попытку подняться в воздух на сём агрегате в ночное, относительно безопасное время, но всё же был замечен обалдевшим часовым, а следом и благополучно подстрелен, упав за запретной полосой. После чего изобретатель был подлечен, где следует и поощрён – раз на раз не приходится! – далеко не по изобретательским заслугам: осуждён дополнительным сроком в колонию более строгого режима.
– Значит, туда и дорога, – смеялся перед планёркой дежурный Сирин. – А живи попроще и без затей, проживёшь сто лет. Соображать надо!..
Коренастый и плотный, быстро вошёл начальник колонии, точный минута в минуту. Посерьёзневший Сирин скомандовал офицерам, полукругом сидевшим в кабинете начальника:
– Товарищи офицеры!.. Товарищ полковник, лейтенант Сирин дежурство сдал!
– Капитан Брусков дежурство принял!
– Товарищи офицеры… – миролюбиво ответствовал начальник, что означало: прошу садиться. И все деловито расселись по местам, за исключением Сирина и заступавшего на дежурство капитана, у которого было бы грех спрашивать о здоровье, глянув на его лицо.
А лейтенант Сирин наладился привычной скороговоркой:
– За время дежурства происшествий не случилось. Осуждённые занимались по распорядку дня. Вывод на объекты и возвращение в жилзону соответствует учётным данным. Вечерний приём спецконтингента проводился медчастью, спецчастью и бухгалтерией. В вечернее время демонстрировался фильм. Оценка наряду осуждённых «удовлетворительно», дежурному наряду контролёров – «хорошо». Лейтенант Сирин дежурство сдал!
Но начальник, покачивая седой головой, поинтересовался как бы задумчиво:
– Кто же фильм, товарищ Сирин, обеспечивал на сей раз?
И, поглядывая то на начальника, то на замполита, не сводившего с него своих блестящих внимательных глаз, Сирин забормотал:
– Фильм… Фильм обеспечивал новый отрядник… Цыплаков. Цыплаков Игорь Александрович. По собственному желанию.
Сказал, да и был таков. Хотя известно, что кто в грехе, так тот и в ответе. Но делать нечего: согласно кивая, я тоже бормочу:
– По собственному желанию, по собственному желанию…
Только на свои глаза свидетелей не наставишь: начальник колонии, с привычной ловкостью встав из-за стола, быстро расстегнул мундир и посмотрел на Сирина так, что того даже выпрямило:
– Понимаете, что могло случиться?.. Допускали последствия? Человек ни сном, ни духом ещё не ведает нашей специфики! Объяснительную на стол, – и будете наказаны!.. Все свободны! – Сказал, как кол в землю вбил!..
Выйдя из кабинета, я бездумно двинулся к окну в конце коридора и тут же бровь в бровь столкнулся с майором: невысок и лобаст, под носом взошло, а на голове не засело, сам тих и как-то странен.
Подхватил он меня под руку приглашающе, и мы с ним закадычными друзьями спустились на первый этаж к кабинету с табличкой «Заместитель начальника по режиму». Там уже был и Мирзоев: откинувшись в кресле, он быстро курил, закинув ногу на ногу. При виде нас замполит что-то промычал и, затушив папиросу, придвинулся к столу вместе с креслом. Серьёзный и внушительный.
– На наше дело не всякий годится, – тихо, точно сам с собой заговорил заместитель по режиму майор Нектаров. – Так что вчерашний случай с «крысятником» оставлять без последствий нельзя. Нас не поймут. Неволя, брат, всякого учит и ума даёт. Здесь одним доверием не обойдёшься – к беде приведёт. – Майор Нектаров, переглянувшись с нахмурившимся замполитом, забарабанил по столу пальцами:
– Достал как-то в розыске один из наших сбежавшего, – в одиночку накрыл. – Тот с ходу и ручки вверх: «Не тронь, начальник, твой». А нашему нет, чтобы заставить урку шмотки с себя скинуть, – не сообразил. На слово поверил. Да ближе и подошёл, а тот, недолго думая, ножик из сапога – и в сердце. Да позже ещё двоих на тот же свет едва не отправил. Спасибо, врачи выходили. В нашей работе хоть раз вожжи опустишь – не скоро уже изловишь. Одни неприятности как из мешка посыплются: знай, успевай оборачиваться…
– Время научит, – завыстукивал по столешнице и замполит. – Был у нас тоже один добренький: всё хотел, чтобы кругом как надо было – и у ваших, и у наших. Только недолго хватило, а как ещё по-настоящему прижало, так конкретно потёк. Оно и понятно: с огнём не шутят…
– Что верно, то верно, – поднял указательный палец Нектаров. – Дело прошлое: можно было всех тех, пятерых, спасти в вагоне, окажись наши посообразительней…
И вот тут-то – не светило, не грело, да вдруг и припекло: неожиданно во время разговора какой-то злобно-нутряной вой сирены, разливаясь на высоком жутком завывании, поднял всех с мест и бросил на выход… Весь дом разом вверх дном!
Выскочив из штаба, мы бросились по дороге к нижнему складу, потому что со стороны клуба, над ним, медленно заполняя низкое неподвижное небо, поднимался чёрный и слоистый дым, расползаясь над посёлком.
Горел и вправду клуб. Подойди уже было страшно: оттуда, где был зал с печью, трещало и зловеще шумело с неимоверной силой; из туго лопнувших окон с гудением вились плавные, огненно-красные космы; на крыше очередями палил шифер, а сама она вся уже была охвачена пламенем и казалась огромным факелом – дрожит свинка, золотая щетинка! – горело и в библиотеке, – там огнь пожирающий шуровал уже вовсю, но ещё на волю не вырвался, прожорливо гудел внутри, как бы готовясь к неожиданному и гигантскому прыжку, чтобы разом поглотить всё в своей испепеляющей лаве – сколько можется, столько и хочется! – искры змеино шипящимся фейерверком густо и страшно сыпались далеко во все стороны. Где конец верёвке той? Нет его, отрубили!
Но аминем дело не вершится, – кругом метались и тушили, кто, чем мог, подлетела пожарка и моментально раскатала шланги – сильные стальные струи вбились в ярое пламя, и хоть против огня и камень трещит! – постепенно гасились и сбивались огненные островки пылающего клуба…
«Спи, царь-огонь, – говорит царица-водица. – Спи, царь-огонь!». – Огню да воде Бог волю дал!
– Давно просила печь отремонтировать, – нудно бормотала возле меня бледная библиотекарша, безнадёжно прижав к щекам руки. – Опять буду без вины виноватая…
Висевший над клубом обломок громадного стенда с надписью «ДА ЗДРАВСТВУЕТ…» – легко сорвался вниз, скользнул, как по маслу, и, ухнув рядом со мной, сразу рассыпался. Ровно кто его жегалом жеганул!..
И вдруг меня как будто кто-то окликнул – и я, точно бы в беспамятстве, – не струшу, так отведу душу! – бросив всё, кинулся к библиотеке, кульнул туда через окно – чем думать, так делай! – подвывая и прикрикивая от страха… Благослови, да головы не сломи! – огонь вовсю уже гудел и шарил по комнате, по книжным стеллажам, весело и мощно пожирая всё на своем пути; никому не верит, а сам мерит!..
Но мне уже виден сквозь шёлк пламени незабываемый взгляд, оставшийся в памяти вопрошающим о главном: о чём-то родном и давно забытом! – сгрёб я в охапку, беремем, бюст Достоевского и, задыхаясь, теряя последние силы, с готовой, казалось, вот-вот лопнуть от невозможного напряжения головой, кинулся обратно. Побеги, да ноги не зашиби!..
Кубарем выпав из окна, встал я на карачки и пополз, но, опомнившись, стал загребать обратно, выпавший бюст нашаривать. В это время – от воды не в огонь! – окатило меня спасительной водяной струёй, затем, подхватив за руки, стали в сторону оттаскивать, матерясь, на чём свет стоит, а мне всё неймется – мычал да оборачивался, руками загребал… Жив буду – не забуду!
Сшибся я с памяти: все бесы в воду – и пузыри вверх; как только стал приходить в себя, огляделся: кругом народ стоял молчаливо, как над больным или упокойным склонились; работала неутомимо пожарная машина, и уже был сбит огонь, а шипящие брёвна растаскивались баграми…
– В рубашке родился, – вытерев лоб под шапкой, вздохнул начальник колонии, помогая мне подняться. – Теперь уж до нового клуба придётся спасённое хранить. – И, неопределённо улыбнувшись, заключил: – На законных основаниях.
– Герой кверху дырой, – послышался за спиной знакомый голос: с застывшей полуулыбкой на меня смотрел, пружиня на носках сапогов, майор Нектаров.
– Дурак дураком – и уши холодные, – поддерживание раздался откуда-то жизнерадостный бас пожелавшего остаться неизвестным доброжелателя.
Но мне сейчас было всё безразлично, и я, ничего не понимая и не отвечая, потащился к общежитию, всё так же, в охапку, держа спасённый бюст, пока на полдороге к дому не столкнулся со своим начальником.
Мирзоев, отступив на шаг, смерил меня округлым птичьим взглядом и вдруг, выкинув руку, так склещил мою пятерню, что я от неожиданности ойкнул и быстро пришёл в себя.
И вскоре, умытому и переодетому, мне было славно смотреть на спасённый бюст: в моей комнате теперь, в углу на тумбочке, как раз и уместился, словно для этого места специально и предназначенный… Чей день завтра, а наш – ноне!..
Ненароком я и задумался о чём-то запредельном, глядя на Достоевского и время от времени как бы заново ощущая братское рукопожатие сумевшего понять меня незнакомого человека…
И словно воочию диво совершается! – ибо явственно чтётся в великом и молчаливом собеседнике, что эстафета человеческой жизни всегда была бесконечной: как всего нашего милосердия и сострадания, нашей вечной надежды и веры на лучшее, так и постоянного обновления человеческой души в мире проходящем и вечном… – замерев, я сидел и думал, хотя о чём думалось? – спроси меня тот, второй, во мне живущий, – я бы, наверное, так и не ответил…
И, мучая свою душу до бесконечности, буду я вновь и вновь метаться в таинстве изначальном, ибо каждому понятно – не то мудрено, что переговорено, а то, что никогда не может быть договорено.
«С совестью не разминуться, – наставляла меня на дорогу мать, когда поняла, что уже поздно и бесполезно переубеждать. – А добрая совесть – глаз божий. Ясны очи. Ведь чужая-то душа – тёмный лес, но душа душу везде ищет, и сердце сердцу весть подает. А разве душа и совесть не родные сёстры? – вопрошала мать. – Разве не совесть питает душу и разве есть между ними распри?.. Да ни в жизнь, – и такой-то чести довеку стоять…»
Много дней впереди, много и позади. Но помрут и внуки наши, а конца этой песни не дождутся; и, вспомнив теперь всё происшедшее, передо мной будто бы на миг приоткрылось таинство изначальное, и зрятся сейчас – чтоб жить да молодеть, добреть да радоваться! – слова моего великого и молчаливого Собеседника, удивительно чудодейственно и милосердно успокаивая мою исколотую память, мужая сердце до конца:
«Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не упасть – вот в чём жизнь, в чём задача её. Я сознал это…»
Часть вторая
Отрядник
…Постарайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть.
И.В. Гёте
Я скажу читателю на ушко: всё там есть.
В. Белов «Ремесло отчуждения»
1.
Общую планерку учреждения на этот раз собрали в методическом кабинете штаба – по случаю предстоящего праздника. Новый год был на носу: оставалось всего несколько часов, – и встречай себе на здоровье!..
Как и положено в торжественных случаях, начальник колонии Любопытнов душевно поздравил сотрудников с новым счастьем, пожелал самого наилучшего, а затем под жидкие аплодисменты поощрил грамотами и денежными подарками лучших из лучших. Так получилось, что в награжденных были только те, кто не забывался руководством во все праздники. Из раза в раз – как по заказу.
Следом за маленькую, по нынешней моде, трибуну с государственной символикой, по привычке протирая свои в тяжёлой роговой оправе очки, аккуратно взошел новый зам по режиму капитан Грошев Василий Васильевич. Невысокий и плотный, с почти немигающими глазами, он был недавно переведён в нашу колонию, но уже накрепко заполучил кличку: «Люди говорили, люди знают».
Вызовет Грошев по своим делам кого необходимо, вперит многозначительный, странный взгляд – и врежет правду-матку в глаза. А если ответчик начнет артачиться и пойдёт в отказ – зам по режиму и выложит свои безоговорочные аргументы: «Люди говорили, люди знают!» Как к стенке пришпилит. И обязательно попротирает ещё, не снимая, очки. Точно подвинтит какие-то невидимые винтики.
К нам Грошева перевели с повышением для укрепления режима, предварительно спровадив на заслуженный отдых ставшего плохо слышать и видеть майора Нектарова, любившего тоже приговаривать своё: «Где я лисой проходил, там три года куры не неслись!» – и гордившегося тем, что за всё время службы он не получил ни одного дисциплинарного взыскания. Конечно, чудные чудеса – шилом небеса; но пути Господни, как известно, неисповедимы.
В одной из колоний осуждённые, говорят, наслушавшись нынешних телевизионно-перестроечных идей, учинили форменный саботаж, именуемый кипежем, но Грошев сумел безболезненно и одновременно железно усмирить эту бучу, воздав и основным поборникам за права демократизации мест лишения свободы, – тем, кто шёл «за паровоза».
Так что новый заместитель был окружён неким ореолом таинственности и невольного уважения. Ещё задолго до появления в нашей колонии.
Капитан Грошев с добрую минуту по-хозяйски оглядывал сидящих сотрудников, затем с хрустом развернул отпечатанные листки и провозгласил:
– Внимание! Оглашаю список дежурства на усиление! – И раздельно перечислил фамилии сотрудников, которые задействовались в усилении: дежурство по посёлку, на подстанции, гэсээме, нижнем складе. Потом, помолчав, Грошев что-то поискал взглядом на полу и заключил:
– Все свободны. Начсостав прошу остаться!
Дальше должен был зачитываться список офицеров, которым следовало дежурить в праздничные дни. Я суеверно взялся за мундирную пуговицу, так в школьные годы, не выучившие уроки, выкручивали многострадальные пуговицы на пиджаке, надеясь, что не вызовут. Но мне не повезло: попал на дежурство – и как раз в новогоднюю ночь. С девяти вечера и до девяти утра – по жилой зоне осуждённых. В чём и расписался, когда мне передали список для личного ознакомления.
Ответственным от руководства был сам Грошев Василий Васильевич, а под его опеку два офицера: недавно получивший офицерское звание Сергей Шаров, уверенный в себе, крепкий и смуглый брюнет с длинными волосатыми руками, и я – лейтенант Цыплаков Игорь Александрович.
Такая табличка под стеклом появилась полгода назад над моим кабинетом в отряде – длинном бараке, расположенном недалеко от запретной зоны. В самом дальнем углу зоны.
Теперь до обеда мне следовало срочно «подбить бабки»: проверить и перепроверить, пока люди на работе, сам отряд, обойдя с завхозом все секции и каптёрки, а также посмотреть тумбочки и шкафчики в поисках запрещённых предметов и всякого рода колюще-режущих заточек и ножей. Хотя обыск совместно с конвойной ротой и был не далее, как день назад и, казалось, всё было едва ли не языком вылизано, но береженого и Бог бережет. А не бережёного как раз тюрьма стережёт.
Наши воспитанники проведут с дорогой душой и самого нечистого с рогами. Глазом не моргнут. Как-то в один из обычных выходных завёл контролёр в зоновскую дежурку молчаливого человека с тупым носом и совершенно квадратными глазами, встретив какового в тёмном месте, не только, сам того не желая, поприветствуешь задушевно, но и собственное пальто передашь из рук в руки – хотя бы потому, что жизнь в такие минуты кажется действительно дорога как память.
Этот молчальник имел на зоне кличку Нарком, то есть был самым натуральным наркоманом и даже порой как-то умудрялся колоться – «словить кайф». Нарком в дежурке был незамедлительно обследован на алкоголь, и к великому разочарованию дежурного наряда опьянение не подтвердилось.
Проверялись подозреваемые просто: стакан, грязный до отвращения, наполнялся из не менее «стерильного» графина, затем испытуемый выпивал воду и через пару минут, надуваясь до посинения, дышал в этот же сосуд, который следом передавался по кругу присутствующим «спецам» из наряда, а те старательно внюхивались, пытаясь уловить запах ненавистного алкоголя.
В то время, когда обследовался Нарком, кто-то из сотрудников, вероятно, случайно вспомнив о правилах внутреннего распорядка, приказал осуждённому прекратить безобразие и снять головной убор в присутствии администрации.
Вот тут-то квадратность наркомовских глаз и объяснилась без всякого труда: выбрив себе середину головы, он уместил на голом месте сложенный вчетверо носовой платок, пропитанный ацетоном, и вновь был в своей тарелке: «ловил кайф». После разоблачения Нарком уже на законных правах был помещён в штрафной изолятор, где, как правило, содержатся лучшие из худших вверенного спецконтингента. Надёжно и строго.
До обеда моё время пролетело, как тот лёгкий невесомый снежок, что с утра покружился слегка, да и исчез незаметно, очистив до стылой, неподвижной синевы полтора гектара неба над зоной.
С завхозом Сугробовым мы трудились до седьмого пота: дотошно осмотрели тумбочки и шкафчики в каптёрках, складывая всё запрещенное в чёрный мешок, а затем облазали чердак, являвшийся удобным хранилищем для браги, после чего, отодрав цоколь, искали тайники вокруг самого отряда; и пока завхозом прибивались доски на место, я дополнительно заглянул в культкомнату: низкий потолок, пять десятков стульев, стенды на стенах, обшитых морёными досками.
Но главной достопримечательностью был, конечно, телевизор, хранившийся в ящике, закрываем на новенький замок, который, впрочем, всегда успевали самовольно снять и, соответственно, в случае опасности вновь привести в порядок. Вовремя и незаметно, комар носа не подточит.
Замполитом Мирзоевым была утверждена праздничная стенгазета: ставший уже символическим кот в фетровой шляпе и с кокетливо закрученным хвостом, в огромных сапогах с ботфортами, щедро разбрасывал к новогодней ёлке поздравления, вписанные в снежинки, искрящиеся от растолчённого на клею стекла, рассыпанного по всему ватману. Броско и красочно. По такому же образу и подобию стенгазеты готовились и в других отрядах, ничем не отличаясь друг от друга. Делались как по заказу, иное и не требовалось.
Но, нахмурив сросшиеся брови, Мирзоев, прежде чем поставить подпись, внимательно изучил мое новшество: поздравляя от себя осуждённых отряда, я пожелал им от всего сердца – так и подчеркнул – «от всего сердца» скорейшего возвращения домой и встречи с родными и близкими. Поздравление было вписано в звездочку мною лично – как Бог на душу положил.
Можно было уже и ближе к дому двигаться: вокруг отряда, расчищенный, блестел свежий снег, в самом фойе, вырезанные из бумаги всевозможных конфигураций, были развешены разноцветные звёзды; а на тумбочках в секциях как-то по-домашнему уютно устроились миниатюрные ёлочки, и я сделал вид, что не заметил этого мелкого нарушения.
Словом, во всём виделось праздничное настроение; и даже у часовых на вышках оказались белые полушубки, как бы подчеркивая особенность этого ясного морозного дня, а встречавшиеся на пути к выходу из жилзоны подопечные громче обычного и приветливее кричали: «Здравствуйте, гражданин начальник!» И с улыбкой: «С Новым годом!» А некоторые даже вежливо приснимали свои чёрные цигейковые шапки.
И мне тоже было радостно и приятно им отвечать; и лишь только войдя в своё жилище, я как-то разом почувствовал усталость, с особой остротой ощущая хоть и ставший привычным, но всё же доводящий чуть ли не до обморока, тошнотворный запах портянок и устоявшийся едкий дух человеческих тел той территории, где через считанные часы мне надлежало неустанно быть начеку. Всю ночь.
2.
Комната, куда меня недавно переселили из общежития, была крошечная, но уютная: прихожая с умывальником да печка, напротив которой приткнулась железная кровать и столик с тумбочкой в углу. На тумбочке с белой накидкой – бюст Фёдора Михайловича Достоевского, вытащенный во время пожара поселкового клуба. Такое и до отцовских памятей не забудется. Казалось бы, вчера ещё всё произошло, да только, считай, уже полгода позади. Пролетела пуля – не вернётся!..
Через стенку от меня ютился «вольный» прораб Портретов, который порой заглядывал с одним и тем же вопросом: «Сосед, закурить найдётся?» – И всякий раз искренне удивлялся, что я ещё не успел обучиться этой привычке.
Прораба Портретова позаглазно, а то и в глаза величали Картинкиным. Наверное, потому, что всерьёз не воспринимали. Так, сбоку припёка. Александр Григорьевич Портретов постоянно пребывал навеселе, но обязательно раз в год на него находило странное «прозрение»: накупив на почте пачку газет и журналов, сосед старательно писал в редакции всё, что взбредало в голову.
А в ожидании ответа держался соответственно: был абсолютно трезв и аккуратно, до синевы, выбрит. Как к награждению готовился. А дождавшись весточки – до сих пор в серьёзных изданиях отвечают, – всего текста не читал, только первые слова: «Уважаемый Александр Григорьевич!..». Значит, не всё ещё потеряно и стоило жить дальше, коль «уважаемый».. И с не меньшим старанием продолжал «закладывать за воротник». Тем более что должность его имела неоспоримые преимущества: практически все стройматериалы находились в полном портретовском ведении, а это обстоятельство немаловажно для обывателей, большинство жилищ которых держится почти на добром слове. Худые прятки портят и доброго человека, но прорабом не только поселковые довольны, но и все отчётные бумажки у того тютелька в тютельку.
Вот и теперь моя дверь без стука открылась, и сосед – худ, как треска, один глаз глядит на мельницу, другой на кузницу, – заглянув, задал привычный вопрос относительно курения и, получив соответствующий ответ, сипло, тяжёлым голосом поинтересовался:
– Сосед, в баню идём?
В баню я и верно собирался пораньше перед дежурством, поэтому согласно кивнул. Я уже был переодет: успел натаскать дров, чтобы после баньки протопить печку. В такой мороз кто не любит посидеть у огня – этому, кажется, и ангелы небесные радуются!..
На крыльце меня остановила незнакомая женщина, видимо, приехавшая на свидание то ли к сыну, либо к мужу. Вторая половина нашего жилища предназначалась для приезжающих на свидание, и ко мне нет-нет да зайдут с каким-нибудь делом только что приехавшие и не знающие, куда податься. Летом их видимо-невидимо, а в такую пору, да ещё в новогодний праздник, можно сказать, редкость для этих мест.
Прораб, буркнув, что забежит по дороге к Серёге Шарову, заскрипел по снегу своими высокими, раскатанными до пахов валенками, а я, объяснив приезжей, к кому надо обращаться с заявлением, пожелал немолодой уже женщине счастливого нового года и в одиночку пошагал к бане, думая о тех, кто приезжает на свидание.
Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри: поди, порой узнай и разберись!.. А как ещё думать и гадать, когда выясняется, что зачастую то или иное нарушение, а порой и преступление случилось благодаря оказавшимся «на свиданке»: взяли да передали через бесконвойников чай, водку и деньги, а переправить в зону это хозяйство способов всегда предостаточно. Умеют показать Москву в решето. Да и не каждого «шманают» по совести. Не раздевать же человека полностью. Вот тут всяк мастер на выучку и берёт, а голь на выдумки всегда была хитра.
С самой же «свиданки» того проще вынести: достаточно за день до окончания свидания, поголодав, проглотить упрятанные в целлофановый пакетик деньги. Вышел да в укромном месте два пальца в рот – и выскочил на волю, для надежности оплавленный по краям пакетик. И вся недолга. А то ещё нитку привяжут за такой же пакетик да за зуб зацепят. После как лёску с уловом и вытаскивай, ещё проще. Только одно неудобство: скорее попадешься. Зато с деньгами в зоне ты – пан. Или уж пропал, куда кривая выстрелит.
Наряду с этим доподлинно известно, что отдельным сотрудникам случается в тягость заработанный ломоть, который оказывается для них хуже, чем, скажем, краденый. Прямо поперёк горла стоит.
Недавно с треском был изгнан прапор Сайфиу-лин, которого опера «раскрутили» на шестьдесят бутылок горячительного. Ни много, ни мало. Наладился в зону поставлять и втридорога с рыла драть. Кто же его проверять станет – свой человек. Ведь только один волк из счёта-то овец таскает, но он – известное дело – волк. С него и взятки гладки… А этим летом грех по дороге бёг, да и ко мне забёг. Подошла женщина: седая и строгая. Головокружительно наодеколоненная. Мать сидевшего за групповое изнасилование гражданина Берковского. Из моего отряда. Ничего не просила, даже не заикалась, что у сына льгота на носу, – только убедительно и ненавязчиво разъяснила, что мне требуется специальное доппитание, которого здесь не может быть ни под каким соусом, а потому она незамедлительно вышлет мне посылочку-другую из своего Краснодара.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































