Текст книги "Курдюг"
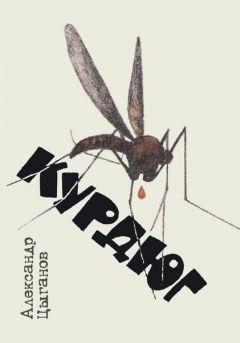
Автор книги: Александр Цыганов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Всё случилось быстро и обыденно. Как во сне. Не на кого и негодовать было. Стоял да рот разевал, не зная, что сказать. А вскоре и извещение пришло: посылка не заставила себя долго ждать.
Оперативники, выслушав меня, без лишних слов позвонили на почту и порекомендовали для этого подарка выдержку в несколько дней, чтобы он прокис хорошенько, а потом уже вернуть его законной владелице. Что и было сделано. Но добедки да по-бедки – те же беды: отчего не воровать, коли некому толком унять?..
Пройдя мостом, отчего-то прозванный «невским», я свернул к бане и, не удержавшись, оглянулся: толстыми рыхлыми столбами стояли над плоскими крышами домов белые дымы; чуть в стороне, на месте сгоревшего клуба, свеже зеленела тяжёлая зелёная ель, украшенная многоцветными игрушками и ярко-рубиновой звездой на макушке: здесь сегодня всю ночь будет веселье…
В бане оказался только мой земляк Николай Александрович Соснин, с тёмной щепоткой усов под острым носом и с большими глазами в полукруглых разводьях. Раздетый Соснин терпеливо настукивал в дверь, за которой в забегаловке с топчаном днюет и ночует старик-бесконвойник, заведующий банным хозяйством.
Для капитана Соснина всегда имеется в здешнем заведении веник, потому как не только в посёлке, но и в самой зоне известно, что дежурный помощник начальника Соснин жить не может без парилки. Как туз к масти. С разрешения начальника колонии даже в середине недели собирал Соснин свой допотопный чемоданчик и топал в жилзоновскую баню, где его уже дожидался банщик. В недавнем прошлом дежурный помощник был в отрядных, как и я, на работе выкладывался по самую завязку, и в себя приходил лишь благодаря парилке. Становился яснее и спокойнее. Красные нервические пятна, покрывающие ребристое худое тело, исчезали до следующего посещения: веник в умелых руках нёс свою службу исправно. Обижаться не приходилось, ремесло за плечами банного умельца не висело.
А природная честность и наивность Соснина выглядели в лицах окружающих дополнительным чудачеством, – как правило, дальше дело не шло. А то не ровен час: удалой долго не думает. И даже опытные оперативники всерьёз напрягались, когда на планёрках брал слово Соснин.
Всегда имел под рукой проверенную информацию, – и бил не в бровь, а в глаз. А однажды ранним утром, направляясь в зону на подъём, я увидел свет в окнах Соснина и завернул к нему, потому что по графику он тоже должен быть на подъёме. Вдвоем-то сподручней да веселее шагать. Капитан открыл мне сразу, глядя неподвижными глазами. Словно с печи человек свалился. А на полу покоилась банка из-под консервов в пепелище окурков да кипа центральных газет. Повыше высокого навалено.
Оказывается, Серёга Шаров в порядке шутки ляпнул накануне, что коллега политически слаб в коленках. И не все соображает в сегодняшней политической обстановке. Вот капитан Соснин ночь напролёт и торчал над периодической печатью – «доподковывался». Также он был способен, к примеру, купив случайно обувь размером больше нужного, носить её с загнутыми, как у старика Хоттабыча, носками, потому что уже было стыдно возвращать даже то, что ещё недавно на ногу мерилось. В чём смех, в том и грех, а только от думы всё равно голова трещит…
Также заступавший в новогоднее дежурство Соснин добился-таки, наконец, своего очередного веника, мигнул мне и, чуть не вприпрыжку, убежал в парилку. Когда мы с ним, на славу распаренные, сидели в предбаннике, послышались голоса: появился матерящийся, на чём стоит свет, Портретов в компании покатывающегося со смеха отрядного Серёги Шарова.
– Расскажу – не поверите. – Серёга разделся и закурил. – Сходи, говорю, Григорьевич, за дровами-то, а то, мол, печь прогорает: у меня как раз яишенка на плите присоседилась. Да пузырь на столе – для гостя. Честь честью. Ну, тот охапку принёс и сразу в печку сунул. Натурально. А оттуда, понимаешь, так ахнуло, что полплиты чуть не разворотило. Да в придачу и вся закуска на потолке оказалась. Как там и была. У Картинкина и дар речи пропал. – Серёга, хлопнув по костлявому плечу мрачного прораба, улыбался во всю ширину рта. – А дело, мужики, такое, что наладился у меня кто-то дрова тырить. Вот я и забил в несколько поленьев патроны. А дрова-то заприметил да отдельно, значит, и положил. А то ещё себя ненароком рванешь. Да только Григорьевича-то забыл предупредить, а он как специально эти и взял. Даже печника пришлось вызывать, до сих пор ещё колупается. А наш-то прораб, глянь, все ещё не оттаял: глаза семь на восемь, восемь на семь!
– Тебе, паразиту, в другой раз в письменной форме отвечу, понял? – буркнул незадачливый любитель халявного горячительного. – Поживешь и с таким полом, без обивки. Желающих всегда найдется.
– Ладно, Григорьевич, – успокоил его неунывающий Серёга. – Мы ведь с тобой, чай, не чужие: как-никак ты у меня в отряде в совете воспитателей. Не забыл ещё? Да и «девятая точка» под твоим мудрым руководством пашет на узкоколейке. Так что три к носу: в другой раз за компанию посидим – за рюмкой чая. – И Серёга Шаров, насильно схапав прорабскую руку, слегка её давнул. Молча изменившись в лице, Портретов вырвался и колченого протопал в моечное отделение. Тише воды, ниже травы. Было отчего и побледнеть: здоровьем Серёгу Шарова не обидели. Быку шею свернёт.
Рассказывают: Серёга только-только окончил техникум, а перед последним экзаменом, забредя на городской окраине в какой-то магазинчик, заприметил за прилавком девушку. Вроде ничего особенного дивчина, а только парень вдруг как окаменел. Да и та, в свою очередь, тоже изменилась в лице. Покраснела и в подсобку. Серёга – следом, а там уже ухажёр дожидается. Косая сажень в плечах. Оказывается, здесь и работал, разнорабочим.
Серёга, занимавшийся карате, окрысившегося человека не тронул – только встал в стойку и нанёс показательный удар по первому неодушевленному предмету, подвернувшемуся под горячую руку. В результате, дверка трехстворчатого шкафа оторвалась вместе с петлями. Правда, и каратистский кулак после такой процедуры распух до размеров доброго капустного кочана, зато наглядный пример моментально убедил соперника: он безнадёжно махнул рукой и, вздохнув, убрался восвояси.
А Серёга теперь и шагу не шагнет без своей второй половины, которая чувствует себя за ним, как за каменной стеной. Обзавелись и хозяйством: кролики со свинкой. Живут да радуются.
Поигрывая мышцами и похохатывая, Серёга потащил нас с Сосниным, обняв за плечи:
– Мужики, подфартила удача – вместе дежурим!
– И загорланил во всю силу легких: «А три танкиста, три весёлых друга! Экипаж машины боевой!..»
Серёга открыл заслонку в парилке и шарнул на каменку подряд несколько ковшей воды. Кожеобжигающий пар, мощно ухнув, хлынул к потолку, согнав блаженно растянувшегося на верхнем полке прораба. Казалось, волосы на головах вересом затрещали! Но парились да мылись мы до одури.
И когда уже расходились из бани, мой разомлевший сосед, благодушно отдуваясь, хмыкнул:
– Ладно, что у Шара пузырь не раскатали: надо ещё в дежурку заскочить – бугра с «девятой точки» дёрнуть. С подшефной-то. А то я на всякий случай после праздников пару отгулов прихватил – не помешает.
Но Серёга Шаров и здесь не удержался, чтобы не поддеть:
– Картинкин, белены объелся? Или дежурку с проходным двором спутал?
Конечно, кому не известно, что в зоновскую дежурку в любое время дня и ночи могли заходить по делу и без дела не только начсостав, но и вольнонаемные, зачастую не показав даже и пропуска охране, знавшей всех как облупленных, но теперешнее полушутливое замечание неожиданно вывело прораба из себя:
– Ты когда в лесу на своей «точке» был в последний раз? – напрягая жилистую шею с челночно бегающим кадыком, взъярился он. – Может, сам бугру и скажешь, чего им после выходных делать? Давай – хлопот меньше!
– Не бузи, – примиряюще дернул подбородком Шаров. – Некогда, Григорьевич, сам знаешь. Мотаешься и без того, как заведённый. У тебя ведь Паньков бугром-то на «точке», верно?
– Кто ещё – Нарком, конечно, – так же быстро и остыл прораб. – В авторитете. Да и дело знает туго – не обижаюсь.
– Туго… Знаем мы, что он, заштыренный, туго знает: енот да не тот. Ладно, Портретыч, проехали. Работа есть работа. Не будем заводиться: после баньки снова жить захотелось! Кто скажет, что это не так – пусть первым бросит в меня камнем!..
А дома, в своей уютной комнатке, как только я поднёс былинку спички к матово-розовым дровам, в печи и занялось разом, вкусно запохрустывав согнутой в барашек сухой жёлтой берестой; и я, отварив в новенькой голубой кастрюле рожки, поджарил их на подсолнечном масле. И на верхосытку ещё напился тёмно-янтарного свежего чаю с куском чёрного хлеба местной выпечки. После чего, подбросив дров в печку, подпёр поленом весело осветившуюся ало-красным атласным огнём чугунную заслонку, – и блаженно растянулся на кровати. И уже сквозь дрему, засыпая, непослушными, костенеющими пальцами нашарил на столике будильник, завел – и на целых три часа оказался везде и нигде. Против неба на земле.
Солнышко нас не дожидается, и, когда я проснулся от неожиданной боли в сердце, было уже темно: зимний день не дольше воробьиного носа. А боль, туго сдавливая, заставляла сдерживать частое дыхание: какая-то острая иголка медленно переворачивалась в сердце, ноющими электрическими покалываниями растекаясь в груди и под лопаткой; и ещё немея, нехорошо отяжелело левое плечо, и обмякла рука.
Стараясь медленней дышать, я закрыл глаза, ожидая, когда отпустит эта, дотоле непонятная сердечная боль. Беда-то ведь без ума… Но только после того, как лицо покрылось испариной, игла сразу исчезла, и я задышал спокойнее, всё же долго не решаясь двигаться. Затем медленно сел и включил свет. Печь к этому времени прогорела окончательно, подёрнувшись серебристо-серой золой, и я закрыл заслонку, только теперь ощутив, как от тепла ещё уютнее стало в комнатке. А васильковые занавески на окне знакомо напомнили дом родной, который хоть и был далеко, да вспомнить его всегда легко; а что и было близко, то – получалось – слизко…
Но настала пора собираться, время не ждало. Погладив форменные брюки и рубашку, я побрился хваленым лезвием «Жиллет», которым, оказалось, следовало бы пользоваться разве что по приговору народного суда, но, освежившись родным «Шипром», почувствовал себя вполне человеком. На все сто. Но отчего эта непонятная боль?.. Не чаяно, не ведано – встретила носом к носу. Да и взяла, как Мартына с гулянья…
Бюст Достоевского – на тумбочке под белой накидкой – таинственен и загадочен. Так под кремнем огонь скрыт… Взяв стул, сел я напротив великого и молчаливого Собеседника. Часто так до позднего вечера пристраивался – с глазу на глаз, и время не замечалось.
… Что скажешь? – А что спросишь, хотя заведомое не спрашивают. Ведь на правду слов нет – это то же, как на исповеди: и так всё налицо. И как тогда в тоскующей душе не может не проткнуть ледяной иголкой беззащитно дрогнувшее человеческое сердце, когда, скажем, прямо на глазах крутится берестой на огне сошедший с круга мой сосед, а над такими, прямее прямого, как безобидный земляк Соснин, не перестают изводиться в насмешках нежелающие видеть дальше собственного носа, в свою очередь, сами наделённые какой-нибудь безрадостной кличкой, потому как всякий живущий в этом конвойном посёлке неизменно награждается прозвищем; а каждый второй с погонами на плечах, вернувшись поздним вечером со службы, вынужден без слов хвататься за горячительное, чтобы хоть как-то суметь позабыться до утра; и так месяц за месяцем, год за годом, и несть этому числа; хотя, конечно, день дню не указчик, и день на день не приходится…
«Хоть далеко, да полётно», – сказал я себе тогда ещё, год назад, когда узналось, что после торчания в райцентре, надоевшего хуже горькой редьки, наконец-то можно будет отправляться самолётом в сторону будущей работы.
Сообщила это из окошечка кассы, подведя сухоту к моему животу, молодая и красивая женщина в форменном тёмно-синем костюме и белой рубашке с чёрным галстуком. Казалось, она появилась в этом деревянном домике аэропорта совсем из другой жизни, элегантная и печально-миловидная, с удлиненными, загадочно-неподвижными глазами. А когда билеты на рейс были проданы, и женщина из кассы повела на посадку – наяву, что во сне, – боль напала! Шла она странно: одним боком опадала вниз, неуклюже-безобразно выправляясь, и вновь опадала…
«Почему так-то?.. – чуть было не вскрикнул я. – Где радость, тут и горе…». А когда на прощание я обернулся к ней, женщина безмолвно закивала мне, мигая своими выразительными глазами; и явственно было видно, что она понимает всё, что творилось в моей душе…
«Тут вся твоя сила, сынок…» – так увещевала меня в детстве мать, упрашивая доедать кусок хлеба.
Тут вся моя сила. Ведь каждый из нас живёт не только собственной жизнью, но и многими другими. А это значит, что наши сердца, человеческие сердца, нуждаются в защите, памяти, любви. Человек-то жалью живет. А что ни человек, то и я…
Когда я в темноте подходил к высокому глухому забору, обнесённому в несколько рядов «путанкой» и колючкой, с неба на зону сорвалась звезда и, прочертив ясный золотистый след, мгновенно погасла, точно испугалась, увидев, куда она падает.
3.
Дежурка – небольшое деревянное строение линяло-голубого цвета со скамейкой у входа – в нескольких десятках метров от вахты. Прямо от трёхступенчатого крыльца дежурного помещения нередко отводят проштрафившихся напротив – через маленькие и скрипучие, плохо открываемые воротца большого забора – в штрафной изолятор. Там же внутри и помещение камерного типа. Проще говоря – ПКТ. Сидят здесь от месяца до полугода: что посеешь, то и пожнёшь. Как правило, за серьёзные нарушения режима, а порой даже и преступления. Кто чего стоит.
В самой дежурке – три комнаты с зарешеченными окнами, но без дверей, разделённые между собой порожками. В первой – с барьером – во всю ивановскую действует войсковой наряд, во второй – с пультом громкой связи и несколькими телефонами – руководит сам дежурный помощник начальника колонии, а в третьей, самой крошечной, – делят место неказистая, расшатанная лежанка и огромный, громоздкий сейф. Здесь зачастую и перекусывает на скорую руку дежурный наряд: на службе, известное дело, не без тужбы.
Все уже были в сборе: в пятнистых бушлатах, серьёзные. Старый наряд, быстро и деловито сдав дежурство, напутствовал хорошей службы и ушёл, чтобы вскоре сесть за домашний стол и по-человечески встретить праздник. В семейном или дружеском кругу.
А зам по режиму Грошев, не теряя времени даром, сразу в дежурке и провёл дополнительный инструктаж: свободно и неторопливо прохаживаясь по комнатке, он внушительно вещал:
– Помните, дежурство особое. Полная бдительность и ни малейшего расслабления. В двенадцать – обязательный отбой, – и регулярные обходы по территории. А также по всем куткам. При съёме осуждённых с работы выявлено и изолировано несколько человек. Но могут быть пьяные и в самой зоне: всё не предусмотришь. Значит, обходы, обходы и ещё раз обходы. Ни минуты не дремать. Это – главное. Обо всех инцидентах докладывать мне лично: я буду работать у себя в штабе. А сейчас – обход по зоне.
В это время без стука возник председатель совета колонии, малый, которого и в три обхвата не обнимешь; поздоровавшись вежливой скороговоркой, он затрещал:
– Разрешите новогоднюю программу посмотреть, – народ просит. Всё будет путём, только разрешите немного на воле себя почувствовать, век будем помнить!..
– Дают стране угля, – только и изумился дежурный Соснин, хотя председатель совета не сводил своих бегающих глаз с режимника. – Это же протянется до четырёх утра – не меньше! Да у меня к тому времени всю зону на уши поставят – виновных не найдёшь! Самого под суд отправят! Не мешайте работать!
– Ми-ну-точ-ку, – раздельно выговаривая, остановил капитан Грошев скуксившегося председателя. – Как, говорите: посмотреть праздничную программу? А если гарантия, что в зоне действительно будет полный порядок?
– К-конечно, – вдохновенно зазаикался председатель. – Мы же себе не враги, гражданин начальник! P-разрешите, объявлю по отрядам? Я мигом!
– Раз-ре-ша-ю. – Грошев, щурясь, попротирал очки, провожая взглядом обрадованно вывалившегося за дверь председателя, затем, развернувшись на каблуках хромовых, лаково блестевших сапог, наставил короткий палец на покрасневшего дежурного:
– Никогда не лезьте вперёд батьки в пекло – соблюдайте субординацию. Даже если и дежурный помощник начальника колонии. Запомните. Дальше: народ будет занят – это самое главное. Останется только координировать свои действия: здесь у нас опыта не занимать – справимся. А раз люди говорили, что гарантируют порядок, – значит, люди знают! Не вопрос. Всё, товарищи офицеры, обход!
Доказывать, что спор себе дороже – всё одно, что в стенку лбом биться. И мы молчаливо вышли вслед за Грошевым в морозную темноту ночи, тускло освещаемую хилыми лампочками под ржаво скрипевшими абажурами; и по нам с одной из вышек на секунду скользнул ярко-жёлтый прожекторный луч, в свете которого на мгновение покорно взвились и заплясали в сумасшедшем хороводе мириады беззаботно-легкомысленных и весёлых снежинок. Из светлого-то рая, да на трудную землю…
Металлически щёлкая набойками каблуков по проморожено-звонким доскам плаца, нас догнал и пошагал впереди прапор Псарёв из дежурного наряда конвойной роты.
Поеживаясь, я невольно усмехнулся: за неделю до праздников Псарёв вызвал по громкой связи осуждённого Жилина, а меня в это время как подтолкнули – и дунул, вспомнив известный толстовский рассказ, вызывающему на ушко: «Заодно и Костылина не забудь!»
«Осуждённые Жилин и Костылин! Прибыть к дежурному! – на ходу перестроился Псарёв. – Жилин да Костылин, срочно в дежурку!» – гаркнув напоследок, он сделал мне обнадёживающий знак рукой: мол, сейчас оба, как штык, здесь будут!
Поняв, что шутка зашла далеко, я попытался это объяснить контролёру, но тот уже закусил удила: пока не перебрал в дежурке все списки, выяснив, что такого осуждённого в природе не существует, – не успокоился. Даже пот служивого прошиб. И после перестал со мной здороваться. Только головой при встрече кивал, старшему по званию. Для порядка.
У Псарёва отечное лицо и вечно недовольный, лающий голос. А по заметке и примета: со всеми как кошка с собакой, одинаково не милует как жену, так и осуждённых на службе. Всех под одну гребёнку стрижёт. Раз у меня на глазах с дежурства отпросился – жену из домашней кладовки выпустить. Сидела там с утра и до вечера, на всякий случай. Чтоб мужа больше уважала. А осуждённые тут как тут и прозвище подобрали от души: Кирпич. Толчея без стука не ходит – так и наладилось: Кирпич да Кирпич. Даже комроты и тот однажды обратился: «Товарищ Кирпич!..» После плюнул и рукой махнул: как банным листком прилипло… Так и звали человека, как величали.
Во время обхода по отрядам всюду предстала одинаковая картина, какая бывает только по праздникам: в секциях шум и гам, в комнате воспитательной работы неустанно мерцает мертвенно-синим накалом многострадальный телевизор; и больше обычного узкая тропка от культкомнаты до туалета залита матово белеющей жидкостью тайно бегающих сюда в эти праздничные и одновременно невыносимые часы; а в курилке, где можно смело вешать топор, едкий и плотный дым делает неузнаваемыми сражающихся в шашки под сопровождение адского смеха и мата; но всё равно, как по команде, перед нарядом все бодро и весело встают, безбоязно отвечая на дежурные вопросы, а улыбки запоминаются непривычной искренностью… И без перца доходит до сердца, – каковы веки, таковы и человеки…
Не забыли мы заглянуть и в «кутки»: пристройки к пэтэушке и котельной, парикмахерской и школе, в каптерку с санчастью. За глаза довольно. Обошли из конца в конец: всё было тихо и мирно.
После обхода зам по режиму, как и обещал, отвернул к себе в штаб зоны, а мы, уже крепко замерзшие, заторопились к дежурке – чуть не наперегонки. Перед самым входом нас осторожно обошёл Нарком в новой фуфайке с форсисто поднятым воротником и вжатой в плечи головой.
А на пороге дежурки, часто затягиваясь, как ни попало, зобал – пыхтел папироской прораб Портретов, по красным пятнам лица которого было понятно, что уже погнал человека чёрт по бочкам. Даже челюсть отвисла.
– A-а, Портретыч, – припечатал прораба по плечу Серёга Шаров. – Дело сделал? Выдал Наркому задание? Всё – до встречи в эфире!
– Верно, верно, – не обидевшись, согласно засуетился прораб, что было явно не в его характере. – Ухожу, голубчики-душегубчики! Спешу: запинаюсь и падаю…
В самой дежурке нас уже дожидался вскипячённый чайник, и мы, разложив на сейфе припасы, добрые полчаса гоняли чаи, в душе радуясь, что всё пока идёт хорошо да ладно. Так хорошо, что любо.
Но от добра до худа один шаток. Зазвонил телефон, и дежурный, хмуро выслушав, кивнул мне:
– Давай к себе: завхоз икру мечет – кажется, пьянка…
Накинув бушлат, я выскочил в одиночку: в своих-то углах не староста указчик. А чуть что – телефон под рукой. Да и волков бояться, в лес не ходить…
В моем кабинете встревоженный завхоз с ходу шепнул секцию, где чифирили залившие за воротник подчинённые. Я шугнул его будто бы за непорядок: оставив на тумбочке повязку, где-то без дела болтался дежурный по отряду. Пришлось самому собирать актив – для традиционного обхода.
Обход начался не спеша и по порядку, с ближней секции, чтоб завхоза не подвести ненароком. В одном из помещений был обнаружен в розетке самодельный электрокипятильник – «кипятило»: пара металлических пластин да шнур с оголённой проводкой. Творение рук человеческих, подходившее на все случаи жизни, было брошено на произвол судьбы в виду внезапного обхода. А за это наказывались последовательно и строго.
В последней секции, в углу на койках, действительно чифирили: чёрная железная кружка ходила по кругу, передавалась из рук в руки – важно, степенно и обходительно. Каждый, сделав строго по глотку, передавал закопчённую алюминиевую кружку следующему. «В авторитете» здесь вологодский Борис Кондратьев – Кондрат, с лицом, покрытым мелкими нарывами и дышащий в нос, хрипло и густо, через силу. Трое «кентов» во всём внимали Кондрату: сложив по-турецки ноги на кроватях, не спускали с него блестящих и мутных глаз. Даже рты пооткрывали, и слова поперёк не пикнут.
– Чай не запрещается, – опережая вопрос, насмешливо и хрипло протянул Кондрат, однако глядя на меня вполне серьёзно и внимательно. Но я и не думал разводить известную волокиту, в очередной раз доказывая, что распитие чая вот так, по кругу, уже нарушение. Не на посиделках – купил, дуй себе на здоровье, кто же против будет. Только – в одиночку. Закон есть закон, кстати, не нами и придуман, понимать надо.
Я лишь как бы случайно, вслух, удивился, что у Кондрата «гуляет» язык, а это, надо полагать, не является результатом воздействия уважаемого им чифира. Не грех бы и провериться, чтоб случайно не попасть по раздачу. Не правда ли? – держал я быка за рога.
Сделав худо, не жди добра, но когда вот так – по-людски да по-божески просят, отчего бы не пойти да не провериться. Никто не откажется. Завсегда рады. Там, где проверка ожидается, тоже люди – поймут и разберутся. Восстановят справедливость. И все довольны. А иначе нельзя: окоротишь, так не сразу воротишь. Беды ещё не оберешься. В одной из колоний, сопровождая тоже до дежурки через зону пьяных, контролёры ради порядка взяли и сунули под микитки одному строптивому, а он возьми да закричи: «Наших бьют!» Вся зона поднялась – честь свою защищать. Ломали и громили всё, что плохо приколочено. И мирно остыли, наткнувшись на привлечённых для наведения порядка конвойных с автоматами. Так что как аукнется, так и откликнется.
Дежурный, вызвав из посёлка медика, провёл с контролёрами осмотр доставленных из моего отряда. Те охотно выворачивали карманы наизнанку, снимали сапоги – демонстрировали полную лояльность. Знать, на кривой козе выезжали: были уверены в собственной правоте.
Один глаз на нас, другой в Арзамас, на негнущихся ногах и в шинели, вывалянной в снегу, вошел Точилов Павел Павлович, с петлицами медика и погонами лейтенанта. Не обращая внимания на окружающих, он бережно усадил самого себя в кресло дежурного и, со значением прикрыв сонные вежды, извлёк из шинели пачку с сигаретами.
Тут нашему слову места нет, потому что в любой государственный праздник Павел Павлович Точилов с утра сыт, пьян и нос в табаке. А медчасть своего в обиду не даёт: ценный работник. Даже какой-то труд пишет, в науку ударился. Берегут пуще глаза. А человек, понятное дело, без недостатков не бывает: лукавый и святых искушает.
Развалившийся в кресле Точилов с усилием разомкнул глаза, закурил и с минуту в недоумении разглядывал пытавшегося перед ним не покачиваться Кондратьева, потом, брезгливо дёргая губами, оповестил:
– О-о-о… один выйди.
– Здесь больше никого нет, – на всякий случай вытягиваясь по стойке «смирно», заплетающимся языком отчитался Кондратьев. – Я один, гражданин начальник.
– Так… понятно. Нам всё понятно. Всё равно – один выйди!
И, погрозив кому-то невидимому пальцем, дежурный медик со всеми проделал одну и ту же нехитрую процедуру, значение которой было ведомо лишь ему: приказав каждому раскрыть рот, он сосредоточенно разглядывал похожие на подошвы тёмно-бурые, начифирённые языки, что-то при этом напряжённо соображая. Затем при общем молчании медик долго выписывал справки обследования.
Выполнив такую трудоёмкую работу, Точилов не с первого захода встал и также на негнущихся ногах покинул помещение. С гордо и надменно поднятой головой, как на торжественном церемониале.
А Соснин, ознакомившись со справками, внезапно побагровел и, шевеля щепоткой усов над вздернутой губой, воспылал гневом:
– Береги природу, мать твою!.. Только гляньте, что человек делает! Ставит общий диагноз: «язык чифириста». И захочешь, такое не придумать!.. Маразм крепчал! – Но, спохватившись, Соснин глянул на повеселевшую компанию и для пущей убедительности постучал по столу: – Не радуйтесь, мужики. У всех заложено – и без проверки видно. Да и грехов у каждого по уши. Так что, запрягайте, хлопцы, коней: собирайтесь в изолятор. На сутки – правами дежурного. Без всякой обиды: всё по закону.
Дежурный оглянулся и кивнул невысокому прапору с сальными волосами, у которого охраняемые недавно просили в лесу пистолета орехи поколоть, но тот оказался на высоте, – не доверил. Хотя и обращались с уважением: вежливо и обстоятельно.
– Значит, Паша… – Соснин качнул головой, морщась точно от зубной боли. – Слышь, отведите этих с Псарёвым в изолятор да заодно помогите там с отбоем. Давайте, служивые, поживее…
А я в одиночестве оставался в комнате с сейфом, никого не слушая и ничего не ведая, потому что мне уже виделось, как за зарешечённым окном, медленно тая и высвечиваясь, уходила темень, и на смену постепенно появлялись, отчётливо обозначаясь, сверкающие серебром и золотом украшения праздничной ёлки той далёкой поры моего последнего школьного года, когда самая красивая девушка, всегда застенчивая и робкая, прямо при всех подошла ко мне и громко, во всеуслышание сказала, что любила и любит только меня одного, – в ответ на моё глупое открыточное пожелание быть счастливой; и, кажется, только теперь я неожиданно понял, что навсегда потерял ту, о которой, спасая себя, постоянно думал и был этим счастлив…
«А у Кондрата-то – отец с инфарктом», – вдруг молнией мелькнуло у меня ни с того ни с сего, и тут же из грязного, полуразбитого приёмника, висевшего над дежурным, мелодично и празднично ударили куранты, по-детски радуя своими удивительными, чистыми звуками…
– Порядок, – бросил вернувшийся из изолятора Псарёв. – Сделали отбой. Улеглись как бобики и не тявкнули. У нас не навыступаешь.
– Ага, – подтвердил и Паша, покомкав ладонью свои сальные волосы: деловит и серьёзен: – Только Кондрат тусовался, еле успокоили. Икру мечет: «пришью» отрядного. Говорит – не по делу замели. Мол, отрядный виноват. Раз медики не подтвердили пьянки, – всё, разошлись, как в луже чинарики. Так и говорил. Матерился, будь здоров. Хотели даже в браслеты закоцать, да поутих. Сейчас нормалёк, – отдыхает.
Дежурный скривился и закурил, затянувшись так, что и без того его плоские щёки обтянуло, как у больного:
– Час от часу не легче. Каким только Трумэном люди думают?.. – Соснин обжёгся, вставив новую папиросу другой стороной. – Ш-шерсть стриженая!..
– Теперь, наверно, срок навесят новый, да? – как оса, лез в глаза Паша. – А что, ништяк: за угрозу расправы над офицером – ещё на пару лет как миленький загремит! Чтоб понимал, да?..
И не от того мне было холодно, что кто-то дурью маялся, прежде веку всё равно не помрёшь. И коли быть беде, то её не обойдешь, а долгая дума – только лишняя скорбь…
В чёрном дешёвом костюме, худой и бледный, с провалившимися щеками и еле слышным голосом стоял почему-то перед глазами отец Бориса Кондратьева. После перенесённого инфаркта был на свидании с сыном. На краткосрочном. Длительного Кондрат был лишён – за очередное нарушение, без них не обходился. А ещё через несколько дней после свиданки у самого Кондрата так схватило зубы, что на стенку чуть не прыгал, аж позеленел.
И пока я, бросив все дела, бегал в посёлок за таблетками – по выходным медчасть под замком, – и умудрился на собственное мероприятие опоздать. Этого добра у нас не огребёшься. А контролировал замполит своих сотрудников крепко, и на планерке расправа не замедлила, через колено, да пополам. Мол, пасись, коза, на привязи: знай своё место. Сильная рука кому не владыка?..
А в письме, которое следом пришло мне от отца Бориса Кондратьева, написанном слабыми шатающимися буквами – следами человеческого горя, была робкая просьба присмотреть, по возможности, за сыном, который вырос без матери, в общежитии, в детстве часто болел, а перед армией был так избит, что потерял селезёнку, но об этом он сам никогда не расскажет, и если, конечно, виноват, то… И без них горе, а с ними – двое…
И если до кого такое не дойдёт, того уже не сожжёт, а потому и не было у меня ответа человеку с сальными волосами и мягкими пухлыми руками, цепко державшими кусок хлеба и кружку с дымящимся чаем…
– Му-жи-ки-и-и… – вдруг шёпотом прохрипел Серёга Шаров, сводя к переносице, как это умеет только он, свои плутовато-желудёвые глаза. – Мужики, – вращал зрачками Серега. – А вы хоть знаете, что у того, кто занимается онанизмом… – голос Серёги упал до трагического хрипа, – ведь шерсть на руках вырастает!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































