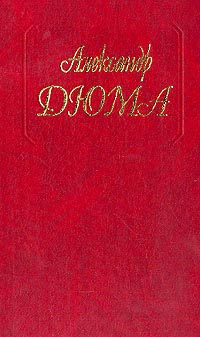Читать книгу "Сан-Феличе. Книга вторая"
LXXXVI. ЗАПИСКА
Мы не станем возвращаться к событиям, которые уже прошли перед нашими глазами. Скажем только, что с высоты крепостных стен замка Сант'Эльмо, благодаря превосходной зрительной трубе коменданта, Николино видел все, что происходило на улицах Неаполя. О тех событиях, что нельзя было наблюдать, комендант Роберто Бранди, ставший пленнику настоящим другом, рассказывал с добросовестностью, которая оказала бы честь префекту полиции, отдающему рапорт высшему начальству.
Со стен крепости Николино наблюдал страшное и великолепное зрелище сожжения флота, после подписания перемирия в Спаранизе следил за прибытием карет с французскими офицерами, приехавшими получить два с половиной миллиона контрибуции, и узнал на следующий день, какой монетой эти два с половиной миллиона были выплачены, наконец, стал свидетелем всех перипетий, сопровождавших отъезд главного наместника, начиная с назначения Молитерно диктатором и до публичного покаяния его и герцога Роккаромана. Все эти события, наблюдаемые издалека, казались не совсем понятными; но объяснения коменданта проливали свет на их смысл и были для Николино как бы нитью Ариадны в лабиринте политики.
Итак, вернемся к 20 января.
В этот день стало известно об окончательном срыве перемирия, последовавшем за встречей князя Молитерно с Шампионне, и о том, что в шесть часов утра французские войска двинулись на Неаполь.
Это известие привело лаццарони в ярость, и, нарушив всякую военную дисциплину, они сами выбрали себе своих предводителей – Микеле и Пальюкеллу, крича, что не желают знать других начальников; затем, присоединившись к солдатам и офицерам, вернувшимся из Ливорно с генералом Назелли, они стали стягивать пушки в Поджореале, Каподикино и Каподимонте. Другие батареи были установлены у Порта Капуана, на Мерджеллине, на площади Пинье и во всех пунктах, откуда можно было ожидать нападения французов. В тот день, когда готовились к обороне, грабежи, пожары и убийства, несмотря на все усилия Микеле и Пальюкеллы остановить их, приобрели невиданный размах.
С высоты стен замка Сант'Эльмо Николино с ужасом следил за совершавшимися преступлениями. Он удивлялся тому, что республиканцы не предпринимают никаких мер против подобных зверств, и спрашивал себя, уж не дошел ли комитет республиканцев до такого жалкого состояния, что позволил лаццарони стать хозяевами города, раз он не пытается положить предел всем этим бесчинствам.
Беспрестанные вопли неслись из разных кварталов города и поднимались до высот крепости Сант'Эльмо. Клубы дыма внезапно вырвались из скопления домов и, разносимые сирокко, густой пеленой нависли между городом и замком. Убийства, начатые на улицах, продолжались на лестницах и заканчивались на террасах дворцов – почти на расстоянии выстрела часовых. Роберто Бранди обошел все двери и потерны замка, удвоил там караул, отдав приказ стрелять по всякому, кто явится сюда, будь то лаццарони или республиканцы. Он имел, по-видимому, некие особые соображения и следовал какому-то своему тайному плану.
Королевское знамя продолжало развеваться над стенами крепости: несмотря на отъезд Фердинанда, оно не исчезало ни на минуту.
Это знамя, знак верности королю, радовало взоры лаццарони.
С подзорной трубой в руке Николино тщетно искал на улицах Неаполя своих знакомых. Было известно, что Молитерно не вернулся в Неаполь; Роккаромана скрывался; Мантонне, Скипани, Чирилло и Веласко выжидали.
В два часа пополудни произошла смена караула; в крепости часовые сменялись каждые два часа.
Николино показалось, что часовой, который находился к нему ближе других, кивнул ему.
Он не подал вида, что заметил это; но через несколько мгновений снова взглянул в его сторону.
На этот раз сомнений не оставалось. Этот знак был тем очевидней, что трое других часовых устремили взгляд кто на горизонт, в сторону Капуа, откуда ожидали французов, кто – в направлении Неаполя, который рушился под огнем и мечом, и не обращали никакого внимания на четвертого часового и пленника.
Итак, Николино беспрепятственно мог приблизиться к караульному и пройти мимо него на расстоянии шага.
– Сегодня за обедом обратите внимание на ваш хлеб, – бросил ему часовой.
Николино вздрогнул и продолжал свой путь.
Его первым чувством был страх: он подумал, что его хотят отравить. Сделав шагов двадцать, он вернулся и, снова проходя мимо часового, спросил:
– Яд?
– Нет, записка, – отвечал тот.
– А! – перевел дух Николино, сразу почувствовав облегчение.
И, отойдя на некоторое расстояние, он уже больше не смотрел в сторону часового.
Наконец-то республиканцы на что-то решились! Недостаток инициативы у mezzo ceto 88
Среднее сословие (ит.)
[Закрыть] и у знати – главный порок неаполитанцев. Насколько народ, как пыль, вздымаемая ветром, всегда готов к восстанию, настолько средний класс и аристократия трудно откликаются на революции.
При любой перемене mezzo ceto и аристократия слишком боятся потерять то, чем владеют, тогда как народ, который не владеет ничем, может только выиграть.
Было три часа пополудни. Николино обедал в четыре; следовательно, ему оставалось ждать час. Этот срок показался ему вечностью.
Наконец, он истек. Николино сосчитал все четверти и половины, которые вызванивали на трехстах церквах Неаполя.
Он спустился к себе; стол был накрыт как всегда; перед прибором лежал хлеб. Николино бросил на него беглый взгляд. Хлеб не был надломлен – вся круглая верхняя корка была гладкой и нетронутой. Если записка внутри – стало быть, ее запекли в тесте.
Николино начал думать, что предупреждение было ложным.
Он посмотрел на тюремщика, прислуживавшего ему за столом с тех самых пор, когда блюда начали становиться все изысканнее. Теперь юноша надеялся, что он даст ему знак, побуждающий разломить хлеб.
Но тюремщик оставался бесстрастным.
Николино осмотрел стол, думая найти какой-нибудь предлог отослать его. Напрасно: стол был накрыт безупречно.
– Друг мой, – сказал он тюремщику, – комендант так добр ко мне, что я не сомневаюсь: он непременно пришлет мне бутылку асприно для возбуждения аппетита, если я попрошу его об этом.
Асприно в Неаполе – то же, что сюренское в Париже.
Тюремщик вышел, пожав плечами и как бы говоря: «Что за причуда просить уксус, когда на столе лакрима кристи и монте ди прочида!»
Однако, коль скоро ему велели быть с пленником особо внимательным, он повиновался с такой поспешностью, что даже не закрыл дверь камеры.
Николино окликнул его.
– Да, ваше сиятельство! – отозвался тюремщик.
– Я прошу вас закрыть за собой дверь, друг мой, – сказал Николино. – Открытые двери вызывают у пленников искушение.
Тюремщик, который знал, что бегство из замка Сант'Эльмо невозможно, если только не спуститься, как Этторе Карафа, со стены по веревке, запер камеру не столько для успокоения своей совести, сколько затем, чтобы не поступить неучтиво по отношению к герцогу.
Как только ключ повернулся в замочной скважине, со скрежетом замкнув дверь на два оборота, Николино, чувствуя себя в безопасности, разломил хлеб.
Он не ошибся. В самой середине мякиша находилась свернутая записка, приклеенная к тесту; это доказывало, что она была вложена туда, когда пекли хлеб, как и думал пленник.
Николино прислушался: никакого шума не было; он быстро развернул записку и прочитал:
«Ложитесь сегодня спать не раздеваясь. Если услышите шум между одиннадцатью и двенадцатью, оставайтесь спокойны. Знайте: это явились Ваши друзья. Будьте только готовы помочь им».
– Черт возьми! – прошептал Николино. – Хорошо, что меня предупредили. Я бы принял их за лаццарони и оттрепал как следует. Посмотрим постскриптум:
«Необходимо, чтобы завтра с рассветом французское знамя появилось над замком Сант 'Элъмо. Если наша попытка не удастся, сделайте все возможное со своей стороны. Комитет предоставляет в Ваше распоряжение пятьсот тысяч франков».
Николино разорвал записку на тысячу мельчайших частиц и рассеял их по всей камере.
Он закончил это в ту самую минуту, когда ключ в замке повернулся и на пороге появился тюремщик с бутылкой асприно.
Николино, унаследовавший от матери французские вкусы, терпеть не мог асприно; но на этот раз ему показалось, что он должен принести жертву родине. Он наполнил стакан, поднял его, провозгласил тост за здоровье коменданта и разом осушил его, прищелкнув языком с таким видом, словно только что выпил стакан шамбертена, шатолафита или бузи.
Восхищение, какое Николино внушал тюремщику, удвоилось: ведь, право же, надо обладать поистине мужеством героя, чтобы выпить, не поморщившись, стакан такого вина.
Обед оказался еще лучше, чем обычно. Николино высказал по этому поводу свою благодарность коменданту, который явился, как уже вошло у него в привычку, проведать своего пленника за кофе.
– Что ж! – ответил Роберто Бранди. – Благодарность относится не к повару, а к асприно: это оно вызвало у вас аппетит.
Николино не имел обыкновения подниматься на крепостную стену после обеда, который затягивался теперь, когда стал гораздо обильнее, до половины шестого и даже до шести вечера. Но, будучи возбужден не столько выпитым вином, как думал комендант, сколько полученной запиской, видя, что синьор Роберто Бранди в хорошем расположении духа, и не сомневаясь, что Неаполь так же интересен ночью, как и днем, Николино так упорно стал жаловаться на тяжесть в желудке и боль в голове, что комендант сам предложил ему выйти подышать воздухом.
Узник заставил себя просить; затем, чтобы не обидеть коменданта, он согласился наконец подняться с ним вместе на стену.
Неаполь вечером представлял собой такое же зрелище, что и днем, только во тьме оно казалось еще ужаснее. Грабежи и убийства совершались теперь при свете факелов, их огни метались во мраке как безумные, словно играли в какую-то фантастическую, страшную игру, придуманную смертью. Пожары продолжали пылать; яростное пламя прорывалось сквозь густой дым, стелившийся над пожарищем, и Неаполь являл сейчас ту же картину, какую наблюдал в Риме восемнадцать столетий назад Нерон.
Николино с успехом бы мог, украсив голову венком из роз и декламируя стихи Горация под аккомпанемент лиры, возомнить себя божественным императором, преемником Клавдия и сыном Агриппины и Домиция.
Но у молодого человека не возникло подобных фантазий. Он просто видел сцены убийств и пожары, небывалые со времен восстания Мазаньелло, и с яростью в сердце смотрел на пушки, бронзовые дула которых торчали вдоль крепостных стен; он говорил себе, что, будь он комендантом замка на месте Роберто Бранди, он живо заставил бы всех этих каналий искать убежища в сточных канавах, откуда они вышли.
В эту минуту чья-то рука легла ему на плечо и, словно читая в глубине его мыслей, чей-то голос спросил:
– Что сделали бы вы на моем месте?
Николино не было нужды оборачиваться, чтобы догадаться, кто произнес эти слова: он узнал голос достойного коменданта.
– Клянусь честью, я не колебался бы ни минуты! – вскричал он. – Я тотчас бы во имя человечности и цивилизации открыл огонь по всем этим убийцам!
– Ну что вы! Не зная, как к этому отнесутся или чего будет стоить мне каждый пушечный залп? В вашем возрасте вы, как французский паладин, говорите: «Поступай как велит долг – и будь что будет!»
– Это сказал рыцарь Баярд.
– Да, но в моем возрасте я, как отец семейства, говорю: «Сначала помоги себе самому». Это сказал не рыцарь Баярд. Так говорит здравый смысл.
– Или эгоизм, дорогой комендант.
– А это одно и то же, дорогой пленник.
– Чего же вы хотите, наконец?
– Да ничего не хочу. Просто стою на своем балконе – здесь мне спокойно и ничто не угрожает. Я смотрю и жду.
– Я вижу, что вы смотрите. Но не знаю, чего вы ждете.
– Того, чего ждет комендант неприступной крепости: жду, что мне сделают предложение.
Николино принял эти слова за то, чем они и были в действительности: ему предлагали вступить в переговоры.
Но помимо того, что он не имел полномочий начинать переговоры с Бранди от имени республиканцев, в записке ему предлагалось только спокойно держаться и по мере сил помогать событиям, которые должны были произойти между одиннадцатью и двенадцатью вечера.
Разве мог он быть уверен, что то, о чем он договорится с комендантом, как бы, по его мнению, это ни было выгодно для будущей Партенопейской республики, не вступит в противоречие с планами республиканцев?
Поэтому Николино молчал. Видя это, Роберто Бранди в третий или в четвертый раз обошел, насвистывая, все посты, приказав часовым усилить бдительность, начальникам постов – строгость, а артиллеристам стоять у пушек с зажженными фитилями наготове.
LXXXVII. КАК ФРАНЦУЗСКОЕ ЗНАМЯ ПОЯВИЛОСЬ НАД ЗАМКОМ САНТ'ЭЛЬМО
Николино молча слушал, как комендант громким голосом отдавал приказания, словно желая, чтобы он мог их слышать. Это усиление охраны его тревожило. Но пленнику было известно благоразумие и мужество тех, кто прислал ему записку, и он полагался на них.
Однако Николино дали понять как нельзя яснее, что знаки все растущего внимания со стороны коменданта крепости имеют единственной целью сделать ему какое-то предложение или услышать таковое от него. Такой разговор несомненно состоялся бы, если бы заключенный не вел себя сдержанно из-за полученной им записки.
Шло время, но между Бранди и его пленником никакого сближения не произошло, только, как бы по забывчивости, комендант позволил ему оставаться на крепостной стене.
Пробило десять. Это был час, когда архиепископу под страхом смерти предстояло исполнить приказ Молитерно – ударить во все колокола. С последним отзвуком бронзы разом зазвонили на всех колокольнях.
Николино был готов ко всему, только не к этому концерту колоколов; коменданта он также, по-видимому, озадачил. Услышав неожиданный набат, Роберто Бранди приблизился к узнику и посмотрел на него с удивлением.
– Да, я понимаю вас, – сказал Николино. – Вы спрашиваете меня, что означает этот ужасный трезвон. А я только что сам собирался задать вам такой же вопрос.
– Стало быть, вы не знаете?
– Понятия не имею. А вы?
– И я тоже.
– Ну, так пообещаем друг другу, что первый из нас, кто узнает об этом, скажет другому.
– Согласен.
– Это непонятно, но весьма интересно. Я часто платил немалые деньги за ложу в Сан Карло, чтобы увидеть представление куда менее занятное.
Между тем, против ожидания Николино, это зрелище становилось все более любопытным.
Остановленные среди своего адского занятия гласом, идущим, как им показалось, с небес, лаццарони, которые плохо понимали божественный язык, бросились к собору искать объяснения.
Мы уже говорили, что они там увидели: ярко освещенный старый храм, выставленные сосуд с кровью и голову святого Януария, кардинала-архиепископа в парадном облачении, наконец, Роккаромана и Молитерно в одеждах кающихся, босых, в рубахах, с веревкой на шее.
Затем оба зрителя – можно было подумать, что весь спектакль придуман как раз для них, – увидели странную процессию, выходящую из собора, услышали плач и крики молящихся. Факелов было так много и они давали такой яркий свет, что с помощью подзорной трубы, принесенной комендантом, Николино узнал архиепископа под балдахином, несущего святые дары, увидел по обе стороны от него монахов, несущих сосуд с кровью и голову святого Януария, и, наконец, позади всех Молитерно и Роккаромана в их странных одеяниях – они ничего не несли, подобно четвертому офицеру Мальбрука, или, вернее, несли на себе самый тяжелый груз: грехи народа.
Николино знал, что его брат Роккаромана такой же скептик, как он сам, и Молитерно такой же скептик, как его брат. И, несмотря на то что его занимали сейчас более чем серьезные заботы, он громко расхохотался при виде этих двух кающихся.
Что означает эта комедия? С какой целью она разыгрывается?! Этого Николино не мог понять. Разве что все следовало объяснить совсем особым, характерным для Неаполя смешением комичного и священного?
В двенадцатом часу ночи он, несомненно, узнает, что здесь к чему. Роберто Бранди, которому было неоткуда ждать разъяснений, казалось, испытывал больше беспокойства и нетерпения, чем его узник: он тоже хорошо знал неаполитанцев и поэтому задавал себе вопрос – уж не кроется ли за этим религиозным фарсом какая-нибудь громадная ловушка?
Николино и комендант с большим интересом следили за продвижением процессии, с самого ее начала и вплоть до возвращения в храм. Постепенно шум утих, факелы погасли, и все погрузилось во мрак и тишину.
Несколько домов, на которые перекинулся огонь, продолжали гореть, но никто не пытался тушить пожары.
Пробило одиннадцать.
– Я полагаю, что представление закончилось, – сказал Николино, который хотел уже возвратиться в камеру, чтобы последовать полученным указаниям. – Что вы скажете, комендант?
– Скажу, что мне хотелось бы вам кое-что показать, прежде чем вы спуститесь к себе, мой любезный пленник!
И он сделал ему знак следовать за собой.
– До сей поры мы были заняты тем, что происходит в Неаполе, от Мерджеллины до Порта Капуана – иными словами, на западе, на юге и на востоке, – а теперь пора поинтересоваться, что творится на севере. Хотя то, что мы сейчас увидим, производит мало шума и дает мало света, оно стоит того, чтобы уделить ему минуту внимания.
Николино позволил коменданту увлечь себя на другую сторону крепостной стены, противоположную той, откуда они только что смотрели на Неаполь, и на холмах, окружавших город, от Каподимонте до Поджореале, он увидел линию огней, передвигающихся с равномерностью воинских частей на марше.
– А! Вот это, кажется, нечто новое! – воскликнул Николино.
– Да, и довольно занимательное, не правда ли?
– Это французская армия? – спросил Николино.
– Она самая, – отвечал комендант.
– Значит, завтра она войдет в Неаполь.
– Ну нет! В Неаполь так просто войти нельзя, если лаццарони этого не захотят. Будут драться дня два, может быть, три.
– А потом?
– Что будет потом? Ничего, – отвечал комендант. – Это уж нам предстоит подумать, что может в подобном случае сделать хорошего или дурного для своих союзников, кто бы они ни были, комендант замка Сант'Эльмо.
– А нельзя ли узнать, на чьей стороне в случае столкновения будут ваши симпатии?
– Мои симпатии? Разве умный человек имеет какие-нибудь симпатии, мой дорогой узник? Я вам уже изложил свои убеждения, сказав, что я отец семейства, и припомнив кстати народную пословицу: «Сначала помоги себе самому». Ступайте к себе. Поразмыслите над этим. А завтра мы побеседуем с вами о политике, морали и философии. Атак как существует еще одна пословица, которая гласит, что «утро вечера мудренее», прислушайтесь к ее совету, а завтра утром поделитесь со мной плодами своих раздумий. Доброй вам ночи, мой дорогой узник!
Разговаривая так, они дошли до верхней ступеньки лестницы, ведущей вниз, в камеры, и комендант, проводив Николино до его двери, запер ее, по обыкновению, на два оборота.
Николино остался в полной темноте.
По счастью, ему нетрудно было выполнить полученные указания. Он ощупью направился к своей кровати и бросился на нее не раздеваясь.
Не прошло и пяти минут, как раздался крик, сигнал тревоги, за которым последовали частые ружейные выстрелы и три пушечных залпа.
Затем снова воцарилась полная тишина.
Что же случилось?
Мы вынуждены отметить, что, несмотря на все свое мужество, которое Николино не раз имел повод доказать, сердце его сильно билось, когда он задавал себе этот вопрос.
Минут через десять молодой человек услышал на лестнице шаги; ключ в замке повернулся, заскрежетали засовы, и дверь отворилась. На пороге появился достойный комендант с зажженной свечой в руке.
Роберто Бранди запер дверь с величайшей осторожностью, поставил свечу на стол, придвинул стул к кровати и сел возле узника, который, не зная намерений коменданта, дал ему все это проделать, сам же так и не произнес ни слова.
– Ну, дорогой мой узник, – сказал комендант, усевшись у его изголовья, – я вам уже говорил, что замок Сант'Эльмо имеет немаловажное значение в деле, которое должно завтра решиться.
– Стало быть, любезный комендант, вы пришли в такой поздний час, чтобы убеждать меня в своей прозорливости?
– Знаете ли, всегда приятно для самолюбия, если можешь сказать умному человеку: «Вы видите, я был прав». А потом, если мы отложим до завтра разговор о наших с вами делах, о которых вы не захотели потолковать сегодня вечером, – теперь я знаю почему, – если мы отложим, говорю я, этот разговор до завтра, то, может статься, будет уже слишком поздно.
– Скажите, дорогой комендант, произошло что-нибудь очень важное с тех пор, как мы с вами расстались?
– А вот, судите сами. Республиканцы, которые узнали каким-то образом мой пароль – «Позиллипо и Партенопея», подошли к часовому у ворот. Только тот, кому поручено было сказать пароль, смешал новое название города с древним и сказал «Неаполь» вместо «Партенопея». Часовой, который, вероятно, не знал, что это одно и то же, поднял тревогу. Началась стрельба, мои артиллеристы тоже дали залп – и попытка сорвалась. Так что, мой дорогой пленник, если в ожидании этого события вы легли в постель не раздевшись, то теперь можете раздеться и спать, если только не предпочтете встать и за этим столом поговорить со мною как с добрым другом.
– Что ж, давайте побеседуем, – отвечал Николино. – Соберите все свои козыри и выкладывайте карты на стол. Будем говорить!
– Вот как! – откликнулся комендант. – Легко сказать!
– Что за черт! По-моему, вы сами это предложили!
– Да, но тут требуются кое-какие разъяснения.
– Какие же? Говорите.
– Есть ли у вас достаточные полномочия для разговора со мной?
– Да, есть.
– Будет ли то, о чем мы с вами договоримся, подтверждено вашими друзьями?
– Даю слово дворянина.
– Стало быть, препятствий больше нет. Садитесь, дорогой узник.
– Уже сижу.
– Итак, господа республиканцы хотели бы иметь в своем распоряжении замок Сант'Эльмо, не так ли?
– После только что предпринятой ими попытки проникнуть сюда вы сочли бы меня лжецом, если бы я стал разуверять вас в этом.
– Предположим, некий мессир Роберто Бранди, комендант этого замка, уступил бы свое место и должность высокородному и могущественному синьору Николино из семьи герцогов Роккаромана и князей Караччоло, – что выиграл бы от этой замены бедный Роберто Бранди?
– Мессир Роберто Бранди предупредил меня, кажется, что он отец семейства?
– Я забыл сказать – супруг и отец семейства.
– Не беда, вы вовремя исправили свою оплошность. Итак, жена?
– Жена.
– Сколько детей?
– Двое, и прелестных, особенно дочь. Пора уже подумывать о ее замужестве.
– Вы сказали это, я полагаю, не потому, что имеете в виду меня?
– Я не столь честолюбив, чтобы метить так высоко. Нет, это просто одно из моих обстоятельств, которым я поделился с вами, потому что оно достойно вызвать ваш интерес.
– Прошу вас верить, что оно вызывает во мне сильнейшее участие.
– Стало быть, как вы считаете: что могут сделать республиканцы Неаполя для того, кто окажет им столь важную услугу, а также для жены и детей этого человека?
– Что сказали бы вы о десяти тысячах дукатов?
– Помилуйте! – прервал его комендант.
– Подождите же, дайте договорить.
– Это верно. Продолжайте.
– Я повторяю: что сказали бы вы о десяти тысячах дукатов вознаграждения для вас, десяти тысячах дукатов на булавки вашей жене, десяти тысячах дукатов для вашего сына и десяти тысячах дукатов на приданое вашей дочери?
– Сорок тысяч дукатов?
– Сорок тысяч.
– Всего?
– Да, черт возьми!
– Сто восемьдесят тысяч франков?
– Вот именно!
– Не находите ли вы, что для тех, кого вы представляете, недостойно предлагать не круглую сумму?
– Хорошо. Если, скажем, двести тысяч ливров?
– Что ж! Об этой сумме можно начать думать.
– И чем кончить?
– Ну, чтобы нам с вами не торговаться, остановимся на двухстах пятидесяти тысячах ливров.
– Недурная сумма – двести пятьдесят тысяч ливров!
– Недурное приобретение – замок Сант'Эльмо!
– Гм!
– Вы отказываетесь?
– Я размышляю.
– Вы понимаете, мой дорогой узник, народная мудрость гласит… Целый день мы с вами разговаривали пословицами. Позвольте же мне напомнить вам еще одну: обещаю, что она будет последней.
– Хорошо, я вас слушаю.
– Так вот: говорят, каждому человеку раз в жизни представляется возможность составить себе состояние и все дело в том, чтобы не дать этому случаю ускользнуть. Сейчас он мне представился. Я хватаю его мертвой хваткой и уж, черт побери, не выпущу.
– Мне не хочется вникать в эти соображения слишком глубоко, любезный комендант, – отвечал Николино, – тем более что я от души признателен за ваше доброе ко мне отношение; вы получите двести пятьдесят тысяч ливров.
– В добрый час!
– Только вы понимаете, что у меня в кармане их нет.
– Что вы, господин герцог! Если бы все сделки оплачивались сразу наличными, то, наверное, ни одно дело никогда бы и с места не сдвинулось!
– Значит, вам будет довольно моей расписки? Роберто Бранди встал и отвесил поклон.
– Мне достаточно вашего слова, господин герцог. Карточный долг – долг чести. А мы играем сейчас в крупную игру, потому что каждый из нас поставил на карту свою голову.
– Благодарю вас за доверие ко мне, сударь, – отвечал Николино с достоинством. – Я вам докажу, что заслужил его. А сейчас осталось только обсудить исполнение нашего замысла. Каковы будут средства?
– А вот тут я попрошу у вас, господин герцог, быть ко мне как можно более снисходительным.
– В чем же? Объяснитесь.
– Я уже имел честь говорить вам, что, поскольку я держу случай мертвой хваткой, я не выпущу его, прежде чем не составлю себе состояние.
– Да, но мне кажется, что сумма в двести пятьдесят тысяч франков…
– Это не столь уж большое состояние, господин герцог. Вы, располагая миллионами, должны это понимать.
– Благодарю.
– Нет. Мне нужно пятьсот тысяч франков.
– Господин комендант! Весьма досадно, но я должен сказать вам, что вы изменяете своему слову.
– В чем же, если я требую их не от вас?
– Ну, тогда другое дело.
– И если я попрошу его величество короля Фердинанда выдать за мою верность ту же сумму, которую вы предлагаете мне за измену?
– О, какое гадкое слово вы сейчас произнесли!
Комендант с комической серьезностью, присущей неаполитанцам, взял свечу, пошел посмотреть, нет ли кого за дверью, и, вернувшись, поставил свечу на стол.
– Что это вы делаете? – спросил Николино.
– Я проверил, не подслушивает ли нас кто-нибудь.
– Зачем это?
– Ну, коль скоро здесь только вы да я, чего таиться: уж вы-то хорошо знаете, что я изменник – быть может, чуть более ловкий, чуть более умный, чем какой-нибудь другой. Вот и все.
– А каким образом рассчитываете вы заставить короля Фердинанда дать вам в награду за верность двести пятьдесят тысяч франков?
– Вот именно здесь-то и нужна мне вся ваша снисходительность.
– Считайте, что она вам уже обеспечена. Только объяснитесь.
– Чтобы достичь цели, мой дорогой узник, нельзя, чтобы я был вашим соучастником, – нужно, чтоб я стал вашей жертвой.
– То, что вы говорите, довольно логично. Что ж! Посмотрим, как вы можете стать моей жертвой!
– Очень просто.
Комендант вынул из кармана пистолеты.
– Позвольте, да ведь это мои! – воскликнул Николино.
– Их забыл здесь фискальный прокурор… Вы знаете, как он кончил, наш добрый маркиз Ванни?
– Вы мне уже сообщили о его смерти, и я даже ответил вам, что – увы! – не могу о нем сожалеть.
– Да, верно. Итак, вы раздобыли себе свои пистолеты, которые находились где-то здесь, в этом вам помогли ваши единомышленники – а в крепости есть такие, – и вот, когда я спустился сюда, вы приставили мне пистолет к горлу.
– Отлично! – сказал Николино, смеясь. – Вот так!
– Осторожнее! Они заряжены. Потом, не отнимая пистолета от горла, вы привязали меня к этому кольцу, вделанному в стену.
– Чем? Простыней с моей кровати?
– Нет. Веревкой.
– У меня нет веревки.
– Я вам принес ее.
– О! Вы человек предусмотрительный.
– Когда хочешь, чтобы все удалось, нельзя пренебрегать ничем, не так ли?
– Ну, а потом?
– Потом? Когда я буду как следует связан и прикручен к кольцу, вы заткнете мне рот своим носовым платком, чтобы я не кричал, и закроете меня на замок. Далее вы воспользуетесь тем, что я имел неосторожность отослать в патруль всех верных мне людей и оставить у ворот только сомнительных, и устроите здесь бунт.
– А как я устрою бунт?
– Ничего не может быть легче. Каждому вы дадите по десять дукатов. Здесь тридцать человек. С прислугой считайте тридцать пять. Это составит триста пятьдесят дукатов. Вы немедленно раздаете эти триста пятьдесят дукатов, меняете пароль и отдаете приказ «Огонь!», если патруль захочет насильно сюда прорваться.
– А где мне взять триста пятьдесят дукатов?
– В моем кармане. Только, вы понимаете, это будет отдельный счет.
– Который надо присоединить к двумстам пятидесяти тысячам ливрам. Отлично!
– После того как вы станете хозяином замка, вы меня развяжете, поместите в свою же камеру и будете обращаться со мною настолько же плохо, насколько я обращался с вами хорошо. Затем, в одну из ночей, когда вы заплатите мне двести пятьдесят тысяч ливров и еще триста пятьдесят дукатов, вы из жалости вышвырнете меня за дверь. Я спускаюсь в порт, нанимаю лодку, сперонару или фелуку. Благополучно миновав тысячу опасностей, добираюсь до Сицилии и прошу у короля Фердинанда награды за свою верность. Сумма, на которую я рассчитываю, это уже мое дело. Впрочем, вы ее знаете.
– Да. Двести пятьдесят тысяч франков.
– Вам все понятно?
– Да.
– Вы даете мне слово?
– Уже дал.
– Тогда – к делу! В руках у вас пистолет, который, во избежание несчастного случая, вы можете положить пока на стол. Вот веревка и вот кошелек. Не бойтесь затягивать веревки. Постойте, не задушите меня своим носовым платком: у вас еще есть добрых полчаса перед тем, как вернется патруль.
Все прошло точно так, как предвидел толковый комендант. Можно было подумать, что все нужные приказания были отданы заранее, так что Николино не встретил никаких препятствий. Комендант был связан, прикручен к кольцу, и в нужную минуту ему воткнули в рот кляп. Дверь темницы закрылась. Николино не встретил никого ни на лестницах, ни в подземельях. Он направился прямо в караульную и, войдя туда, произнес великолепную патриотическую речь; заметив к концу речи среди стражников некоторое колебание, он позвенел серебром и произнес магические слова, которые должны были снять все препятствия: «Десять дукатов каждому». При этих словах действительно все сомнения исчезли и раздались крики: «Да здравствует свобода!» Все бросились к оружию, потом к постам и на крепостные стены, угрожая патрулю открыть огонь, если он тотчас же не исчезнет в глубинах Вомеро или в переулках Инфраскаты. Патруль исчез, как исчезает в театре призрак, проваливаясь в люк.