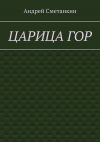Текст книги "Царица Сладострастия"
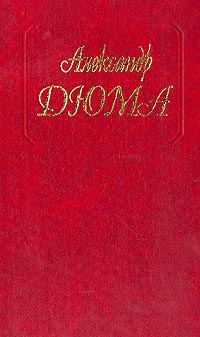
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
XIV
В доме Спенцо слишком сильно нуждались в поддержке монаха Луиджи, чтобы слепо не подчиниться ему; никто бы и не осмелился отойти от намеченного им замысла; итак, все было сделано, как он велел: маркиза и графиня выглядели печальными, но спокойными, когда их известили о кончине графа Мариани; новость была воспринята ими самым достойным образом; Бернардо в свою очередь казался в должной мере опечаленным скорбным событием, так что вначале не возникло ни малейших подозрений, тем более что накануне видели, с каким трудом Гавацца на костылях передвигался по соседним улицам.
Тем временем своим ходом шло судебное расследование этого таинственного дела: расследование ускорялось действиями синьора Марко Мариани. Он, разумеется, поклялся отомстить за своего брата, и ему удалось собрать чрезвычайно опасные косвенные улики.
С другой стороны, Царка слонялся по кабакам Кивассо, доставая из карманов пригоршни монет и восклицая в пьяном угаре:
– Вина! Еще вина! Когда все пропьем, получим еще.
Наконец, обе пули, извлеченные из тела жертвы и помеченные крестом, были узнаны церковным служкой, который сознался, что положил их на алтарь, чтобы они были освящены во время мессы священником, совершающим богослужение. Все эти данные Марко Мариани связал в один пучок, который, увеличиваясь с каждым днем, стал слишком весомым, чтобы правосудие могло остаться безучастным.
Однажды утром, когда хозяйки дома еще лежали в постели, вилла Сантони была окружена отрядом стражников; затем несколько офицеров полиции вошли внутрь и схватили Бернардо Гавацца. Тот поднял крик, запротестовал, заявляя, что невиновен, и призывая в свидетели маркизу с графиней, а они, разбуженные шумом, поднявшимся в их доме, прибежали полураздетые и попытались защитить его своей властью.
– Обстоятельства слишком серьезны, сударыни, – сказал им старший офицер, – и ваше неуместное вмешательство может еще более усложнить положение.
– Мои дорогие, мои добрые повелительницы, – вмешался Бернардо, старавшийся проявлять полнейшее спокойствие, – вы, как и я, прекрасно знаете, что меня несправедливо обвиняют; разразилась буря, которая ослепила и все еще ослепляет самых прозорливых людей. Правосудие ошибается, но скоро признает свою ошибку. А пока я предпочел бы тысячу раз умереть, нежели увидеть хоть одну слезинку, пролившуюся из ваших глаз, и, что бы ни случилось, я до последнего часа не изменю этому своему чувству. Сохраните уважительное отношение ко мне и ни о чем другом не беспокойтесь – это единственная милость, о которой я прошу… А теперь, – добавил он, обернувшись к окружавшим его стражникам, – я готов, пойдемте.
В то время как Бернардо вели в тюрьму Турина, где ему предстояло ждать окончания продолжавшегося расследования, монаха Луиджи в монастыре капуцинов в Кивассо ожидало удручающее открытие. Тюремщиком двух солдат, запертых in pace, он сделал привратника Пьетро, и в этом отношении был совершенно спокоен. Место их заключения было надежным, еще ни разу ни один монах, посаженный туда в прежние времена, даже не пытался бежать, настолько неосуществимым казалось подобное предприятие. Однако, увидев, сколь неблагоприятный оборот принимали события, Луиджи решил так: вместо того чтобы навсегда упрятать в подземелье людей, волей случая попавших ему в руки, вполне возможно было теперь использовать их против обвинения, заставив дать показания, совершенно противоположные тому, чему они были свидетелями. На этом условии им можно было бы пообещать помилование за дезертирство, очень скорое освобождение и достаточно весомую сумму денег, чтобы они могли спокойно вернуться в свои семьи.
«В их положении, – размышлял монах, – они определенно с готовностью ухватятся за любую соломинку».
Будучи в полной уверенности, что он не встретит препятствия на этом пути, Луиджи однажды вечером велел Пьетро взять фонарь и спуститься вместе с ним в тюремную камеру. Но каково же было его удивление, когда он вошел в подземелье и осветил его стены: карцер оказался пустым!..
Пора рассказать, каким образом двум пленникам удалось вырваться из камеры, куда их запер Луиджи, и что с ними стало.
Когда солдаты-дезертиры Лоренцо и Джакомо очнулись от глубокого сна, свалившего их с ног после того, как они выпили вина, к которому брат Луиджи подмешал усыпляющее средство, то прежде всего инстинктивно попытались оторваться от сырой земли, служившей им ложем. И велико же было их удивление, когда они поняли, что в этой беспросветной тьме не могут сделать и шагу, поскольку их тела опоясаны цепью, которая была пропущена через кольца, вмурованные в стены карцера.
– О, – вздохнул Джакомо, обращаясь к собрату, – говорил же я тебе, что мы еще пожалеем, покинув полк.
– Это ты тут разговариваешь, Джакомо?.. Да, парень, признаться, попал же я в переплет, а если и с тобой проделали то же, что со мной…
– Я прикован.
– Так же как и я… Но что дурного мы сделали проклятому монаху, почему он обошелся с нами так круто? Если хорошенько подумать, то похоже, что мы слишком развязали языки.
– Похоже! А по мне, так даже точно; я теперь вспоминаю, что мы рассказали этому проклятому сборщику подаяний все, что приключилось с нами на вилле Сантони, а раз так, то мы вели себя как настоящие тупицы. Монах, завладев нашей тайной, решил извлечь из этого выгоду и нашел способ убрать нас.
– Должно быть, ты прав, – сказал Лоренцо, – но тогда не все еще потеряно: во-первых, если бы от нас хотели окончательно избавиться, мы бы уже были мертвы, ведь убить нас было так легко! Во-вторых, это доказывает, что нам хотят сохранить жизнь; а вот и кувшин с водой, я чуть было не задел его ногой и едва не опрокинул, что было бы очень досадно, поскольку я умираю от жажды.
– Я тоже.
– Давай-ка, протяни сюда руки… Держи бутыль; постой, я нащупал ногой что-то похожее на краюху хлеба, и довольно увесистую… Вот она, я ухватил ее! Так выпьем и закусим! Черт возьми, не каждый день мы могли сказать такое в нашем полку!
– Что правда, то правда, – грустно заметил Джакомо, – но нам светило солнце, и мы могли ходить. Эх!..
– Не надо отчаиваться, тысяча чертей! – возразил Лоренцо. – Скажи, ты, так же как я, опоясан цепью?
– Да так крепко, что ее звенья впились мне в тело выше бедер.
– И я сейчас испытываю то же удовольствие; но, ей-Богу, так долго не протянешь.
– На что же ты надеешься?
– Только на себя, черт возьми! Ну же, не падай духом, смерть приходит лишь раз, и надо постараться, чтобы она подзадержалась подольше.
Сказав это, Лоренцо, больше не обращавший внимания на жалобы приятеля, смочил водой звено цепи и стал усердно тереть им о керамический кувшин.
– Слышишь эту музыку? – через несколько минут спросил он Джакомо.
– Прекрасно слышу, но не понимаю, к чему нам все это: вряд ли тебе удастся вылететь из этой камеры, пробив ее своды.
– Я пока не знаю, что будет дальше. Главное обрести свободу движений, и я теперь вижу, что через два часа так оно и будет.
И в самом деле, менее чем за час Лоренцо так источил звено цепи трением о кувшин, что разорвать ее оказалось совсем просто; после этого Лоренцо тем же способом освободил Джакомо. Во время завершения этой операции издалека донесся какой-то глухой шум.
– Нам надо быть настороже, – промолвил Лоренцо, – как только кто-нибудь появится, навалимся на него, выпытаем все, что сумеем, и заставим вывести нас отсюда.
Шум не стихал и даже усилился; затем послышалось звяканье ключей и чей-то голос прошептал несколько слов, но солдаты не расслышали их; однако никто не появился, и пленники почувствовали, что надежда, едва пробудившаяся в их душах, уже улетучивается, как вдруг тонкий луч прорезал окружавшую их темноту. Лоренцо осторожно подошел поближе к этому свету и убедился, что он пробивается из прилегающего к их камере помещения сквозь отверстие, образовавшееся в стене; он внимательно осмотрел эту щель.
– Теперь, – очень тихо сказал Лоренцо своему товарищу, – могу поклясться своей головой, где-то здесь был ход побольше того, что существует сейчас.
– Может быть, это дверь нашей камеры, – ответил? Джакомо.
– Нет, дверь – на другой стороне; я нащупал железную оковку, и меня, бывшего кузнеца, тут никак не проведешь… Эх! Если б у меня был кусок железа, хотя бы с палец длиной!..
– Свет Небесный! – воскликнул Джакомо. – Везет же нам! Я как раз сейчас обнаружил, что мерзавцы-монахи забыли отобрать у меня нож.
– Давай, давай его скорее… Клянусь кровью святого Януария, мы опять увидим свет!
Лоренцо взял нож и осторожно просунул лезвие в щель, сквозь которую пробивался луч света, и в скором времени через расширенное отверстие они уже осматривали большой подвал, представивший их взору чрезвычайно соблазнительную картину: великолепно расставленные бутылки и бочки. Какой-то монах со связкой ключей у пояса и лампой в руке медленно расхаживал между стройными рядами этой молчаливой винной армии, словно генерал, проводящий смотр своим солдатам. Время от времени он останавливался, чтобы пересчитать наименее многочисленный отряд, и с досадой качал головой, что-то бурча при этом вполголоса; однако отверстие, заметно расширенное Лоренцо, уже позволяло пленникам отчетливо слышать его речь.
– Странное дело! – ворчал монах. – Я точно помню, что в этом углу было три дюжины бутылок мадеры, а их тут всего тридцать, хотя я целую неделю к ним не прикасался… Моя последняя бочка рейнского вина оказалась неполной, и в рядах наших лучших французских вин появились бреши! Я никак не мог забрать отсюда столько вина за короткое время, к тому же я всегда веду счет тому, что изымаю. Мне кажется, что кто-то из братьев тайком присвоил себе мои обязанности эконома… Но я найду его, и тогда горе несчастному!..
Прислушиваясь к его словам, Лоренцо продолжал понемногу скоблить ножом отверстие в стене; вдруг лезвие уперлось во что-то ровное и твердое.
«Здесь что-то железное, – подумал бывший кузнец, – попробуем разобраться, задвижка это или замок».
И он со всей силы нажал на лезвие, опершись коленом о стену. Неожиданно препятствие, на которое наткнулось лезвие, подалось и огромный камень повернулся на собственной оси.
– Скорее за мной! – крикнул Лоренцо приятелю.
Они бросились через открывшийся ход в соседний подвал и схватили монаха-эконома, сразу окаменевшего и онемевшего от ужаса.
– Очнитесь, святой отец, – сказал Лоренцо, – мы вовсе не такие страшные черти, как кажемся, а в аду, обставленном так же, как этот, невозможно замыслить ничего худого по отношению к такому жизнерадостному человеку, каким вы кажетесь.
– Чего вы хотите? Кто вы? – в растерянности спросил монах.
– Прежде всего мы хотим, чтобы вы успокоились, поскольку вам нечего бояться; затем – чтобы вы сказали нам, где мы находимся.
– Это помещение, дети мои, – ответил монах, немного придя в себя, – всего-навсего личный погреб нашего отца-настоятеля, чьим недостойным экономом я являюсь… Но все же, кто вы такие и как вы проникли сюда?
– Кто мы такие, ваше преподобие? Не хочу вас обидеть, но это касается только нас самих; ну а по поводу способа, позволившего нам проникнуть в это подземелье, я попрошу просветить нас; ибо, клянусь, я ничего вам не могу объяснить, а мой приятель ничуть не более.
– Но все же вы откуда-то пришли, если уж находитесь здесь?
– А если нас сюда доставили вопреки нашему желанию? – ответил вопросом Джакомо.
– Помалкивай! – бросил Лоренцо, толкнув ногой стоявшего сзади товарища. – Я уверен, этот славный монах не имеет отношения к насилию, учиненному над нами; все живущие в этой святой обители должны помогать друг другу, и я не сомневаюсь, что преподобный отец согласится вывести нас отсюда совсем незаметно, за что мы будем ему вечно благодарны.
– Дайте мне, по крайней мере, прийти в себя, – сказал эконом. – Я не верю своим глазам и ушам: все происходящее кажется мне дурным сном.
Монах был чрезвычайно озадачен: он оказался в слишком сложном положении, и о сопротивлении нечего было и думать; если он позовет на помощь, то эти люди, у одного из которых в руке блеснул нож, могут зарезать его, как только он закричит; но, с другой стороны, как же оставить на разграбление этот богатый подвал, ведь он отдавал ему всю свою душу в течение стольких лет!
– Послушайте, ваше преподобие, – снова заговорил Лоренцо, не спускавший с монаха глаз и следивший за каждым его движением, – давайте договоримся по-хорошему. Четыре бутылки мы унесем с собой, а две выпьем на месте, чтобы иметь честь чокнуться с вами, святой отец; затем вы втайне от всех выведете нас из монастыря, и мы уйдем на все четыре стороны с вашего благословения… Что вы выиграете, если отдадите нас в руки врагов, неизвестных нам самим и скорее всего вам тоже? Вам же придется признаться о своих ночных посещениях личного подвала отца-настоятеля.
Монах-эконом, видимо, погрузился в глубокие размышления.
– Я могу для вас сделать только одно, – сказал он после долгого молчания, – проведу в церковь через ризницу; часом позже двери храма откроют для прихожан и начнется утренняя месса; еще не совсем рассветет, и вам нетрудно будет выйти так, что никто этого не заметит.
– Я предполагал, что вы станете нашим спасителем, брат! – сказал Лоренцо. – А теперь выпьем! Кто знает, что случится потом: может, придет день, мы встретимся в другой обстановке, и тогда вы узнаете, что мы более приятные собутыльники, чем кажемся сегодня.
– Идите же за мной, – сказал отец-эконом, – ступайте тихо, не говорите ни слова, а когда выберетесь отсюда – да поможет вам Бог!
Минуту спустя солдаты-дезертиры вышли из монастыря и бросились бежать, не разбирая дороги.
XV
Пора, полагаю, вернуться к тому, что касается лично меня, и продолжить рассказ о событии, случившемся из-за любовной страсти аббата делла Скалья.
Аббат ждал ночи, чтобы привести в исполнение свой гнусный замысел.
Как уже было сказано, мы плыли вниз по Роне. Погода стояла великолепная. Было жарко, но легкий ветерок, гулявший в долине Роны, навевал легкую прохладу. Солнце уже клонилось к закату. Все вокруг словно замерло. Слышно было лишь, как перекликаются лодочники и поскрипывает румпель, на который время от времени налегал рулевой.
Постепенно солнце скрылось, сгустились тени, а ветер окончательно утих. Стало душно и знойно.
Обдумывая свой чудовищный замысел, аббат не разговаривал. Тяжесть в воздухе угнетала меня, и я молчала тоже. Сил просто не было, к тому же меня мучила ужасная жажда. Я попросила, чтобы Марион принесла мне апельсин. Аббат живо поднялся и перебрался в лодку, где находились мои горничные и слуги. Вернувшись, он протянул мне несколько освежающих фруктов и охлажденный лимонад.
Я с наслаждением выпила его.
Но оцепенение не проходило; напротив, оно усилилось, и очень скоро я уже не могла противиться непреодолимому желанию уснуть, охватившему меня.
Это было делом рук аббата, с нетерпением преступника ждавшего своего часа.
Он взял мою руку, потряс ее, чтобы проверить, насколько глубок мой сон, но я не шелохнулась; делла Скалья странно улыбнулся и посмотрел на меня похотливым пожирающим взглядом; он не мог оторвать глаз от своей жертвы, готовый сжать ее в объятьях и утолить свою мерзкую страсть.
Внезапно дверца кареты распахнулась и какой-то человек в маске схватил аббата за руку; тот отскочил с яростным криком.
– Не надо шума! – властным голосом произнес незнакомец. – И если вы не хотите погубить себя, уходите отсюда!
Взбешенный аббат вскочил, от злости заскрежетав зубами.
Он понял, что обманулся в своей надежде и одновременно увидел пропасть, разверзшуюся у него под ногами.
Однако аббат обладал огромной силой воли и огромным умением притворяться, поэтому он быстро овладел собой.
– Кто вы такой и чего вы хотите? – спросил он незнакомца.
И он протянул руку к пистолетам, лежавшим рядом.
– Кто я такой? – переспросил человек в маске. – Вы этого никогда не узнаете. Могу лишь сообщить вам, что до последней капли крови буду защищать жизнь женщины, чье доброе имя вы хотите замарать. Покушение, задуманное вами, как и мое вмешательство, должны быть навсегда забыты. Поэтому не бойтесь ничего. Но я охраняю эту несчастную жертву от недобрых страстей, бушующих в ее семье, и если до приезда в Турин вы попытаетесь еще раз навредить ей, мне придется убить вас как собаку.
Твердый и резкий тон незнакомца убедил аббата, он опустил голову и вышел, не сказав ни единого слова.
Марион села рядом со мной, чтобы охранять мой сон.
Человек в маске печально и задумчиво постоял с минуту, молча глядя на меня; по его лицу катились слезы.
Он оплакивал мою беду, мое одиночество, те притеснения, которые я терпела в семье мужа, и слепоту графа ди Верруа.
– Он совсем недостоин ее!.. – вздыхал незнакомец. – Бедная женщина! Наконец он превозмог свою боль, вытер слезы, взял мою руку, поцеловал
ее страстно, но почтительно, и удалился, сделав над собой героическое
усилие, словно был вынужден оторваться от счастья всей своей жизни.
Когда я проснулась, Марион рассказала мне обо всем, что произошло во время моего сна, и назвала имя моего спасителя.
Это был принц Дармштадтский.
Едва рассвело, аббат делла Скалья опять пришел ко мне. Он был спокоен и весел; на его лице не осталось никаких следов ночных волнений.
Принц Дармштадтский спас меня! Но это приключение ставило меня в зависимость аббата делла Скалья. Ему теперь ничего не стоило распространить слух о греховной связи между мной и принцем, тогда как в его собственное преступление вряд ли кто-нибудь мог поверить, настолько оно выглядело неправдоподобным при его характере, возрасте и положении.
– Сударыня, – сказал он подчеркнуто твердым голосом, – я вас не боюсь, а вот вам следует опасаться любых бед с моей стороны. Прежде всего хочу предупредить: не вздумайте выступить с обвинениями в мой адрес или смеяться надо мной вместе с мужем, иначе вы узнаете, с кем имеете дело. Я допускаю, что вам захочется рассказать о тех сценах, которые покажутся кому-то смешными, о фактах, которые вы назовете, наверное, позорными. Если вы предадите их гласности – все смешное и весь позор падут на вашу голову, ибо я опровергну ваши утверждения таким образом, что никто и не подумает верить вам. А теперь выслушайте остальное и не забудьте, что я скажу вам.
Я поклонилась с гордым видом, будто давала ему отпор, хотя на самом деле пыталась скрыть от него свой страх.
– Слушаю вас, сударь.
– В моем лице вы имеете смертельного врага, такого врага, который никогда вас не простит и причинит вам столько зла, сколько можно обрушить на существо, вызывающее ненависть! Впредь это будет главной моей заботой, и я ничего не пожалею, лишь бы добиться цели. Я отвезу вас в Турин кратчайшим путем. Ваша болезнь меня мало тревожит, а видеть вас для меня настоящая пытка. Знай вы меня лучше, сама мысль о той ненависти, что внушена мне вами сегодня, заставила бы вас дрожать от страха. Теперь между нами будет борьба не на жизнь, а на смерть. Я не нанесу вам предательского удара из-за спины, предупреждаю вас открыто – защищайтесь!
– Эти слова достойны ваших поступков, сударь, но я нас больше не боюсь, поскольку знаю цену вашим угрозам и вашей лести. Нападайте же, я буду защищаться. У меня есть свое оружие.
В тот же вечер мы высадились на берег и поехали сухопутной дорогой. Я посадила одну из служанок и свою карету. Аббат ехал следом в другом экипаже. Мы переехали через перевал Мон-Сени и спустя несколько дней прибыли в Турин, объяснив наше скорое возвращение моим недомоганием.
Проследив, как мы высадились на берег, принц Дармштадтский направился в Испанию; я выбрала удачный миг, чтобы одарить его взглядом и улыбкой, которым он, видно, придал большой смысл, ибо его лицо засияло от счастья.
Он и в самом деле сильно любил меня… как и должно любить!
В первый же вечер по приезде в Турин я убедилась, что козни аббата делла Скалья чреваты скорыми и ужасными последствиями. Моя свекровь вернулась из дворца уже так настроенной, что приняла меня как врага – и врага смертельного. Аббат поехал к ней прямо во дворец и, конечно же, побывал у госпожи герцогини, не преминув подготовить ее соответствующим образом. Преследования ожидали меня и с этой стороны.
Когда я приблизилась к г-же ди Верруа, чтобы поцеловать ее, она меня оттолкнула.
– Нет, сударыня, нет, я не могу так принимать особу, замыслившую разорить мой дом и желающую переправить за границу достояние наших предков. Но прежде чем у вас зародятся другие замыслы, еще более преступные, я заявляю вам, что ни вы, ни мой сын никогда больше не уедете отсюда; объявляю вас пленницей чести и состояния ди Верруа; я сама буду бдительно охранять вас! А теперь – ваша воля, целуйте меня, если еще хотите.
– Хочу не больше и не меньше, чем до того, как выслушала вас, госпожа графиня, – ответила я. – И поскольку вам больше нечего мне сказать, позвольте мне удалиться и повидать графа ди Верруа: он ждет меня.
Я вышла с таким гордым видом, что ей не под силу было сравниться со мной. В этом доме всегда забывали, что в моих жилах течет кровь герцогини де Шеврёз. Дочери рода Роганов не позволяют так унижать себя никому, даже своим свекровям, и я не хотела, чтобы последнее слово осталось за г-жой ди Верруа.
«Скоро приедет мой отец, – думала я, – и ничто не помешает мне уехать вместе с ним. Если нужно будет, придется обратиться за помощью к королю Франции, а ведь он могущественный монарх».
Когда я приехала поклониться герцогине-матери, она соблаговолила сообщить мне почти серьезным тоном, что ей рассказали обо мне много плохого.
– Я поверю в это, если вы заставите меня в это поверить; все зависит от вас, – добавила она, – когда становишься графиней ди Верруа, следует забыть о том, что прежде вас звали мадемуазель д'Альбер.
Затем, не дав мне времени ответить, она стала расспрашивать меня о своих друзьях во Франции, о короле, версальском дворе, и мне стало ясно, что сама герцогиня Савойская все же помнит о тех временах, когда она была мадемуазель де Немур.
Герцог же, увидев меня, изменился в лице, несмотря на все свое самообладание; он был серьезен и даже строг. Очевидно, он тоже слышал обвинения в мой адрес и делал вид, что согласен с ними. Но я не ошибалась: он был счастлив вновь видеть меня и хотел, чтобы я заметила это, но только я, и никто другой.
Исполнив долг вежливости, я сказалась больной и выезжала крайне редко. Преследования меня и издевательства надо мной усилились, стали более жестокими; со своей стороны, Виктор Амедей продолжал подсылать ко мне тех, кому он мог доверять. Я оказалась между этими двумя рифами одна, без друзей, без опоры и жила надеждой на помощь отца.
Добрый аббат Пети уехал из Турина в Шамбери вместе с моим маленьким другом Мишоном. Они должны были пробыть там несколько месяцев: важные дела прихода удерживали там ревностного пастыря. Принц Дармштадтский находился в Мадриде и, по слухам, был очень обласкан королевой Испании. Везет же ему с королевами!
Я ждала отца с таким нетерпением, что это сказывалось на моем здоровье; только он мог вырвать меня из этого ада.
Но в скором времени я лишилась моей единственной надежды: во время королевской охоты отец упал с лошади и сильно повредил ногу; его уложили в постель на несколько месяцев.
Узнав эту новость, я впала в отчаяние и поневоле стала с суеверным ужасом воспринимать аббата делла Скалья, который за неделю до этого несчастного случая столкнулся со мной на галерее лицом к лицу и небрежно бросил в мой адрес:
– Вы ждете вашего отца? Он не приедет.
Неужели он уже знал об этом? Или догадывался? Мог ли он предвидеть события до того, как они происходили, или они были подготовлены им?
Этого я так никогда и не узнала, но всегда подозревала его в этом!
Что делать? Как теперь быть?
Я советовалась с верными служанками, поднявшимися в моих несчастных обстоятельствах до положения подруг. Бабетта плакала вместе со мной; более отважная Марион убеждала меня, что надо защищаться и быть готовой выбраться самой из пропасти, куда меня могут столкнуть.
– Есть только одно средство, моя госпожа: герцог де Люин приехать не может, зато приедут герцог де Шеврёз или шевалье де Люин. Напишите им, я отнесу письмо на почту, и через несколько недель тот или другой будет здесь. Тогда нам придется бежать с их помощью, иначе все эти злые люди сведут вас в могилу.
Вняв совету храброй девушки, я написала герцогу де Шеврёзу и шевалье де Люину. Со слезами я умоляла их помочь мне и, чтобы письма дошли, велела Марион отнести их во французское посольство, надеясь, что таким образом их не перехватят.
Но я недооценила аббата делла Скалья: он установил круглосуточное наблюдение за моими служанками, особенно за теми, кто пользовался моим доверием. Едва Марион вышла с пакетом в руке, как это заметили, и письма были конфискованы; бедную служанку выгнали из дома, запретив появляться в нем, обвинив ее в том, что она подстрекала меня к непослушанию и бунту. Марион кричала, плакала, угрожала, клялась, что ни за что не уедет из Турина и сама сумеет освободить меня, что бы они ни делали, но ее угрозы вызывали лишь смех, и слуги-итальянцы без всякой жалости вытолкали девушку на улицу.
Сцена была очень шумной; прибежала Бабетта, своими глазами наблюдавшая всю эту жестокость; она пришла ко мне вся в слезах, рассказала о случившемся и о новых опасениях, возникших у нее. Марион собирались выгнать из города и отправить в Америку вместе со ссыльными, чтобы она не уехала во Францию и не пожаловалась моим родственникам, сообщив им, как обошлись с ней самой и что делают со мной.
– Марион погибла, и мы тоже обречены, сударыня! Боже мой, что же с нами будет! И что нам теперь делать? – ужасалась Бабетта.
Я не знала, что сказать, но надеялась на Марион: это была умная, смелая, преданная и неутомимая служанка; я не сомневалась, что она что-нибудь придумает, но даже не могла себе представить, что ее изобретательность превзойдет все мои ожидания.
Меня объявили больной и заперли в доме почти как пленницу; я отказалась ездить во дворец герцога, и г-жа ди Верруа решила окончательно извести меня. Несчастнее меня не было никого на свете, и тяжелее всего мне было редко видеться с детьми. Что же касается мужа, то я стыдилась своей любви к нему и всеми способами пыталась излечиться от этого чувства. Должна сказать, мне это не удалось, и до сих пор, не имея возможности любить его самого, я люблю воспоминание о нем.
Мне было приказано поселиться на вилле, где я пережила первые и почти единственные мгновения счастья. Кое-кто из придворных забеспокоился обо мне; меня пожелала видеть госпожа герцогиня; явно возникли опасения, что мое отсутствие при дворе вызовет интерес, который не следовало удовлетворять.
Граф ди Верруа спросил, не хочу ли я провести несколько недель на лоне природы. Мне было все безразлично, настолько я чувствовала себя несчастной; к тому же у меня была надежда, что там мне не придется видеть свекровь, поэтому я дала согласие, несмотря на протесты Бабетты, не устававшей повторять:
– Нас увозят туда для того, чтобы мы исчезли.
Я знала, что г-н ди Верруа неспособен на низость и коварство. Он, безусловно, осуждал все эти оскорбительные действия по отношению ко мне, но по своей слабости не мог им помешать. Но, как бы то ни было, умер он на поле боя, очень достойно встретив смерть. Он был чрезвычайно храбрый человек, не испытывал страха перед пушкой, но боялся матери!
Мы уехали; он сам отвез меня и вернулся назад в тот же вечер; в моей маленькой Бастилии меня охраняли и держали под наблюдением. Со мной была моя Бабетта; Маскароне я не доверяла, она была местной и могла найти себе сообщников. Бабетта бушевала, но ее никто не слушал. Я могла полагаться только на нее; все мои люди перешли на сторону хозяина: одни ради выгоды, другие – из страха. Мы не знали, что стало с Марион, о ней никто ничего не рассказывал, и мы боялись, что г-жа ди Верруа и аббат делла Скалья выполнили свои угрозы.
Позднее я узнала, что меня выдавали за сумасшедшую, чтобы объяснить происходящее; слуги этому верили, а все остальные тем более: плохому верят всегда.
Пока одна лишь свекровь ненавидела меня, это можно было еще выносить, хотя и с трудом; но с тех пор как к этой ненависти примешалась злоба монаха, развязалась беспощадная борьба, которая была мне не под силу, тем более что я не могла сравниться в хитрости со своими противниками. Вот почему я поддалась своему горю. Мне кажется, я и в самом деле сошла бы с ума, если бы меня не спасло Провидение. Некоторые люди утверждают, что скорее тут вмешался дьявол; возможно – во всяком случае не мне спорить с ними.
Господин ди Верруа, как я уже сказала, в тот же вечер вернулся в город: он был членом военного совета и не мог долго отсутствовать. Мы с Бабеттой остались одни; она не покидала меня ни днем ни ночью. Вечера были прохладны, в этой гористой местности часто бывает очень холодно. Я любовалась великолепным видом на долину и городок, открывавшимся из моего окна.
Я была закутана в накидку, и издалека узнать меня было невозможно. Стоя у окна, я прислушивалась к шуму во дворе, к возне слуг, гонявшихся друг за другом, видела, как постепенно гаснут огни и ночь прокрадывается в рощи и аллеи. Это было грустно, но красиво, и мне хотелось плакать и молиться Богу.
Бабетта находилась в глубине комнаты. Выступающий балкон отделял меня от всех людей; вокруг меня царил покой, слуги молча расходились по домам, и эти минуты казались мне приятными и тягостными одновременно.
Вдруг тишину нарушил знакомый голос: это была Марион – она предупреждала меня, что поднимется по внутренней черной лестнице, ведущей в мои покои, и просила не пугаться.
Я чуть не вскрикнула от радости и бросилась в комнату встречать ее. Дверь открылась, и вместо Марион вошел человек, закутанный в плащ на испанский манер…
Вообразите себе такое!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.