Текст книги "Огненный остров"
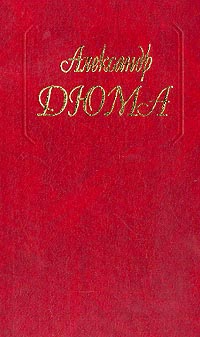
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
– О! У меня, если ты не возражаешь, имеется длинный список; прежде всего скажу тебе, что нахожу очень дурным бросить меня в такой день, как сегодня.
– Каюсь, – сказал Эусеб, запечатлев на лбу Эстер поцелуй.
– Затем, – продолжала она, – как же тебе не пришло в голову привести ко мне этого бедного человека, который своими травами, тем, что вы называете народными средствами, не только спас мне жизнь – я дорожу ею лишь ради тебя, – но и дал ее нашему дорогому ангелочку?
– В самом деле, я совершенно забыл о бедняге Харру-ше! Где он?
– Он ушел.
– Ушел прежде чем я успел поблагодарить его, вознаградить за оказанную услугу и бескорыстие так, как он того заслуживал?
– Пока тебя не было, мне рассказали о том, что произошло; я подумала, что могу взять заботу о благодарности на себя, и велела позвать его.
– Сюда? – покраснев, спросил Эусеб; он испугался, что заклинатель змей мог рассказать Эстер о первой их встрече. – И что он тебе ответил?
– На мои изъявления благодарности – почти ничего, и решительное «нет», когда я заговорила о вознаграждении, умоляя его принять.
– Странно.
– Тем более странно, что он не захотел ничего из той пищи, что предложили ему слуги, выпил лишь немного воды и отказался покинуть беседку, где обосновался, чтобы спать под нашим кровом.
– Я найду его, Эстер, будь спокойна, и, надеюсь, нам удастся доказать ему нашу признательность.
– Но я не закончила, – продолжала молодая женщина.
– Что еще? – забеспокоился Эусеб.
– Вот что: я дарю вам самое прелестное маленькое существо, о каком может мечтать отец, ангелочка такого же белокурого, свежего, розового, такого же очаровательно пухленького и так же усеянного ямочками, как те, что окружают Пресвятую Деву, чей образ помещен в главном алтаре той церкви, где нас обвенчали, а этот жестокий и бесчеловечный отец сразу же оставил умирать от голода чудесный подарок, что я ему сделала.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Увы! – отвечала молодая женщина, по щеке которой тихо покатились две слезинки. – Ты сам знаешь, Господь дважды отказал мне в высшем счастье быть матерью: по мнению врачей, я не должна питать свое дитя собственной кровью и жизнью, и мне приказано уступить это сладкое преимущество чужой женщине!
– Ах, Боже мой! В самом деле, кормилица! – воскликнул Эусеб. – Господи! Прости меня, но я был так взволнован, до того потрясен сегодня утром, что уже не помнил себя.
– Вы прощены, – ответила Эстер. – И тем более прощены, что ваше безразличие совершенно не мешало нам обзавестись самой очаровательной в мире кормилицей.
– Ах так! И кто же позаботился о том, чтобы найти ее для нас?
– Кто! Да наш добрый гений.
– Не понимаю тебя.
– И все же я достаточно ясно выражаюсь; разве не стал для нас добрым гением тот бедный человек, который в своей простоте оказался более сведущим, чем врач, – одним словом, индиец.
– Харруш! Харруш привел тебе кормилицу? – изумился Эусеб. – Но надо же знать, что это за женщина, выяснить, где он ее нашел, откуда она, кто она!
– Уж не думаете ли вы, что бедняга, выхаживавший меня, захочет отравить нашего ребенка? Врач осмотрел ее и полностью одобрил этот выбор, так что я совершенно не боюсь вашего неодобрения; взгляните на нее, если хотите.
С этими словами г-жа ван ден Беек отодвинула одну из занавесок, окружавших ее постель, и показала ему молодую женщину, сидевшую с ребенком на руках и утопавшую в складках камки.
Это была негритянка; необычная ее красота поражала, хотя ее кожа цветом и глянцем напоминала эбеновое дерево; на вид ей было не больше шестнадцати лет.
Овал ее лица был совершенным; орлиный нос, тонкий у изгиба, слегка расширялся к ноздрям, вырезанным, как у породистой лошади, и таким же красноватым; рот несколько круглый, но алые, словно цветок фаната, губы не портили правильности ее черт, будто позаимствованных у греческой статуи.
Раннее материнство не отняло гибкости и изящества у ее стана.
Голова ее была покрыта сеткой из золотых и серебряных монеток и коралловых бусин, сквозь которую видны были ее слегка вьющиеся волосы, блестящие, черные как смоль; одежду ее составлял саронг из белого в красных цветах батиста.
Эусеб остался равнодушным к ее появлению.
Она ничего не напоминала ему, не вызывала никаких опасений.
Секрет его спокойствия был в том, что утром он удачно заключил несколько жалких сделок.
Денежные успехи отличаются тем, что тот человек, кому они достались, немедленно обретает полное доверие к тому, что зовет своей звездой, и, каким бы опытным он ни был, до нового переворота в судьбе верит в собственную неуязвимость.
Ему показалось несколько странным, что у Харруша, заклинателя змей, такие знакомства; но ему сказали, что юная негритянка принадлежала богатой даме из колонии и огнепоклонник купил у нее девушку от имени Эстер; поскольку его жену она устраивала, поскольку доктор одобрил этот выбор и цена за нее была не слишком высокой, он не стал возражать, позволил ей войти в число домочадцев и не обращал на нее более никакого внимания.
XIX. Твердость веры
Перед тем как вновь в нашей истории появится Аргаленка, мы испытываем необходимость сказать несколько слов о его происхождении.
Невозможно назвать точную дату, когда яванцы (некоторые ученые считают их потомками египетских колонистов, изгнанных из своей страны) получили из Индостана веру в Брахму и Будду; местные рукописи говорят лишь, что к 76 году нашей эры религия жителей большого полуострова Индостан стала и религией островитян Явы.
Около 1400 года Мулана-Ибрагим, знаменитый арабский шейх, узнав, что многочисленное население обширной страны принадлежит к идолопоклонникам, решил обратить их.
Скудость средств не позволяла ему воспользоваться способами, восхваляемыми Пророком, но он решил, что с Божьей помощью пара прекрасных глаз не меньше поможет ему возвыситься, чем лезвие самой острой сабли. У него была дочь удивительной красоты; вместе с ней и довольно большим числом слуг он отплыл на корабле и высадился в Диза-Леране, где немедленно построил мечеть и вскоре обратил в свою веру множество людей.

Но цель Мулана-Ибрагима не была достигнута; он хотел приобщить к культу истинного Бога одного из властителей острова, надеясь, что его примеру последует весь его народ; он послал сына к королю Маджапахита с сообщением о своем приезде и сам отправился в резиденцию яванского монарха.
Король Маджапахита вышел навстречу шейху и принял его с великими почестями; но, поскольку этот последний преподнес властителю один-единственный гранат в простой корзине, король оскорбился скудостью дара и преисполнился глубоким презрением к человеку, способному подарить другу лишь такой заурядный для яванской земли плод.
Мулана-Ибрагим увидел, что происходит в душе государя, простился с ним и вернулся в Диза-Леран.
Едва он уехал, как король Маджапахита почувствовал жесточайшую головную боль; машинально собрался он съесть лежавший подле него гранат, но с удивлением обнаружил под его кожурой вместо сочных прохладных зерен великолепные рубины. Он послал за Муланой-Ибраги-мом, умоляя его вернуться, но смирение, являющееся одной из христианских добродетелей, напротив, мало ценится мусульманами, и новый миссионер, оскорбленный приемом, наотрез отказался повернуть назад.
Прибыв в Диза-Леран, Мулана-Ибрагим застал свою дочь больной; через несколько дней, несмотря на заботы, какими он ее окружил, она умерла у него на руках.
Узнав о горе, постигшем несчастного отца, король Маджапахита отправился к нему.
Уже три дня юная арабка лежала бледная и холодная на своем ложе, три дня ангел смерти простирал свои темные крылья над прекрасным телом; но королю так расхваливали эту удивительную красавицу, что, едва сказав старику несколько слов соболезнования, он захотел взглянуть на то, что оставалось от нее на земле.
Его настояниям уступили, и, когда одна из служанок юной мусульманки приподняла покрывало с тела, король Маджапахита, ослепленный, несколько минут пребывал в безмолвном восхищении; затем он упал на колени и вслух стал просить Брахму позволить душе девушки вновь поселиться в прекрасном теле.
– Перестань взывать к своим богам из золота и слоновой кости: они не услышат тебя; один только мой бог может исполнить твою просьбу, – сказал ему Мулана-Ибрагим.
Но монарх испытал небесное воздействие и с жаром воззвал к богу правоверных и к Магомету, пророку его; к большому удивлению присутствующих, темные круги около глаз умершей постепенно исчезли, губы порозовели, на щеках появился легкий румянец, длинные загнутые ресницы медленно поднялись, открыв ее огромные черные глаза, которые уже считали сомкнувшимися навеки. Она протянула руки к королю Маджапахита; тот стал мусульманином и женился на ней.
К 1421 году ислам основательно распространился на Яве, потеснив брахманизм и буддизм, роскошные храмы которых стояли пустыми и заброшенными.
И все же на Яве от первоначальной религии туземцев остались не только величественные руины храмов Брамханана, Боро-Бодо, Чанди Севу и многих других. Как и все преследуемые религии, культ Будды сохранил своих верных последователей, наделенных сердцами из золота и бронзы; эти люди, несмотря на гонения, пронесли сквозь века веру, доставшуюся им от прадедов.
В провинции Бантам обитало целое племя буддистов (как называли их приверженцы ислама), или последователей Будды.
По большей части это были бедные земледельцы, кроткие, спокойные, трудолюбивые и честные; однако рука правителя, которой не чувствовалось, когда требовалось защитить их от притеснений низших чиновников, делалась тяжелой, если надо было ввести налог или натуральную подать; спиритуализм их веры поддерживал этих несчастных и позволял терпеливо сносить печальное существование в надежде на лучшую жизнь; эта добродетель обезоруживала злую волю мусульманских правителей или верховных властителей, из поколения в поколение направленную против буддистов.
Цермай, которого воспитание должно было бы сделать более терпимым, оказался, напротив, более жестоким, чем его предшественники.
Они только притесняли буддистов, а он их преследовал.
Не довольствуясь увеличением налогов вдвое, он разорял их поля, прогоняя по ним своих собак, лошадей и слонов; кроткая и смиренная добродетель этих людей словно служила ему упреком, и он торопился от него отделаться.
Буддисты долго держались. Подобно муравьям, чье хрупкое строение разрушено злым ребенком, они с удвоенной расторопностью и прилежанием возводили его заново.
Без жалоб и протеста, даже не думая о мести (это не было в их обычае), они заново строили хижины, преданные огню по прихоти их господина, засевали поля, опустошенные его забавами, отнимая время у сна, если дня не хватало, и просили Будду воздать врагу добром за зло, как могли бы просить христиане.
Но понемногу стойкость покинула их, они падали один за другим, как плоды слишком спелой кисти: одного уносила лихорадка, другого убивала усталость, прочие, лишившись всего и не желая быть обузой для собратьев по вере, уходили в леса.
Таким образом за год маленькая колония сократилась наполовину.
Один из принадлежавших к этой касте провел половину своей жизни (что для буддиста редкость) вдали от родных мест и привез из Индостана, где женился, маленькую девочку, на которой после смерти жены сосредоточил всю свою нежность; он любил ее безумно, как скупой – свое единственное сокровище.
В двенадцать лет эта девочка обещала сделаться такой же красавицей, как ее мать, иначе говоря – одним из великолепнейших образцов афганской расы.
Однажды вечером девушка в обычный час не вернулась в хижину.
Отец вспомнил о тиграх, многочисленных в этой части острова.
Он не дал своему беспокойству разрастись; он взял для защиты одно их своих земледельческих орудий и, с факелом в руке, не опасаясь вместо растерзанных останков дочери, которые искал, встретиться с самим свирепым зверем, обшарил лесные заросли.
Утром он все еще продолжал свои поиски; в это время, оглядевшись кругом, он понял, что находится в окрестностях далама – дворца Цермая.
Внезапная мысль вспыхнула в его мозгу.
Он оклеветал тигров: не в их логовищах, не в джунглях найдет он свое дитя, но в жилище своего господина.
Направившись к нему, он встретил одного буддиста; тот вел своих буйволов на поле и рассказал ему, что накануне вечером, возвращаясь с работы, встретил наперсника Цермая, уводившего девушку.
Отец решился сделать то, что не осмеливался ни один из его братьев по вере: он вошел в далам Цермая, как вошел бы в логово тигра, – не бледнея и без трепета.
Обратившись к первому встретившемуся слуге, он со слезами умолял вернуть ему дочь. Тот рассмеялся ему в лицо, и сбежавшиеся слуги присоединились к нему; на каждую жалобу отца они откликались насмешкой; затем, поскольку шум мог помешать отдыху господина, старика избили до бесчувствия и выбросили за ограду дворца.
Придя в себя, старик и не подумал возвращаться в свою хижину: опустевшая, лишенная света и радости, она казалась ему более страшной и ненавистной, чем пустыня; поднявшись на ноги, он простился с долиной, где родился, бросил последний взгляд на дворец, откуда доносились звуки тамбурина и других инструментов, и отправился на поиски братьев, нашедших приют в безлюдных местах.
Наши читатели уже догадались, что этот отец, этот старик был Аргаленка, просивший у капризной фортуны дать ему то, чем можно возбудить алчность яванского принца и заплатить выкуп за дочь.
Только он ошибся, предположив, что Арроа сразу же попала в гарем Цермая.
Наперсник властителя похитил ее для себя.
Лишь после того как девушка провела около двух лет в доме доктора Базилиуса, в Батавии, она, как мы уже знаем, перешла к яванскому принцу.
Вечером того дня, когда г-жа ван ден Беек стала матерью, Аргаленка брел по дороге, что вела из Танджеранга в Джазингу.
Наступила ночь, одна из тех теплых, напоенных ароматами ночей, какие бывают только в тропиках.
Морской ветер делал воздух чуть прохладнее и проносился над Явой, впитывая сладкое благоухание душистых деревьев ее лесов и прогоняя обжигающие испарения, которые поднимались от обуглившейся под палящим зноем земли.
Кругом царило безмолвие.
Лишь вой шакала, ищущего добычу на краю рисовой плантации, и пронзительный крик геккона нарушали величественный покой природы.
В красноватом свете, даже в отсутствие луны наполовину освещающем эти прекрасные ночи, виднелись неясные очертания деревьев в долине, серые покрывала кофейных плантаций, и на горизонте, на фоне неба, вырисовывались черные гребни Пандеранго и горы Салак.
Аргаленка, равнодушный к великолепию и красоте сумрачной панорамы, разворачивавшейся перед ним по мере того, как он продвигался, казалось, сосредоточил все внимание на неприступных вершинах этих гор, беспрестанно обращая к ним взгляд и направляясь к ближним склонам.
Разбитый усталостью от ходьбы, что было видно по тому, как он сгорбился, и по судорожным движениям ног, он словно подкреплял силы, созерцая цель, которой хотел достичь; но дорога была долгой, склоны – крутыми, а возбуждение, поддерживавшее его, в конце концов истощило его силы.
И все же он не останавливался; он продолжал идти, глядя на гору Салак, когда споткнулся о камень и упал. Пытаясь подняться, старик почувствовал себя таким измученным, что, не переставая упрекать себя за это, так как торопился пройти путь до конца, решил немного отдохнуть.
Аргаленка не сразу примирился с необходимостью прервать путешествие; много раз он пытался двинуться дальше, но, поняв бесполезность своих усилий, воздел руки к небу и горестно воскликнул:
– Царь мироздания! Господин богов и великих людей, я взываю к тебе, Будда! Протяни ко мне руку, и пусть она поддержит меня в пути, который мне осталось пройти до встречи с теми, кто ждет меня!
Не успел Аргаленка договорить, как услышал хорошо знакомое шипение очковой змеи и увидел черный шнур, который полз, извиваясь, через дорогу.
Он не вздрогнул и не сделал движения, чтобы скрыться от страшной рептилии.
Но змея не искала жертвы, она убегала и вскоре исчезла в кустах.
Почти в ту же минуту заколыхались побеги маиса, окаймлявшие дорогу с той стороны, откуда появилась очковая змея; их них вышел человек и остановился на обочине.
Это был Харруш.
Разглядев Аргаленку, он на минуту застыл в неподвижности, стараясь узнать того, кто сидел перед ним в пыли.
– Что ты здесь делаешь? – наконец спросил он.
– Я жду, пока мое воззвание к Будде будет услышано и он пошлет мне либо недостающие силы, либо человека, которому приятнее сделать доброе дело, чем стяжать богатство.
Харруш слушал ответ Аргаленки рассеянно, казалось, он старается отыскать след, оставленный в пыли змеей. Прежде чем ответить буддисту, он, склонив голову к земле, проследил ее путь до того места, где кобра уползла с дороги, и только тогда приблизился к тому, кто взывал о помощи.
– Но невозможно достичь Синих гор сегодня ночью, – сказал он. – Ты не подумал о том, что за Джазингой войдешь в леса Лебака, где водится столько свирепых хищников, что и Магомет с Буддой не вышли бы оттуда живыми.
– Если бы даже леса были заполнены разъяренными людьми, желающими моей гибели, что куда опаснее свирепых хищников, я пошел бы туда, куда мне надо идти.
– Какая важная причина заставляет тебя пренебрегать такой опасностью? Я сам поколебался бы – я, любимец Дадунг-Аву, покровителей охотников, я, чье ремесло – искать зверей в самых тайных, в самых мрачных логовах.
Аргаленка не ответил.
Харруш не обиделся на сдержанность буддиста.
– Это твой секрет, – только и прибавил он.
– Нет, – возразил Аргаленка. – У просящего нет секретов, его сердце принадлежит тому, у кого он вымаливает жизнь; да и для чего мне скрывать свои намерения? Мое сердце чисто, как вода, которую Господь поместил в ствол равеналы, дерева путешественников.
– Хорошо, – прервал его Харруш. – Твое доверие не будет обмануто; клянусь, что сделаю для тебя то, чем бедный человек может помочь тому, кто еще беднее, чем он сам, – я предоставлю тебе все, чем обладаю, свою силу и свое мужество; но избавь себя от труда рассказывать мне свою историю, я знаю ее, – продолжал Харруш, уже в течение нескольких минут смотревший на Аргаленку с самым пристальным вниманием.
– Ты знаешь меня? – спросил тот.
– Да, тебя зовут Аргаленка, ты покинул свою хижину, потому что наперсник Цермая похитил твою дочь; два дня тому назад ты приходил в Меестер Корнелис; ты разорил китайца, а его золото предложил своему господину, чтобы он вернул твое дитя; он отказал тебе, и ты ушел; ты отправился на Вельтевреде, а на следующий день прогуливался на Губернаторской площади, ожидая, когда откроются двери дворца. Все так и было?
– Все это правда, – ответил Аргаленка.
– Хорошо; теперь выслушай окончание. В тринадцатый день месяца катиго люди, собравшиеся в лесу Джидавала: яванцы, китайцы и мавры – договорились там убить хозяина острова; буддист Аргаленка прятался в источенном червями стволе ликвидамбары, уже год служившем ему убежищем, и все слышал; и Аргаленка ждал в тот день на Губернаторской площади, когда откроют дом белого султана, чтобы рассказать ему, о чем говорили эти люди.
– Это правда, – подтвердил Аргаленка. – Моя вера велит мне всеми силами препятствовать кровопролитию: все живые существа вышли из рук Будды.
– Да, – продолжал Харруш. – Но ты так спешил исполнить заповедь своей веры еще и оттого, что в лесу Джидавала узнал Цермая. Но ведь Будда произнес и другие слова: «Ты не сделаешь зла тому, кто причинил тебе зло».
Аргаленка опустил голову и не отвечал.
– Более того, тебе довольно было одной минуты, чтобы забыть вторую заповедь твоего бога, как забыл первую; пока ты смотрел на солдата в сине-желтой одежде, расхаживавшего перед дворцовыми аркадами, за тобой наблюдал человек, малаец в костюме моряка. Он подошел к тебе и спросил: «Аргаленка, хочешь ли ты вновь увидеть свою дочь?» Ты содрогнулся в точности так, как сейчас, и ответил: «Я отдал бы жизнь за один поцелуй моей девочки». Ты уже не думал о соблюдении заповеди Будды, и желал предотвратить кровопролитие не больше, чем я хочу остановить течение Чиливунга.
Аргаленка не обратил внимания на последнюю фразу огнепоклонника; он слушал его, задыхаясь от тревоги.
– Да, – произнес он. – Да, он обещал, что я снова увижу мое дитя; ты слышал это, ты можешь подтвердить. Как же ты хочешь, чтобы я думал о чем-то, кроме моей нежной Арроа, кроме ласк, которыми она вновь осыплет старого своего отца? Теперь, когда ты это знаешь, знаешь, что именно ее я найду на горе Саджира, что она там, она, может быть, будет ждать меня… Боже! Если я не приду, она подумает, что я больше не люблю ее. Ты не откажешься отвести меня туда: отец, который жаждет вновь увидеть свое дитя, – это свято для всех людей, для всех народов, для всех богов! Ну, скорее, помоги мне подняться, помоги справиться с этими непокорными ногами; поддержи меня, и, если это тело снова предаст меня, брось его на дороге, но прежде разрежь мне грудь, возьми мое сердце и отнеси его той, что целиком заполняет его.
– Аргаленка, – медленно произнес заклинатель змей, – Арроа не ждет тебя на горе Саджира.
– Ты ошибаешься, человек, это невозможно; малаец сказал мне: «Жди свою дочь на горе Саджира, у стойла Гоганга-Бадака, там, где начинаются крутые пики; прежде чем солнце пять раз окрасит в пурпур синие вершины, Арроа будет в твоих объятиях; жалоба старика тронула меня, и я добьюсь, чтобы Цермай поступил так, как хочу я». Так он говорил; он не стал бы обманывать меня. Как только Арроа узнает, что ей позволено снова обнять старого отца, она не откажется прийти! Может быть, ты думаешь, что моя дочь не любит меня! О Боже! – разгорячившись, воскликнул старик. – Как можно вообразить такое? Если бы ты видел нас в нашей хижине вечером, когда она просила у меня благословения! Это были бесконечные ласки и поцелуи, а утром все повторялось вновь! Она была такой красивой, моя Арроа, такой прекрасной, что ты скорее принял бы ее за дочь духа, чем за дитя бедного буддиста! Нет, не говори так, человек; лучше скажи, что она, как и я, провела ночь, вслушиваясь в удары собственного сердца, и ей казалось, будто она различает в них звучание моего имени; я тоже, покинув Вельтевреде, в биении моего сердца все время слышу имя Арроа; скажи это, скажи, что она придет, скажи, что она меня любит; тебе это нетрудно, потому что это правда, ты должен верить этому… Но даже если ты не веришь, все равно скажи из жалости к несчастному, на коленях умоляющему тебя об этом! Доказать мне обратное значило бы убить меня, и я также умру, если после стольких надежд у меня похитят счастье, от которого вот уже шестнадцать часов я почти что обезумел.
Мольба Аргаленки пробила грубую оболочку сердца огнепоклонника; он с большим волнением, чем выказывал обыкновенно, схватил старика за руку.
– Я не говорю, что она больше не любит того, кто дал ей жизнь, – сказал он. – Но я не стану утверждать, что она по-прежнему нежно любит его. А вот в чем я уверен, в чем готов поклясться, – не ее ты найдешь на свидании, которое назначил тебе малаец.
– Что же я там найду?
– Два криса, которые похоронят в твоем сердце тайну собраний в лесах Джидавала!
– Моя дочь! Моя дочь! – с раздирающим душу отчаянием воскликнул несчастный отец, словно в показанном ему Харрушем зрелище нависшей над его головой смерти его поразила лишь мысль о разлуке с дочерью.
– Твоя дочь у раджи; Базилиус похитил ее у тебя, а после его смерти ее взял Цермай.
Аргаленка закрыл лицо руками.
– Но, – продолжал огнепоклонник, голос которого теперь не выдавал ни малейшего волнения, – разве зло, причиненное тебе, не возбуждает в тебе другого чувства, кроме напрасной скорби?
– Что ты хочешь сказать?
– Разве месть не исцелила бы твое раненое сердце, как даджах исцеляет от укусов змеи?
– Увы! – ответил старик. – Все, что я могу, – это любить свою дочь, и мое сердце так полно этим чувством, что для другого не остается места.
– Отец, твой лоб увенчан седыми волосами; если ты жил среди людей, ты должен хорошо знать их. Что же, твой взгляд не покидает пределов твоего зрачка? Ты беден, а твоя дочь живет в роскоши; ты лежишь на дороге, а она обитает во дворце; как и у меня, половина твоего саронга осталась в лесу на кустарниках, а одежда Арроа сверкает, как волны под лучами солнца. Что может быть общего между тобой и ею?
– Не говори так: ты богохульствуешь, оскорбляешь любовь детей к тем, кому они обязаны жизнью.
– Нет, я буду говорить так. Тебя раздавили – а я хочу, чтобы ты выпрямился; тебя ударили – но я хочу, чтобы ты поднял голову. Если любовь дочери больше не принадлежит тебе, подумай о тех, кто отнял ее у тебя, и в своей ненависти, как и в своей нежности, найдешь невыразимую сладость.
– Будда поселил нас на земле для того, чтобы любить, а не для того, чтобы ненавидеть.
– Будда – только слово, – продолжал убеждать огнепоклонник. – Покажи мне твоего бога, как я покажу тебе моего; истинный бог – это солнце, давшее нам огонь. Взгляни на этот вулкан, – говорил Харруш, указывая буддисту на вершины Пандеранго, гребни которого краснели, возвышаясь в темноте. – Взгляни на вулкан: он горит лишь для того, чтобы разрушать и уничтожать; но это Бог зажег огонь в полости горы! И он хочет, чтобы страсти, вложенные им в нашу душу, уподобились этому огню.
– Но я сказал тебе, что, сколько ни ищу, не могу найти ненависти в душе, которую дал мне Будда.
Харруш в нетерпении топнул ногой:
– Аргаленка, малаец, обещавший вернуть тебе дочь, солгал.
– Если он так поступил, мне жаль его и я буду просить Будду научить его ценить искренность.
– Аргаленка, я уже сказал тебе, что из дома франкского доктора Арроа перешла в гарем раджи.
– Любовь отца сможет очистить ее.
– Аргаленка, этот человек похитил у тебя сердце твоего ребенка; разум твоей дочери стал добычей демона.
– Будда всемогущ: его дыхание изгоняет демонов, как ветер гонит листья в долине.
– Так иди же, безумный старик, поднимись на гору Саджира! Твои глаза не увидят ничего, кроме стен старого заброшенного стойла и зеленеющих рощиц дынных деревьев и гарциний; до твоих ушей донесутся лишь крики обитателей пустыни, почуявших легкую добычу. Тогда ты слишком поздно пожалеешь о том, что не слушал человека, протянувшего тебе честную руку, единственного, кто мог если не вернуть тебе сердце твоей дочери, то, по крайней мере, насытить взгляд отца радостью созерцания той, кого он произвел на свет.
– Ты, ты! – вскричал Аргаленка, забыв о своей слабости и вскочив, как будто в ногах у него были стальные пружины. – Благодарю тебя, Будда, что услышал меня, что послал мне этого человека! Я увижу ее! Ах! Радость душит меня; слезы, только что лившиеся так легко, замирают на веках и обжигают их! Это тебе я буду обязан своим счастьем, я сразу увидел, что ты добр!
Темнота помешала Аргаленке увидеть зловещую улыбку, промелькнувшую на губах Харруша после этих слов.
– Да, – продолжал тот. – Если она не придет к тебе, мы попробуем дойти до нее.
– Когда же мы отправимся в путь? – спросил старик. – Мне кажется, мы теряем время. О! Я снова становлюсь таким, каким был, когда ты встретил меня и когда я находил, что утренняя птица медлит издать крик, которым она приветствует день. Арроа, дитя мое, я снова увижу тебя!
– Да, но я ставлю одно условие.
– Какое? Скажи; надо ли отдать тебе мою кровь? Надо ли отдать мою жизнь? Должен ли я пробираться к ней сквозь огонь? Только скажи, я сделаю все, что захочешь; должно быть, ты знаешь, что значит быть отцом, если сжалился над моим горем.
– Послушай, я, как и ты, жертва, но вовсе не унылая и смиренная жертва, как ты, и, если Харруша оскорбили, он внимает лишь своей ненависти, подобно голодному тигру, что слышит лишь крик своей утробы; он уверенно идет к своей добыче, ползет, если вынужден, прячется в чаще, пока не пробил час, но он всегда готов броситься и разорвать стальными когтями неосторожных, возбудивших его гнев.
– Это невозможно, чтобы моя Арроа не узнала своего отца! – с неизъяснимой улыбкой произнес старик.
– Почему же ты не решаешься дать клятву, ни к чему не обязывающую тебя?
– Но чего ты хочешь от меня?
– Человек, каким бы сильным и отважным он ни был, – всего только человек; он может умереть, и с ним умрет его месть; а я не хочу, чтобы моя месть умерла. Так вот, поклянись храмом Боро-Бодо помогать мне в моем деле, поддерживать изо всех твоих сил, если то, что я сказал тебе, это правда, если твоя дочь увидит в тебе чужого, презренного попрошайку.
– Будда отвергает такую клятву; я не осуждаю тебя, Харруш, но у нас с тобой разные намерения; ты был прав, сравнивая себя с тигром джунглей, если, подобно ему, можешь утолить жажду лишь кровью; я верю в справедливость того, кто поместил меня на земле; я делал все возможное, стараясь исполнить его закон, и надеюсь, что он вступится за меня, покарает, если надо будет покарать, отомстит, если надо будет мстить, и я отдаю заботу об этом в его руки. Но разве мой отказ делать то, что запрещает мне делать мой бог, – причина лишить меня обещанного счастья и ты для того лишь поднес к моим губам радостную чашу счастья, чтобы заставить меня сильнее почувствовать муки жажды?
– Нет, – резко ответил Харруш. – Я предложил тебе свои условия, но ты не захотел их принять, и я покидаю тебя, безумный старик; попроси Будду вернуть тебе дочь, и ничего больше не жди от Харруша.
– Так я и поступлю, – со скорбным смирением произнес старик. – Я жалок и одинок, все оставили меня; у меня нет больше сил приподнять слабые руки, но мое дело в руках моего бога, и я надеюсь, что он накажет злодеев.
– А я надеюсь только на себя, – возразил Харруш, подобрав складки саронга, чтобы снова пуститься в дорогу. – И моя рука поразит тех, кто ударил меня. Прощай.
Сказав это, Харруш быстро ушел, оставив Аргаленку на том месте, где нашел его, то есть стоящим на коленях в дорожной пыли.
После ухода малайца Цермай не переставал думать об угрозе, что тот бросил ему на прощание.
Он был далек от того, чтобы смириться с разлукой, которую Нунгал заставлял его рассматривать как неизбежную; с каждым днем он все сильнее поддавался чарам Ар-роа и спрашивал себя, каким способом избавиться ему от несносной опеки человека, пробудившего в нем честолюбивые мечты; он не собирался отказываться от них, но не хотел жертвовать прекрасной индианкой.
Все время, оставшееся свободным от увеселений, посвящал он размышлениям о том, какими средствами этого достичь; но Нунгал казался ему не тем человеком, кому можно дерзить безнаказанно; он не мог без ужаса подумать об удивительном могуществе этого сверхъестественного существа, о грозной тайне, которой тот обладал, и, несмотря на свое воспитание, суеверный, как все яванцы, Цермай в страхе отгонял мятежные мысли, теснившиеся в его голове, дрожа от того, что глаз малайца мог так же читать в его сердце, как проникал в секреты его прошлого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































