Текст книги "Огненный остров"
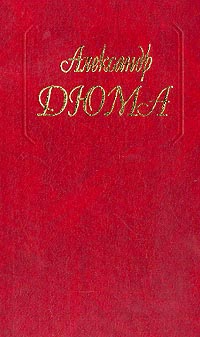
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
XXIV. Храм
Наши читатели помнят, что дворец Цермая был выстроен в ложбине, образованной основаниями трех самых высоких гор острова: Саджира, Сари и Гага.
В сторону первой из этих гор и направился Аргаленка, как только вышел за бамбуковую ограду, отделявшую сады далама от поросших лесом склонов гор, у подножия которых они были разбиты.
Слова Нунгала, и в особенности тон его голоса, произвели на Аргаленка такое сильное впечатление, что в его душе поселилась вера, и на каждом перекрестке, на каждой опушке, за любым кустом он ожидал увидеть любимую дочь.
Эта вера была так глубока, что старик, ослабленный перенесенными лишениями еще больше, чем возрастом, казалось, обрел силу и гибкость молодости.
Он шел быстро, перебираясь через источенные червями стволы деревьев, загораживавшие тропинку, проскальзывая между лианами, что тянули с ветки на ветку косматые руки и сплетали свод над его головой.
Быстрота, с которой он двигался, не помешала ему услышать грохот, раздавшийся в долине. Повернув голову, он увидел, что это рухнул у подножия горы дворец Цермая.
Хрупкое строение, упавшее в очаг пожара, оживило пламя, и оно потянулось острыми язычками сквозь поднимавшиеся к облакам клубы густого дыма, а ветер приносил и рассыпал вокруг буддиста горящие кусочки легкого дерева.
От этого зрелища колени у Аргаленки подогнулись, сердце сжалось, а все тело судорожно затрепетало, как дрожат под дыханием ветра листья дынного дерева.
Чудовищная мысль пришла ему в голову: не обманул ли его малаец? Не стала ли эта пылающая груда могилой Арроа? Не были ли эти огненные венки, летящие над черными вихрями, что вставали над объятым пламенем даламом, недолговечным надгробием несчастной девушки?
С криком отчаяния старик упал на колени и воздел руки к небу, призывая Будду.
Но острая тоска лишь ненадолго завладела душой бедняги; надежда, заставившая его, как мы видели, проявить энергию, вновь вернулась к нему, и, поскольку больше у него ничего в мире не осталось, он яростно вцепился в нее, ухватился, словно тонущий за ветку, что удерживает его над пучиной.
Он встал и, задыхаясь, снова пустился бежать, время от времени останавливаясь и так душераздирающе выкрикивая имя Арроа, что и деревья заплакали бы, будь у них сердце.
Вскоре он пересек огромный лес тиковых деревьев, укрывавший гору Саджир, как туникой; над ним поднимались печальные остроконечные вершины.
Ночь спустилась с неба; в умирающем свете пожара, огни которого кровавыми отблесками ложились на окрестные деревья, еще можно было различить долину, но вершина горы Саджир теперь казалась лишь темным пятном на куполе звездного неба.
В исступлении боли Аргаленка вскоре потерял тропинку, по которой шел; теперь его ноги спотыкались о куски базальта, лавы, всевозможных шлаков, покрывающих склоны горы Саджир, как и всех погасших вулканов этого острова. Он понял, что заблудился, и решил найти дорогу, но пройдя десять шагов, наткнулся на огромную глыбу камня, несомненно давным-давно выплюнутую кратером и упавшую стоймя, словно монолит, – исполинский часовой посреди пустыни.
Аргаленка попытался вернуться назад, но тени сгустились так быстро, что он ничего не различал вокруг себя и не мог сделать ни шага, не споткнувшись.
Тогда отчаяние во второй раз овладело буддистом; он упал лицом в землю, и, казалось, благочестивое смирение перед волей бога покинуло его; он катался в пыли, наносил руками удары по лицу и телу; жалобные призывы к Арроа смешивались с яростной бранью: он обвинял малайца, обвинял людей, обвинял Будду.
Внезапно среди окружавшего его зловещего молчания послышался глухой рокот, словно далекий гром катился от скалы к скале, от эха до эха.
Среди этой пустыни, так напоминавшей царство смерти, любой шум означал надежду, и всякая надежда связывалась для буддиста с его дочерью; он поднял голову, затем встал на ноги и стал ждать.
Вскоре ветер снова донес до Аргаленки шум, подобный первому.
Этот звук, брошенный в пустыню, был еще более отчетливым. Аргаленка не мог ошибиться: он слышал рев дикого зверя.
Увидев, как рушатся все его иллюзии о судьбе дочери, Аргаленка испытал такое потрясение, что постепенно его боль переросла в безумие.
Вместо того чтобы содрогнуться от донесшегося к нему на крыльях ветра послания смерти, он воскликнул в горячечном восторге:
– Благословен будь ты, кто возвещаешь мне избавление, благословен будь ты, кто положит предел моим страданиям! Те, что стали твоими жертвами, приучили тебя к жалобным стенаниям страха, к яростным проклятиям, к предсмертным судорогам; приблизься и увидишь грудь, беззащитно открытую когтям, что разорвут ее!
И Аргаленка направился в ту сторону, откуда доносился рев; он шел, когда мог идти, полз, когда ноги отказывались нести его, продвигался вперед, несмотря на все встречавшиеся на его пути препятствия, и пыл его удваивался, когда громкое рычание хищного зверя доказывало ему, что расстояние, разделявшее их, уменьшилось.
Так он вышел на западный склон горы Саджир, с той стороны, которая обращена к округу Преанджер; здесь ему показалось, что камни, усеявшие склон горы, приняли колоссальные размеры и правильную форму; он продолжал идти вперед и понял, что находится рядом с одним из тысячи храмов, воздвигнутых на острове Ява благочестием его предков. Последователи Магомета, победив и изгнав с острова приверженцев Будды, разрушили все эти чудесные памятники скульптуры и архитектуры, свидетельствующие о том, что построивший их народ был не менее могущественным и не менее развитым, чем народы Египта и Индостана.
Рев явно исходил из храма.
Несомненно, зверь устроил себе логово в одном из залов, некогда предназначавшихся для молитвы.
Этот контраст укрепил Аргаленку в принятом решении; он находил высшее утешение в том, что умрет среди руин культа предков; ему казалось, что божество одобряет его намерение, раз позволяет осуществить его в том самом святилище, где ему поклонялись.
Старик прокладывал себе проход среди поваленных колонн, разбитых статуй и барельефов, которыми усыпаны были окрестности храма и вокруг которых тысячу раз обвивались чужеядные растения; так он добрался до перистиля здания.
Храм, как большинство тех, обломки которых на каждом шагу встречаются путешествующим по внутренней части острова, был приспособлен к форме холма; множество его террас, пристроенных к горе, следовали за неровными очертаниями ее; эти террасы опирались на длинные ряды колонн, покрытых причудливыми скульптурными изображениями, и больших каменных глыб с выдолбленными огромными нишами; в некоторых из них еще сохранились изуродованные статуи.
Над верхней террасой поднимался просторный купол, отмечавший место, где прежде находилось святилище Будды; двойной ряд более легких и низких куполов окружали этот, служивший им венцом.
По мере того как Аргаленка приближался к храму, где должен был встретить смерть, его возбуждение и смятение рассеивались; понемногу религиозные чувства побеждали в нем скорбь, дошедшую до своего предела; его решимость не слабела, но он успокаивался, и его губы уже могли прошептать обращение к Будде.
В ту минуту, когда он проходил в широкий пролом, оставшийся на месте двери, рев зверя, на который он до сих пор ориентировался в ночи, стал более оглушительным и грозным под отражавшими его сводами, но в то же время глазам буддиста предстало нечто странное.
В верхней части здания, казавшегося вдвое длиннее из-за ступенчатого построения его, сквозь лес обломанных колонн и обезглавленных статуй, что тянулся от основания до святилища, он разглядел красноватый свет, отражавшийся в гладких камнях большого свода.
Аргаленка знал, какую неприязнь к огню испытывают дикие животные; и все же для него было очевидным, что тигр или пантера, чей рев он слышал, должны были находиться вблизи от того места, где горел огонь; это странное явление изумило его.
Он прошел среди всевозможных обломков, усеявших храм внутри, и, поднявшись по ступенькам, где каждая плита, изъеденная пробивавшейся из всех швов травой, дрожала под его ногами, отважно продолжал восхождение.
По мере того как он продвигался вперед, свет делался ярче; Аргаленка следил по теням на куполе за капризными движениями пламени; но увидеть то, что происходило в самом святилище, можно было лишь поднявшись по склону к последней террасе, возвышавшейся над куполом.
Святилище было эллиптической формы и завершалось гигантской нишей, в которой находилась статуя Будды, чудом оставшаяся невредимой среди всеобщего разрушения.
Бог восседал со скрещенными ногами на пьедестале в виде огромного цветка лотоса; поза его выражала состояние созерцания и молитвы; легкий передник прикрывал его бедра; одна рука приподнимала край передника, другая опиралась на колено; на шее у него было тройное ожерелье и священный шнур, на голове – индийская шапочка с широкими отворотами, немного напоминающая фригийский колпак. Стена ниши была покрыта символами и надписями из яванских букв.
В любых других обстоятельствах Аргаленка набожно преклонил бы колени перед изображением своего бога, но сейчас его внимание полностью поглощали находившиеся здесь живые люди.
В двадцати шагах от священной ниши горел большой костер, сложенный из хвороста и тонких поленьев; в человеке, поддерживающем огонь, Аргаленка узнал Харруша.
Позади гебра лежала пантера Цермая: вытянув лапы, она прятала голову за телом нового хозяина, стараясь уберечь, насколько возможно, от блеска огня свои чувствительные зрачки.
Но прежде чем буддист увидел пантеру, Харруша и статую Будды, он заметил фигуру женщины, сидевшей на корточках у стены настолько неподвижно, что, если бы ветер, колебавший пламя, не приподнимал иногда складки окутывающего всю ее прозрачного покрывала, можно было принять ее за одну из каменных статуй, украшавших древний храм.
Она склонила голову на колени и казалась спящей; Аргаленка не мог различить черты ее лица, но он уже узнал под прозрачной тканью наряд молодой девушки из народа – ослепительно яркие цветы на саронге из грубой хлопчатобумажной ткани, темно-зеленую кофточку с короткими рукавами; он заметил, что вместо диадемы и заколок с драгоценными камнями или стеклами, какие носят мусульманки, та, что была у него перед глазами, украсила свои волосы цвета эбенового дерева лишь несколькими пурпурными цветами мантеги и двумя-тремя веточками жасмина.
Ему казалось, что он спит, что находится под воздействием какой-то галлюцинации: в этом наряде, как и в стане, и в повороте фигуры, он узнал наряд, стан и поворот фигуры Арроа – той Арроа, когда она была лишь дочерью беднейшего из живущих во владениях Цермая.
Старик был бледен и дрожал; ледяной пот выступил у него на лбу; огонь, зажженный Харрушем, колонны, весь храм кружились вокруг него; он хотел заговорить, но голос застрял в пересохшем горле; задыхаясь, он протягивал руки к видению, похожему на его дочь, но не мог сделать ни шага вперед.
Мелкий гравий негромко хрустнул у него под ногами.

Пантера приподняла голову, насторожила уши, полузакрытые глаза ее расширились, чудовищная морда вытянулась в том направлении, откуда раздался настороживший ее шум; она сильно втянула воздух. Затем Маха выпрямилась с угрожающим видом, словно приведенная в действие стальной пружиной, и снова опустилась на землю, приподняв круп чуть выше остальной части тела, прижав голову к передним лапам, молотя по воздуху хвостом, собирая всю силу и подвижность мышц и приготовившись к прыжку.
Но буддист, после того как увидел похожую на его дочь женщину, хотел жить; теперь он боялся больше самой смерти умереть прежде, чем получит еще один поцелуй своего ребенка; страх и любовь придали ему немного сил.
– Ко мне, гебр! – крикнул он. Харруш в свою очередь поднялся.
– Спокойно, Маха! – сказал он. – Если это друг, не тронем его; если же это враг, твои когти успеют прийти на помощь моему кинжалу, когда я позову тебя.
Продолжая говорить, Харруш взял из костра головню, достал крис из ножен и, держа одно в правой, другое в левой руке, пошел туда, откуда его окликнули.
Узнав Аргаленку, он вложил в сандаловые ножны сверкающее лезвие и взял буддиста за руку.
– А, это ты, Аргаленка! Подойди, не бойся, этот зверь – друг, более верный, чем те, для кого было придумано это слово. Маха любит только тех, кого люблю я, но и ненавидит она лишь тех, кого я ненавижу.
В самом деле, увидев, что хозяин дружески беседует с вновь пришедшим, Маха, широко зевнув, смирно улеглась.
Но Аргаленка не мог отвечать гебру; как только он освободился от страха, им вновь овладели тревога и неуверенность; показав пальцем на недвижную фигуру под покрывалом, он в лихорадочном возбуждении обратился к Харрушу:
– Вот, вот!
Харруш угрюмо опустил голову и не ответил на вопрос буддиста.
– Сжалься, гебр, во имя твоих верований, во имя страданий, перенесенных мною ради моего ребенка! Скажи мне, это моя дочь?
– Когда ветер дождей задует на благоуханных берегах Чиливунга, – зашептал Харруш, – воды реки покрываются белыми и розовыми лепестками, что выросли и увяли на прибрежных кустах; это все еще цветы, но утратившие прелестные краски и нежный аромат, за которые их любили.
– Что ты говоришь? Моя дочь умерла? Они вернули мне лишь ее тело?
И, не дожидаясь ответа огнепоклонника, Аргаленка бросился к дочери и хотел сжать ее в объятиях.
Но, услышав крик буддиста, Арроа подняла голову; глядя на отца, она, казалось, не узнавала его, и глаза ее оставались равнодушными и смотрели тупо.
Буддист в ужасе попятился.
– Арроа, Арроа! – вскричал несчастный старик. – Я твой отец! Здесь нет господина, никто не встанет между твоими ласками и этим лысым лбом, к которому столько раз в детстве прижимались твои губы; отец пришел сюда не для того, чтобы заставить тебя скрыть в твоем сердце такую естественную любовь дочери к тому, кто дал ей жизнь; ты можешь любить меня, Арроа, мы свободны.
Девушка оставалась безмолвной; она не сделала ни одного движения, какое позволило бы предположить, что она поняла слова отца.
– Арроа, Арроа, – продолжал он, – если надо, я откажусь от твоих ласк; если ты потребуешь, я смирюсь с тем, что больше твои уста не назовут меня отцом; я стар, безобразен, я беден, увы! Ты теперь привыкла к богатым одеждам раджей, и лохмотья, покрывающие мое тело, вызывают у тебя отвращение. Я смирюсь, я стану просить Будду забыть твою вину и не наказывать тебя; но скажи хоть что-нибудь, чтобы я услышал твой голос и чтобы другие чувства, как и зрение, могли подтвердить мне: «Твоя дочь не умерла».
Арроа запела.
Харруш продолжал сидеть, серьезный и молчаливый, поднимаясь лишь для того, чтобы оживить умирающий огонь, бросив в него охапку сухих веток.
Пение Арроа не производило на гебра никакого впечатления, но время от времени он останавливал взгляд на Аргаленке с выражением сострадания, так непохожим на его обычную жесткость.
В течение нескольких часов он позволял буддисту свободно предаваться своему горю, затем подошел к нему, схватил за руку, увел в самую дальнюю от Арроа часть святилища и силой заставил сесть.
Впрочем, Аргаленка не выказывал никакого сопротивления: он, словно ребенок, покорился воле Харруша и машинально послушался его.
– Ну что, – сказал Харруш со зловещей улыбкой на губах, – они строго сдержали слово, они вернули тебе твое дитя?
– Да, – отвечал буддист; упадок сил помешал ему заметить насмешку в тоне, каким спрашивал его гебр. – Да, они не обманули несчастного отца. Пусть Будда, чья рука жестоко покарала меня, простит им зло, что они причинили мне, ради жалости, которую они в конце концов испытали к моему горю.
Огнепоклонник пренебрежительно пожал плечами, и сочувствие, читавшееся в его чертах, сменилось презрительной улыбкой.
– Мидуджак, дерево, вершиной касающееся облаков, которое было уже большим, когда рука Ормузда зажгла огни на всех этих горах, не узнало ли больше, чем папоротник у его подножия, родившийся, проживший и умерший в течение одного сезона? Твоя голова увенчана короной мудрости, а лоб отмечен печатью преклонных лет. Неужели ты никогда не слышал, что человек почти так же преуспел в науке зла, как Ариман, что он раскрыл секрет страшных напитков, которые вызывают помрачение разума и, оставляя жить тело, изгоняют из него оживляющее его божественное дыхание?
– Что ты хочешь сказать, гебр?
– Я хочу сказать, что твоя дочь выпила одно из этих снадобий.
– Кто мог налить его ей? Кто этот человек, покинутый Богом и способный совершить омерзительное преступление, причинить зло без цели?
– А я не говорю, что он действовал без цели.
– Я тебя не понимаю.
– Слушай. Если я раскрою тебе окружающий ее заговор; если укажу тебе руку, измельчившую растения и насекомых, составившую и налившую яд; если я назову тебе, чья воля два раза находила послушных рабынь, а на этот раз, боясь неудачи, с помощью колдовского напитка подготовила третью к тому, чтобы стать послушной исполнительницей его намерений; если я скажу тебе, кто этот человек, дух ада, принявший наш облик, чтобы истязать нас, отвратительный земле и небу, неумолимо следующий к своей цели, тот, кто продолжает свое ненавистное существование, не обращая внимания на слезы и кровь, не спотыкаясь о трупы, которыми усеян его путь, – если я докажу тебе все это, скажи, поймешь ли ты, наконец, что месть может быть внушением свыше, святым делом, и, видя перед собой то, во что превратилось твое дитя, не потребуешь ли ты у меня уступить тебе половину моего отмщения?
– Два раза ты задавал мне этот вопрос, и оба раза я одинаково отвечал на него; сегодня ты увидишь, что моя возросшая боль ничуть не уменьшила моей веры в святые заповеди моей религии. Если этот человек совершил те преступления, что ты назвал, он не скроется от руки Будды, каким бы сильным и гордым ни был. Если Будда захочет, он может своим дыханием развеять по ветру самые высокие горы острова, как морские песчинки, и я не хочу оскорбить его, присвоив его права; люди могут наполнить мое сердце болью, но не заставят проникнуть в него и капле желчи; они могут заставить меня выплакать глаза, но не исторгнут проклятия из моих уст, не имеющих власти проклинать.
Харруш встал.
– Несчастный безумец! – проговорил он. – Судьба решительно не хочет оградить твое сердце от тревог. Два раза она ставила меня на твоем пути, два раза она заставляла меня сжалиться над твоей участью, два раза я пытался спасти тебя, но оба раза ты остался глухим к моему голосу, более непреклонным в твоей робкой слабости, чем я – в моей ненависти. Может быть, это к лучшему, потому что ты был бы неспособен на самопожертвование, необходимое для исполнения моих планов, ты помешал бы мне отомстить, вместо того чтобы помочь, как я хотел. Прощай! Как и на дороге к Вельтевреде, я говорю тебе: расстанемся; следуй своим путем, как я пойду своим, ты прощаешь, а я сменил свое имя на другое, более грозное, я назвался возмездием, я не жду, что Будда, Ормузд или Магомет возьмут на себя труд покарать троих оскорбивших меня людей, я не сойду с пути, ибо близится день, когда я смогу воздать злом за зло и горем за горе.
Аргаленка оставался задумчивым; бедняга спрашивал себя, где ему найти пристанище для своей несчастной дочери.
Харруш прочел в душе буддиста все, что происходило в ней.
– Послушай, я окажу тебе последнюю услугу, – сказал он. – Не оставайся здесь, не искушай Бога, спускайся в провинцию Преанджер, на западный склон горы Гага, к подножию холма, на котором построен этот храм; ты найдешь бьющий из скалы родник, а из него бежит на равнину небольшой ручей; иди вдоль берега ручья в том направлении, куда садится солнце, и вскоре ты увидишь, как он вырастет, словно ребенок, из отрока ставший взрослым, превратится в поток, а затем – в реку такую же широкую и быструю, как Чиливунг у Вельтевреде. Не отходи от берега, а когда увидишь перед собой зеленую полоску моря, поищи место, с которого гора Кавоган, что окажется напротив тебя, полностью закроет вторую гору, видимую на горизонте. Пройди в этом направлении тысячу шагов и справа, в арековой роще не более чем в получасе ходьбы от деревни Занд, давшей свое имя заливу, обнаружишь покинутую хижину; это я построил ее, когда охотился на очковую змею в долине Кавогана. Входи без страха в мое жилище, как птица использует попавшееся на ее пути брошенное гнездо; в углу, под кучей подстилок, ты найдешь циновки и необходимую утварь, а леса, поля и море вполне смогут прокормить тебя. Там ты будешь больше защищен, чем здесь; возможно, что нависшая над твоей головой и над головой твоей дочери опасность еще минует вас.
– Увы! – отвечал буддист. – Отсюда до берега моря пять дней пути; как я, жалкий, слабый старик, могу отвести туда несчастную, которая не слышит и не понимает меня?
– Когда я увидел твою дочь поднимающейся по тропинке, она ехала верхом на одной из лошадей Цермая; тот, кто не побоялся похитить у нее разум – самое драгоценное из всего, чем она обладала, – испугался, что его жертва собьет ноги о камни; этот конь здесь, в первом из помещений храма.
– Окажи мне последнюю услугу, Харруш: помоги мне посадить Арроа на коня.
Гебр исполнил то, о чем просил Аргаленка, и тот, разбудив свою дочь, с помощью заклинателя змей вывел ее из храма. Когда конь был оседлан и Арроа, безмолвно следовавшая за отцом и машинально повиновавшаяся ему, уже сидела в седле, буддист взял в руки уздечку и сказал гебру, посторонившемуся, чтобы дать им дорогу:
– Спасибо, Харруш. Будда вознаградит тебя за жалость, которую ты испытал ко мне, и за оказанные мне услуги; я каждый день стану просить его об этом в моих молитвах.
Харруш не ответил. Он сурово и пристально смотрел на Арроа. Внезапно, не простившись с Аргаленкой, он позвал Маху и быстро, как всегда, удалился в сторону восточного склона, к провинции Батавия.
Старик тоже тронулся в путь и стал спускаться по склону в округ Преанджер, следуя вдоль ручья, как и сказал ему огнепоклонник.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































