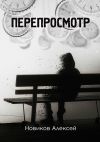Текст книги "Чёт и вычет"
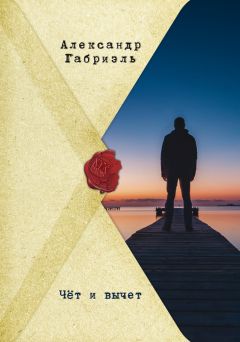
Автор книги: Александр Габриэль
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Эпоха и речь
И тянулась эпоха – голая, словно плац;
не хватало шагов, и со стенкой сходилась стенка.
А в пепельнице, похожей на пепелац,
дотлевала очередная нетленка.
Утекало время – дождинками в водосток,
и проклятья печать помечала и рок, и диско…
Послевкусие юности – терпкое, как глоток
популярного и дешевого бренди «Плиска».
Каждый миг был, как старый свитер, затерт до дыр;
обезглавленный поезд летел, грохоча на стыках…
А на старом татами возились борцы за мир
с апоплексичным румянцем на дряблых ликах.
Жизнь казалась чужою, взятою напрокат,
но плакаты и гены твердили: нельзя иначе…
Из давно подзапретных далей смотрел закат,
стены наших хрущоб облизывая по-щенячьи.
И, состоя из клаустрофобии и невстреч,
лишь для нас одних бесспорная, словно данность,
в беспросветное время суток рождалась Речь.
Но к утру умирала,
словно и не рождалась.
Вечер. Улица. 90-е
Там, где идут «быки», понтуются, швыряя мимо урн «бычки»,
башку втянула в плечи улица, в карманах сжавши кулачки.
И вдоль нее, активней трития, плывут, прогнав печаль взашей,
плоды нетрезвого соития со сквозняком промеж ушей.
Их речь – как шелуха арахиса, слух отравляет, как зарин;
и остается лишь шарахаться, спиной влипая в плоть витрин
пугливым пациентом Кащенко, с катушек съехавшим малек,
нащупывать рукой дрожащею в кармане тощий кошелек.
Расчертыхается уборщица, в их временной попав разлом.
Их куртки дутые топорщатся «пером», кастетом и стволом.
Спортивной поступью Газзаева по глянцу городских огней
они проходят как хозяева объятной Родины своей.
В который раз разряд неоновый вольется в пластик и гранит…
Утихнет гомон гегемоновый и гогот пьяных гоминид,
свершится ведьминское таинство, обряд, который всем знаком.
Они уйдут, а мы останемся, как валидол под языком.
Бывали беды и бедовее. Как прежде, шхуна на плаву.
Интеллигентское сословие, щипай привычную траву,
ведь выжило – как это здорово! – чтоб выдохнуть по счету «три»
в седое небо, до которого не дотянуться, хоть умри.
Horror show
Развылись волки от тоски, повсюду запах скверный,
по лесу бродят зомбаки походкою неверной.
Свернулась жизнь в бараний рог в последнем грустном акте.
И с дуба смотрит птица Рох, трехглавый птеродактиль.
Мы все искали точки джи, умели злить и нежить…
Куда мы делись, расскажи? Осталась только нежить.
Кому достались «Дон Кихот», Шекспир, Марк Твен и Бабель?..
Грызет взбесившийся койот от Интернета кабель.
Нет магазинов, баров, СМИ. Ни Сохо, ни Таганки.
Где трансвеститы, черт возьми?! Реднеки? Лесбиянки?
Где слесарь из-под Воркуты? Где фермер из Небраски?
Исчезли все: и я, и ты – в финале страшной сказки.
В тупик зашел земной прогресс и грохнул нас при этом.
Руины атомной АЭС лучатся тихим светом.
Неважно, где и чья земля в кромешной стылой жути,
и Капитолий от Кремля неотличим, по сути.
Гниют машины в гараже, и птиц не слышно хора.
И нет писателей уже – воспеть весь этот horror.
Испачкан серым небосвод, нет солнца золотого…
Две тыщи тридцать пятый год от Рождества Христова.
Потом
Детство. Драка орков у подъезда.
На душе – запутанно и скверно.
Дома – пухлый томик Жюля Верна
и вопросов давящая бездна.
Завуч – в жалком синем дерматине.
Школьный воздух сперт и вечно громок…
Парты – в перочинной паутине
нецензурных злых татуировок.
Юность. Не упомню, польза, вред ли
в ней – простой, как будни жилконторы…
Словно проскочивший поезд скорый
только на минутку бег замедлил.
Я смотрелся в небо голубое,
видел в нем жар-птиц и алконостов,
но сомнений блеклые обои
клеил на мировоззренья остов.
Молодость. То мели, то протоки;
день – триумф, другой же – на смех курам…
Несся пульс стремительным аллюром
под медоточивый «Modern Talking».
И втекало солнце жаром лета
в сердце, где томительно и странно
проживала дама полусвета,
полуалла или полуанна.
Жил себе и жил, надежды ради,
а в итоге взял себе да вызрел.
Слово «зрелость» – краткое, как выстрел
лопнувших прохладных виноградин.
Слово «зрелость» – гулкое, как осень,
как ее ознобный первый ветер…
А потом… Пускай не будет вовсе
грустного «потом» на белом свете.
Дофеминитивное
One way ticket
В ее нехитрой квадратной комнатке – портреты Делона и Бельмондо,
магнитофончик, отцом подаренный, часы, творящие бег настенный,
цветочек чахлый на подоконнике… Она тебе нравилась просто до
невыразимой слепой испарины и перехвата яремной вены.
Она принцессой была надменною, совсем не желала свивать гнездо.
И, не скрывавшая безразличия, тебя держащая под пятою
так зло, что был ты своей подменою – она тебе нравилась просто до
всегда смешного косноязычия, соседствующего с немотою.
Ты каждый день проживал, как заново, ни в чем не переча и не ропща.
Влюбленных мыслей кипела кашица, от сквознячка колыхалась штора…
О, как ты жалко себя обманывал, хватал надежду за фалды плаща,
не наблюдая часов, оставшихся до исполнения приговора!
Простой, как Лига Хвоща и Плауна, ты впал в унижение и регресс…
Когда ж, стремительней скорой помощи, забыв о чарах богини Весты
пожав плечами, навек ушла она – вздохнул ты и умер. Потом – воскрес,
в угрюмой темени плохо помнящий, зачем ты здесь и зачем воскрес ты.
Когда ты ушла
Когда ты ушла… О, как много, как много стихов,
плохих и хороших, с такой начиналось запевки!
И знамя любви увядало на сломанном древке…
Хотя предыдущая строчка – банальность, IMHO.
Когда ты ушла, я молчал, от сражений устав…
Боль била в виски – но не будем об этом. Опустим.
Сварганить романс? Но для этого нужен Апухтин,
Алябьев и Глинка с привычным роялем в кустах.
Я думал, что время излечит, когда ты ушла;
я верил Коэльо и глупым рецептам старинным.
Эффект был таким же, как грипп врачевать аспирином
и, скажем, беседовать с духом верченьем стола.
Когда ты ушла, я молчал. И поныне молчу.
Работаю, пью, изучаю погодные сводки…
Все сказано теми, кому не гожусь я в подметки.
Хотите лечиться – идите к другому врачу.
Когда ты ушла, разговоры не стоили свеч,
погибли слова в смертоносных разрывах картечи…
Ведь сколько ни знай, полиглот, языков и наречий,
уходит любовь – с ней синхронно уходит и речь.
Кубик Рубика
Это было давно. Под знаменами цвета бургунди
плыл Советский Союз. Был Багаза главою Бурунди.
Мы, едва после школы, уже забывали герундий,
токи первой любви принимая как благо.
Ты зачем-то меня показала папане-майору,
представлявшему – даже в отставке! – родную Контору,
вспоминавшему страстно студеную зимнюю пору
Беломор-Устьвымлага.
Он нас все же рассорил, пристроив на дочкином троне
кандидата получше. Оставил меня на перроне.
(Он недавно скончался. Один. В эмиграции, в Бонне.
Как он там оказался, понять не дано мне.)
Я и сам постарел и всегда в межсезонье простужен,
я с привычкой борюсь объедаться до смерти на ужин;
а услужливой памяти вряд ли так трепетно нужен
шлак, оставленный в домне.
Но о прошлом нельзя говорить тяжело и недобро.
Если флейта играет – танцуй, благодушная кобра.
В общем, жизнь пронеслась. Кубик Рубика, в принципе, собран,
что мое – то мое, не попросишь добавки.
Видел Светкину внучку – несется под всеми парами
по тинейджерской жизни, моей не касаясь мирами…
Хоть на фотках своих бесподобна она в Инстаграме —
далеко ей до бабки.
У подъезда
Мне светила февральского неба холодная бездна,
под ногами сновал бесприютный отряд голубей…
А я девушку ждал, а я девушку ждал у подъезда.
Сам подъезд был закрыт, и вовнутрь не попасть, хоть убей.
Столбик Цельсия к вечеру падал все ниже и ниже.
Как сказал бы Аверченко: «Очень хотелось манже».
Я же, кутаясь в куртку, смотрел, как пленительно брызжет
тихий свет из окна твоего на шестом этаже.
А мороз наступал – повсеместный, победный, подвздошный.
Мой был сломан компа̀с. Я, как бриг, потерял берега…
И отнюдь не спасали ботинки на тонкой подошве
(– Пневмонию подхватишь, – язвил Ипполит, – и ага!)
Мне не вспомнить уже тех сюжетных причудливых линий,
но нет-нет, да привидится в чутком предутреннем сне:
свет надежды в душе оседал, как нетающий иней
на небрежно мелькнувшем поодаль трамвайном окне.
Девять жизней
А ведь было, с тобою нам было по двадцать лет.
Но сейчас мы уже устарели, как санный след.
И признать этот факт бесспорный – поди сумей;
мы давно поменяли кожу, как пара змей.
Ты желаешь вернуться в былое; мол, хорошо б…
Закрываешь глаза – и включается фотошоп,
и уносит, сметает в кучу года, как шлак,
и уходит тоска – на лыжах, как пастор Шлаг.
И судьба молода, и румяна, и нестрога,
«One way ticket» несется из каждого утюга.
Ты смешлива и бесшабашна, и я фартов,
и у нас девять жизней, словно бы у котов.
Как же солнцем наполнена улица, стрит и рю!
На нестрашной развилке есть выбор богатырю;
а любой городской фонтанчик – фонтан Треви.
Смерти, в принципе, нет. Ну, разве что от любви.
Открываешь глаза – и подходит к концу повтор.
Все путем, все в порядке, лишь чуть барахлит мотор,
и на рейдах стоят красивые корабли…
Да и жизни – считай, все девять – почти прошли.
Двадцать
А та, из-за глаз которой постыдно сходил с ума ты,
а та, из-за губ которой заваливал сопроматы,
глядела слегка устало, даря недоверья вотум,
и честно тебя считала паяцем и виршеплетом.
Ты был по-собачьи верной частичкой ее владений.
Ее не касалась скверна. Над ней не сгущались тени.
Лишь солнце вовсю сверкало в алмазах ее короны.
И было ей мира мало, и зал ей был тесен тронный.
Ты сжился с невидной ролью, страдал горячо и немо…
Любовь рифмовалась с кровью и с низко висящим небом.
Темнела восхода лента в белесых потеках грима…
Она уходила с кем-то. Она проходила мимо.
И вроде бы – эка малость, и плюнуть пора давно бы,
но жизнь без нее казалась пустым бытием амебы.
В чеканку стихотворенья пытались слова слагаться…
Какое смешное время, забавное время – двадцать.
Года – словно свист картечи. Остыла вулкана лава.
Она при возможной встрече тебя не узнает, право…
Но зря на судьбу не сетуй, вы стали вполне похожи:
ведь сам ты при встрече этой
ее не узнаешь тоже.
Скайп
Да, это я. Привет тебе, привет.
Как говорится, сколько зим и лет…
Один в один про это пел «Секрет» —
ты помнишь, да? Нельзя в утиль пока нам.
Я изменился, но все тот же скальд,
и лишь с годами все седее скальп.
А впрочем, исказят всю правду скайп
с вэбкамом.
И прорву лет вместили зеркала…
Хоть мы с тобой сто лет без бла-бла-бла,
я в целом в курсе, как твои дела —
и третий муж, и даже внуков – трое…
Мы оба там, где правит капитал,
но я вошел совсем в другой портал,
а в плане внуков я совсем отстал,
не скрою.
Тебе кажусь я слишком скучным, да?
Жена – одна. Наверно, навсегда.
Меняются века и города,
и в памяти все зыбко и нестойко…
Мы были заполошней и свежей,
совсем другой музон гонял диджей…
Но жизнь, по сути – сумма миражей
и только.
Промчались годы глупых эскапад…
Гляди-ка – ночь. Все в доме сладко спят.
Проклятый вирус не идет на спад,
как быстро он рванул из грязи в князи…
За этот милый временной прыжок —
спасибо. Отболел былой ожог.
Побольше счастья для тебя, дружок.
До связи.
Не выйти
Мы часто на третьей паре сбегали в пустые скверы
в пульсирующем разгаре конфетно-букетной эры.
Те дни не плодили копий, в них златом сияли клады
и, словно в калейдоскопе, мерцали слова и взгляды.
Обитель трамвайных хамов вбивала нас в грунт по шляпку.
Михайлов-Петров-Харламов всех рвали, как Тузик – тряпку,
чугун выплавляла домна, генсек был почти безумен,
и в космосе, словно дома, селились Попов и Рюмин.
Но все это было где-то, в каких-то иных вселенных,
а мы – предвкушали лето, и счастье впадало в вены,
и не различалась глазом возможная ложка дегтя,
и плавило хрупкий разум простое касанье локтя.
То сладкое, как варенье, то горькое, как горчица,
такое смешное время, в котором могло случиться
любое на свете чудо, лишь пальцами звучно щелкни…
Оплачена жизнь, как ссуда. Сиди, подпирая щеки,
и думай: как странно все же – простой временной кусочек
из чуткой сердечной дрожи, из точек и многоточек,
где вывело солнце пятна, где нет никаких событий…
Никак не войти обратно.
Поскольку не можешь выйти.
Не вместимо
Меня любила девушка из Риги,
и про любовь она читала книги:
Саган, Джейн Остин, Моэм, Ирвин Шоу…
Хоть был представлен я ее папуле,
увы, мои эмоции тянули
от силы на отметку «хорошо».
Меня любила девушка из Гдыни:
такой лукавый взгляд, такие дыни
и темперамент – бурный, как тротил…
Какой она бывала, оголившись!
Ее увел по пьяни Гера Лившиц.
За это я обоих не простил.
Меня любила девушка-уфимка —
опасная и острая, как финка.
О, сколько сцен устроила она!
Я выгорел к моменту эпилога:
ее претензий было слишком много,
и я бежал, роняя ордена.
Меня любила девушка из Омска;
она курила и шутила плоско,
но все ж была невинна, как дитя,
и что-то в ней волнующее было…
А что – не помню. Что возьмешь с дебила
так много бесшабашных лет спустя?
При худобе той и невзрачной роже —
как многие меня любили, Боже,
при этом – не оставив и следа…
И я любил. И я любил, вестимо,
но это в шестистрочье не вместимо,
как, впрочем, не вместимо никуда.
Тынь и Янь
Не знаясь ни с печалями, ни с окаянным бытом,
в любви и ожидании найдя свои таланты,
планеты Янь и Тынь по близким двигались орбитам,
по воле гравитации сходясь как дуэлянты.
Возможно, траектории рассчитывал им Кеплер,
но то, что с ними было, нелегко понять науке…
При каждом приближении они от счастья слепли
и глохли, в сладком мареве забыв цвета и звуки.
По меркам астрономии особенная каста,
они считали нормою температуру Этны,
и не привлек бы, видимо, писателя-фантаста
погрязший в бесконфликтности контакт инопланетный.
И в тусклом звездном холоде вдруг начиналось лето,
в структуре мироздания казалась прочной кладка…
Знать не хотят империи периода расцвета
о скором приближении периода упадка.
Персоналии
До времени
Природа любит повторения,
кровит сквозь собственные швы.
А вы, ушедшие до времени,
куда же так спешили вы?
Нас не спросившие, решили вы
найти покой на небесах.
где реют ангелы плешивые
с добром заученным в глазах.
Сказал бы сверху кто-то: рано вам!..
Хоть жизнь – железом по стеклу,
на полустанке на бурановом
вам переждать бы полумглу.
Былое, тронутое патиной,
несостоявшийся рассвет…
А в наклоненье сослагательном
депрессий нет и боли нет.
И смотрят из миров разрушенных
с усталой грустной хитрецой
Саманта Смит и Надя Рушева,
Уайнхаус, Моррисон и Цой.
Полковник
Не бессонница, нет. Но зачем-то судьба наградила
снами жизней чужих, приходящими глупо и вдруг.
Я военная косточка. Имя мое – Буэндиа.
И никто не проникнет в песочный начертанный круг.
Шринк мне пишет в диагнозе, дескать, я passive-aggressive;
сыновья полагают, что я не от мира сего…
Мне героем не стать. Я по крови не летчик Маресьев.
Я вещичка в себе – но в Макондо таких большинство.
Так бывает порой: все пути состоят из обочин —
там и будет пикник, чтоб с другими не вместе, а врозь…
Был однажды живым – но увы, получалось не очень.
Попытался стреляться – и с этим, увы, не срослось.
Ни о чем не прошу, лишь о крохотной собственной нише.
Обхожусь без друзей, познаваемых только в беде.
На земле – ничего. Нелюбовь да текущие крыши
по причине дождей, от которых не скрыться нигде.
В этих тягостных снах я пустой, как ночная аллея,
и просеяно время сквозь мыслей моих решето…
Я, наверное, вечен, и, значит, дождусь юбилея:
моему одиночеству скоро исполнится сто.
Хирург Стрельцов
Занавески линялые цвета сушеной цедры
укрывают от взгляда пустырь да скупой лесок.
У хирурга Стрельцова – квартира в районном центре.
В холодильнике пиво и пиццы сухой кусок.
Телевизора нет. Только книги. В квадратной клети —
сигаретного дыма дремотная пелена.
У хирурга Стрельцова давно разбежались дети.
От хирурга Стрельцова к другому ушла жена.
Он все время один. И берложьи его привычки
никому не близки, обедняя любой сюжет.
У хирурга Стрельцова в районной его больничке
не хватает людей, и опять сокращен бюджет.
«Подожди, – говорит он себе, – и тебя уволят.
Это легче, чем выбросить мусор в глухой овраг».
У хирурга Стрельцова опять под лопаткой колет.
«Надо меньше курить, надо меньше курить, дурак».
Вот уже сорок лет, как он в эту больницу сослан.
Сожалей и мечтай теперь: если бы да кабы…
Вот уже сорок лет (как библейский пророк – народ свой)
сам себя он ведет по пустыне своей судьбы.
Завтра день, новый день в охладевшей к нему Отчизне;
чья-то боль, троакары и скальпель среди нигде…
Если промысел Божий – в рутинном спасенье жизней,
то Стрельцову пора аки посуху – по воде.
Он и другие
Кому-то хотелось с книгою на диван
или с девушкой в тень аллей.
А он на башку набрасывал целлофан
и нюхал клей.
Кому был по нраву студенческий карнавал
и бардов пыл.
А он по зиме с прохожих шапки срывал
и морды бил.
И навряд ли он думал про свет и про тьму,
душою убог,
когда ввинтили на зоне ему
заточку в бок.
Одни постигали любовь и успех,
пытались пути пролагать…
А он просто плюнул на все и на всех
и ушел в двадцать пять.
И летает лишь ветер со всех сторон,
стаи листьев пуская в пляс,
над землей, на которой однажды был он
и однажды не станет нас.
Поствикторианец
Хорошо жить в уединенье, в молчанье гордом,
собирая, допустим, марки, а может, нэцке,
родовитым и хладнокровным английским лордом,
чей единственный собеседник – седой дворецкий;
чтоб умело вела дела экономка Эдна,
чтоб хватало бароло для утоленья жажды.
Телевизор – разбить и выбросить, ибо вредно.
Не читать газеты, поскольку они продажны,
а читать в тиши Теккерея и Мопассана,
чтоб, как лошади в цирке, двигалась жизнь по кругу…
Иногда выезжать охотиться на фазана
с другом Говардом, проживающим в миле к югу.
Хорошо жить в старинном замке. Таком старинном,
что ступени его нельзя излечить от скрипа.
И презрительно обходиться без Джобса с Брином,
без фальшивящей позолоты видеоклипа.
А зимой – приглашать друзей посидеть за вистом,
оглашая смехом пространство гостиной старой…
А страной управляет толстый надежный Уинстон,
безмятежно своей попыхивая сигарой.
Беседа с потомком викингов
Я загадок души человечьей, увы, не постиг,
да и в собственной мне не дано разобраться природе…
Говорил со мной как-то коллега по имени Стиг,
чей растерянный спич я в нестрогом даю переводе.
«Я обязан сказать, – сообщил он, – enough is enough.
Я не жалуюсь, нет, и успел все как следует взвесить.
Почему же тогда я, по крови стократ скандинав,
так отчаянно мерзну, едва на дворе минус десять?!
Что бы О́дин сказал, жизнь сполна оценивший мою
(видно, бороду драл бы, в небесный свой спрятавшись замок),
коль узнал бы, бедняга, что я даже грога не пью
и мужчин предпочел восхитительным прелестям самок?!
Он с женою, красавицей Фригг, до утра б забухал,
лютой болью своей до краев наполняя бокалы,
и нашел для меня бы поганейшую из Валхалл…
Впрочем, что это я? Я б остался совсем без Валхаллы.
Кто за это в ответе? Прогресс ли? Общественный строй?
Да и стоит ли думать об этом бессмысленном вздоре?..
Кстати, сам ты – взгляни на себя! – тоже вряд ли герой.
И навряд ли сойдешь за кого-нибудь в русском фольклоре».
Я и ведать не ведал, что делать с беседою той,
так как вправду не помнил, чтоб русский фольклорный скиталец
был столь явно носат. И к тому же в очках и седой,
не владеющий древним искусством вращения палиц,
не шатающий двери одним лишь движеньем плеча,
не умеющий бить, чтобы – рррраз! – и вражина – калека…
Допивала старбаксовский кофе, о чем-то молча,
негеройская пара мужчин двадцать первого века.
Парикмахер Ромм
Беру билет на прошлого паро̀м,
и помнятся причудливые встречи…
Одной из них был парикмахер Ромм,
хромающий, асимметричноплечий.
Как вышло, что доныне не умолк
прохладный, словно первые снежинки,
видавших виды ножниц щелк-пощелк
и стрекот парикмахерской машинки?
Познавший все в своем искусстве стричь,
белея головой от мая к маю,
на всякий мой вопрос Ефим Ильич
ответствовал комическим: «Я знаю?..»
Он в день курил три пачки папирос,
начертанное сокращая вдвое,
и отвечал вопросом на вопрос —
еврейства воплощение живое.
Утратив детства радиосигнал,
надежды зарастали слоем ила…
А Ромм все знал. Конечно же, все знал,
но мне об этом знать не нужно было.
И столько лет спустя я вижу сам:
в цирюльню рая выбранный по квоте,
Ромм делает прически облакам
на виртуозном бреющем полете.
Троица
Найди-ка в сказочном кадастре
всех тех, кто так безмерно нужен!
Раз больше нет на свете Астрид,
что толку плюшки есть на ужин?
Не одинок остался Карлсон
там, наверху, где звуки тише:
Жванецкий, Ильченко и Карцев
живут на недоступной крыше,
под ними – облачная вата
лежит горячим караваем…
Они для нас – высоковато,
как шеи мы ни выгибаем.
Давным-давно погасли свечи,
давно царит другое время…
Но всех троих я жду под вечер,
как прежде, с банкою варенья.
Шестнадцать
Подводит черной тушью он глаза,
свое нутро к протесту приохотив.
Он недоволен первым актом пьесы.
В шестнадцать этот мир не стоит мессы.
Поскольку большинство активно «за» —
то, значит, он по умолчанью «против».
Пора понять, куда течет река,
куда бредут стада под звуки лиры
в краю печали, войн и эпидемий.
Нет, он не станет винтиком в системе.
Мир отдан жадноруким старикам —
кумирам, не годящимся в кумиры.
И не понять живущему по лжи —
тому, кто жрет свой гамбургер, глазея
в телеэкран эпохи кайнозоя, —
как превращать струю аэрозоля
в словесный вызов – скажем, «Шива жив!» —
на все видавших стенах Колизея.
Ответов нет на вечный: «Qu’est-ce que c’est?»
Уменья нет ни оценить, ни взвесить,
и хочется бороться, распыляться,
вовсю давить педали пепелаца —
лишь для того, чтоб стать таким, как все,
лет через пять. От силы через десять.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.