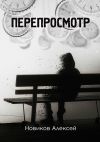Текст книги "Чёт и вычет"
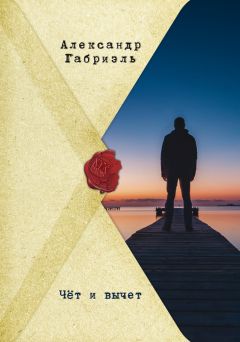
Автор книги: Александр Габриэль
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Станция N
Где-то есть и станция с тихой буквой N
в неприметном здании, в затененной нише.
Там, куда ни глянете – серый холод стен.
Никаких орнаментов, никаких излишеств.
Горький запах времени в воздухе повис,
и повсюду – плесени выцветшие пятна…
Здесь на эскалаторе едут только вниз
и никто не движется никогда обратно.
Зал для ожидающих. Тих огромный холл.
Точно так же серо здесь. Точно так же голо.
Платой за проезд всегда был один обол,
но ввиду инфляции – нынче два обола.
Поезд ждет на станции ветки «Ахерон»
сообразно графику, нощно или денно…
«Двери закрываются», – говорит Харон,
образцовый служащий некрополитена.
Мягкий знак
Свободы нет. Есть пеший строй. Приказы в «личку».
Не думай много. Рот закрой. Сарынь на кичку!
Ведь нам все это не впервой с времен Турксиба.
Скажи спасибо, что живой. Скажи спасибо.
Ты нынче доктор всех наук. Освоил дроби.
Суха теория, мой друг. Суха, как Гоби.
Материя – нам ясно и без вычисленьиц —
первична, голуби мои, Платон и Лейбниц.
Садись за руль. Поешь харчо. Плати по ссуде.
Но ведь живут же так – а чо? – другие люди.
Все как у всех – друзья, враги. По старым калькам
твои присыпаны мозги неандертальком.
Спокойной ночи, малыши. Поспели вишни.
А эти двадцать грамм души – лишь вес излишний.
Покуда шел парад-алле, услада зрячим,
свеча сгорела на столе к чертям собачьим.
И жизнь прошла, как звук пустой, как дождь по крыше,
и ты вернулся к точке той, из коей вышел,
и там стоишь, и нищ, и наг, открытый мукам,
бессмысленный, как мягкий знак за гласным звуком.
Рифы
Листок опавший тонок, ломок, рыж.
На нем узор, как на ладони, вышит…
Ответь себе: зачем ты говоришь?
Кому ты говоришь? Никто не слышит.
Темно – от девяти до девяти.
Стол, койка и разбитое корыто…
Все камеры в тюремной соцсети
давно от солнца наглухо закрыты.
Угрюмая кандальная строка
не тянется ни к счастью, ни к забаве.
Баланду подают еще, пока
ее крысиным ядом не разбавив.
И пусть ты не разбил о стену лба,
добравшись до своей финальной точки,
пропа́сть в толпе – обычная судьба
боящихся пропа́сть поодиночке.
Где нет любви, сраженной наповал,
где в небесах из птиц одни лишь грифы,
там ненависть берется за штурвал
и, видя рифы, курс берет на рифы.
Улитка
Пугливая инвалидка, невзрачная, словно гном,
ползи же, ползи, улитка, накрывшись пробитым дном
простого, пустого быта. Стелись же, за пядью пядь…
Привычно, что дно пробито, и снизу стучат опять.
Мозгов у тебя немного, в эмоциях – тишь да гладь…
Поэтому – брюхонога: поползать бы да пожрать.
Холодная, словно иней, с рогами взамен ушей…
Спираль прихотливых линий, похожая на мишень.
Моллюск – а такая сила, такой первородный клей,
что время смолой застыло на раковине твоей,
захлопнулось, словно двери в чиновничий кабинет…
А мы все никак не верим, что времени больше нет.
Гранж
У жизни хитер оскал, и законы жестки.
Уж если она и гладит, то против шерстки,
и мимо летит со скоростью иноходца.
И как ни следи, и как ни гадай, лошарик,
понять, под каким наперстком запрятан шарик,
тебе не придется.
Где прежде была равнина – теперь каверна.
Поющий «Merci beaucoup!» – оптимист, наверно.
А может быть, ценит музыку больше текста.
Картинка рябит в глазах, растворившись в гранже;
и липкий абстрактный страх, неизвестный раньше,
восходит, как тесто.
И все тяжелей брести наобум скитальцам,
и все тяжелей цепляться за воздух пальцам.
Хорошее меньше длится и реже снится.
Любая мечта – обман, пирамида Понци.
И цоевская звезда по имени Солнце
видна единицам.
Вычет
То, что с нами – то и свято, даже если непрактично.
Право выбора, ребята, легитимно, но частично.
Вроде хаты были с краю, и вблизи – могилы предков…
Времена не выбирают. Страны – можно, только редко.
Ну а счастье, ну а нега – приукрашенные виды.
Снизу – рифы, сверху – небо. Посередке – вдох и выдох.
И стоишь, как впавший в кому, bubble gum во рту катая…
Эта местность нам знакома, как окраина Китая.
И доподлинно известно: где когда-то жили люди —
игроки, фанаты квеста, подсудимые и судьи,
солдафоны и толстовцы изливали желчь и душу —
там сегодня блеют овцы, доедая волчью тушу.
Малость, крохотная малость, что невзрачна, как обноски,
совершенно потерялась при транзитной перевозке,
а без эдакой детали вся машина не фурычит.
Затянуло гарью дали. Незачет. Точнее, вычет.
Понимаешь в одночасье, песни спетые итожа,
что порою птица счастья на стервятника похожа.
Сколько тверди ни царапай – долгий день идет к отбою…
Это время тихой сапой убивает нас с тобою.
Пыль
Сгорят, как бездымный порох, размоются в полный ноль
дискуссии, от которых одна головная боль.
Растасканный по кусочку, стоишь на земле пустой,
почти превратившись в точку из плачущей запятой.
Пускай и не младший Плиний – свершившемуся вдогон
Аверченко и Феллини, придумав «Сатирикон»,
собрав воедино крохи не слишком заметных вех,
поставят клеймом эпохе задорное слово «смех».
Узнав, как мы, все профукав, пытались рубить сплеча,
праправнуки наших внуков расслабятся, хохоча:
в роду, дескать, что ни ветка, то пафоса пошлый бриз.
Но что же возьмешь-то с предков? Воинственны и глупы-с.
И только, привычно горек и тем заслужив time off,
вобьет прошлый век историк в архивную гладь томов.
Что ж, бомба, давай, дотикай и вне, и внутри башки —
чтоб пылью легли мы тихой на книжные корешки.
Вглубь
Если смотришь снаружи, из космоса – да, пастораль.
Если смотришь снаружи – наш мир переполнен любовью…
А внутри, на Олимпе – беда соревнуется с болью,
остальным – белым льдом выпадает в осадок февраль.
«Сотворение мира» – проект, неудачный весьма,
но свободен от всяческой критики проектировщик.
Вот и жизнь получилась нелепой и беглой, как росчерк,
как холмистая подпись в конце делового письма.
Человек недоволен другими. Но больше – собой.
Он вжимает себя в трафарет, в изначальное слово,
а копанье в себе – нечто вроде подледного лова,
ибо лучше безрыбье, чем, скажем, грабеж и разбой.
Человек смотрит вглубь. Так в витрину глядит манекен.
А вокруг распадаются в пыль византии и римы…
И по мере того, как уходят все те, кто любимы,
человек утончается, делаясь точкой.
Никем.
Наполовину полон
Выше
Уж коль мы – Творца поспешный небрежный росчерк,
сгодятся нам хлеб да водка в простой посуде.
Для нас руководства пишут: мол, будьте проще,
и к вам непременно будут тянуться люди.
Но в целом мы все бесплотней, чем ветер в роще.
Быть серым, как пыль хайвэя – обычай. Норма.
Неужто законы Дарвина так жестоки,
что наше предназначение – поиск корма?
Не каждый же день рождается Стивен Хокинг.
Не каждый же день рождается Милош Форман.
А новый закат опять под копирку начат,
безликий, как будто плац под пятой солдата.
Но некто зажег те звезды, а это значит…
А впрочем, об этом кто-то сказал когда-то:
Может, Боб Дилан, а может быть, Терри Пратчетт.
И будь ты адепт Христа, Магомета, Шивы,
покуда Создатель нас из гнезда не вышиб —
из душ не исчез покуда простой, нелживый
тот рудиментарный навык – тянуться выше.
Возможно, за счет него мы пока и живы.
Дальняя станция
Спокойно, парень. Выдох «Омммм» полезен загнанным нейронам.
Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.
Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;
найду ответ у сонных трав, о чем мне карма умолчала,
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.
Такой покой, такой уют воспели б Пушкин и Овидий.
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евровидел,
здесь я однажды все пойму под ветерка неспешный шорох,
здесь я не должен никому и сам не числюсь в кредиторах.
Какое счастье, господа, – брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да карамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!
Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.
Нет в рукаве моем туза. Покуда миф остался мифом.
Но все ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,
на дальней станции сойду.
Достойно.
Как артист со сцены.
Самоед
Ты сам себя привык без соли трескать,
и поедом себя сжираешь ты…
Но тут внезапно слышишь: любим, дескать,
нам, дескать, без тебя совсем кранты.
Хоть у тебя с Москвой договоренность,
что оба вы не верите словам,
становится чуть благодушней Хронос
и солнечнее – тесный твой вигвам,
и жизнь проста, и проходимы стежки,
и каждый встречный – ближе и добрей,
и нервы тихо греются, как кошки,
лежащие у теплых батарей.
Так легче на душе, так выше небо
и так взаимна тяга к ремеслу,
что кажешься себе краюхой хлеба,
в голодный год вдруг поданной к столу.
Близнецы
Сколько раз тебя хлестали плети сквозь броню, одежду, одеяла? Сколько раз пришлось услышать эти восклицанья: «Вас здесь не стояло!»? Сколько раз, сутулясь и бледнея, ты смотрелся в око Саурона и в классификации Линнея проходил как белая ворона? Жизнь прошла обрывками, недужно, в тлеющем режиме головешки. Даже те, кто был на грани дружбы, перешли на сторону насмешки. Жизнь прошла, предвзятая в аренду, тусклой стороной, окольным бродом… Что с того, что никого не предал? Что с того, что никого не продал? Затихают рок-н-ролл да сальса, далека невзятая вершина… Ты – старался, да, но не вписался, словно в скользкий поворот – машина. Где он, освежавший душу ливень, правильное место и эпоха?! Все печальней, горше и тоскливей воздух, предназначенный для вдоха.
Жалко. До чего ж тебя мне жалко! Но и слово «жалость» устарело больше, чем чекистская кожанка и коса-горбуша для карела. Цель твоя – не жить, а просто выжить; плот тебя несет дырявый, хлипкий… Зря я тщился шалой шуткой выжать из тебя подобие улыбки. Но не дотянусь… Твой берег дальний – для меня давно табу и вето. Ты бредешь проверенной годами депрессивной тропкой интроверта, не доверясь людям и бумаге. И с тобой любые шутки плохи, хоть с тобой я рядом, в полушаге. Хоть со мной ты рядом, в полувдохе.
Мы с тобою против нашей воли совпадем, как копии на кальке, потому что нас с тобой – не двое. Мы – две стороны одной медальки. Сложно нам радеть об общем благе, веря одному ориентиру… Мы – как близнецы-ишиопаги, делящие судьбы, как квартиру. Спим, едим и принимаем мотрин, верим в пару истин непреложных… Только вот на мир при этом смотрим в направленьях противоположных, не совпавших по житейским целям… Предлагал, персоной став нон-грата, нам хирург: «Давайте вас разделим!» Нет. Боюсь убить себя и брата.
Так что спрячу, однозначно спрячу проявленья горечи и злобы. Быть, наверно, не могло иначе. По-другому быть и не могло бы. Все равно зимою или летом станем мы в разорванном союзе обведенным мелом силуэтом на руинах рухнувших иллюзий. Подались мы оба в фаталисты; но еще, дыша воздушным грогом, мы, не торопя асталависты, все ж побродим по своим дорогам – сложным, как сюжет Умберто Эко, освещенным равнодушным солнцем… Два друг другу близких человека. Два друг другу чуждых незнакомца.
Абырвалг
Жизнь, по сути, как жизнь. Но сварганена слишком пресно.
Описать на бумаге – и скучно, мой друг, и просто.
Не хватает безумного вуду из Порт-о-Пренса
и размашистых ярких рифмовок из «Окон РОСТа».
Позабыв о проросшем в миндалины чувстве меры,
по земле-кабаре словно Лайза б лететь Минелли.
И, придумав новейшую письменность, как шумеры,
окончательно выйти из гоголевской «Шинели».
Выплывать изо всех берегов, изменяя русло,
чтоб спадала с души привычливость, как короста.
Чтоб романы, которые пишешь, затмили Пруста.
Чтоб поэмы, которые пишешь, затмили Фроста.
Но покуда – взамен Грета Тунберг и рэпер Хаски,
и потрепанный бриг еле входит в проливчик узкий…
До чего же ты, Оле-Лукойе, горазд на сказки!
Все бы слушал тебя да пил, обходясь без закуски.
Остается мечтать. И, по слухам, – весьма недолго:
не сулит ничего хорошего бабка Ванга…
И доносит легко свои темные воды Волга
до тебя, рядового сотрудника «Абырвалга».
Набело
Я циник доверху и дочиста, и сердце платит дань рассудку:
от слов «поэзия» и «творчество» меня корежит не на шутку.
Хоть выпью зелья приворотные, капризности задраив шлюзы —
но подступают массы рвотные от «вдохновения» и «музы».
Как умницы давно подметили, из слова высекая искры:
стократ сильней любой патетики иронии фонтанчик быстрый.
Иначе, верный томным магиям, в цветном кругу льстецов и гурий
ты пишешь книгу под названием: «Портрет меня в литературе» —
и сразу набело, без вычистки. Бывает, ты еще в постеле —
а профиль твой негероический ваяет скульптор Церетели,
шерстишь ты критиков по матери, загадочен, как мишки Гамми,
тебя заносят в хрестоматии (хоть иногда вперед ногами).
А тут – планида напророчила быть из чуток другого теста.
Ведь тем и хороша обочина: в ней тишь дерев и больше места.
Как в чеховской волшебной Греции, все есть. Лишь нет огней неона
и беспощадной конкуренции за спертый воздух Пантеона.
Линька
Ты не камень. Об этом и речь-то.
Не меняться – попробуй, сумей…
Все с тобой происшедшее – нечто
наподобие линьки у змей.
И не то чтобы сброшена кожа
или новая кожа ценней:
ты во многом остался похожим
на себя по прошествии дней.
Бунтовать перестали зелоты;
разговорчики стихли в строю,
и осыпался слой позолоты,
доказавший ненужность свою.
Замедляется бег иноходца,
и устал от мотыги феллах…
В Зазеркалье навряд ли найдется
то, что ты не узрел в зеркалах.
Все как есть, никакого эрзаца.
Все как есть, никаких конфетти.
И границу меж «быть» и «казаться»
разглядеть невозможно почти.
И скупые прохладные ноты
заполняют вечернюю высь…
Ведь осталось лишь то, без чего ты
не хотел и не смог обойтись.
Варево
Воспалены житейские занозы, постыл пейзаж хайвэев и обочин.
Как хороши, как свежи были розы! Теперь у них срок годности просрочен.
Да что там – и рассвет не так уж розов, и солнца луч свисает сталактитом…
Где стол был яств – теперь гора отбросов, не слишком совместимых с аппетитом.
Состав ушел, а мы у турникета: привычно опоздали по старинке.
Размен ферзей. Как пусто на доске-то! Как скучно: ни дождинки, ни ветринки.
Естественно, в начале было клево. А нынче – радость не глядит в глаза нам.
Как говорит Наташа Королева: «Я человек, измученный Тарзаном».
Песок, вода – сквозь пальцы – год за годом, укрыв от взоров облик дольче виты…
Славянский шкаф не тем шпионам продан. Пароль и отзыв напрочь позабыты.
И каждый день подобен вбитым сваям. Неспешна кровь, страстей остыла лава…
Шанхайский барс, увы, недобываем. Взамен – тушкан пустыни Чиуауа.
И как поэт говаривал курчавый, всегда умевший и любить, и драться:
«Прекрасное должно быть величаво». Вот с этим-то чуток не вышло, братцы.
Фундамент – пластилиновый и зыбкий, как в прошлые века – границы Польши.
Мы мельче, чем в аквариуме рыбки, вот только наш аквариум побольше.
Не Одины, не Ра и не Свароги, невидные потомки Одиссея,
мы тени. Не в раю, а просто в блоге, в нейронах виртуального сэнсэя
разбросаны по собственным планетам, озарены сполохами заката…
Но жить, но жить-то хочется при этом ни на микрон не меньше, чем когда-то.
Воробьи и люди
Осень пестует воду в ступе
потемневших воздушных ям.
Дождь, начавшись, прицельно лупит
по нахохленным воробьям.
По законам, угодным Богу,
и надеясь на «Даждь нам днесь»,
воробьи улететь не могут.
Воробьи остаются здесь.
Не сыграешь в принцесс и принцев
и не выйдешь из зон боев.
Выживание – общий принцип
человеков и воробьев,
Ведь Создатель и тех, и этих
общей нитью в иглу продел.
И остался на этом свете
тем и этим один удел:
вечный поиск тепла и хлеба
с долгим счетом земных скорбей…
Но чирикает что-то в небо
менестреляный воробей.
Not For Sale
Сохранить вертикальную стать
в царстве мглы и обочин.
Не продаться. Точней, не продать
нечто важное очень.
Сколько стоят душа или слог?
Сто монет? Или двести?
Не вцепляйся, торгаш, в кошелек,
ибо торг неуместен.
Бродит рядом, сжигая мосты
спичкой истин красивых,
предложенье, от коего ты
отказаться не в силах.
Но – нельзя. Потому что нельзя.
Пусть в учтивом поклоне,
словно Шолохов, щурит глаза
тихий Дон Корлеоне;
смотрит пристально, зло и хитро,
век твой краткий итожа…
У тебя «Not For Sale», как тавро —
красной кровью на коже.
Поэтопейзаж
Замер сказочный лес, прореженный опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра – не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
Ночь на день обменять – не проси, не проси меня,
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи…
Спит летучий жуковский на ветви осиновой,
двух крыловых на спинке устало сложив.
Теплый воздух дрожит предрассветною моросью,
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях…
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,
сонмы диких цветаевых дремлют в полях.
Проползает река вдоль пейзажа неброского
и играет огнями – живыми, как речь.
И ее пересечь невозможно без бродского,
всем не знающим бродского – не пересечь.
Все, что мы не допели, чего не догрезили,
тает в сонном, задумчивом беге планет…
Жизнь пройдет и останется фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет.
Утоли мои печали
Жене́
Утоли мои печали, утоли…
Удаляются в изгнанье короли,
удаляются в безвестность, на отшиб
мемуарами точить карандаши,
постигают секонд-хэнд чужих щедрот,
вспоминают верноподданный народ,
кормят уток, заселивших водоем,
размышляя о величии своем.
Нет ни слуг, ни церемоний, ни потех;
в старых мантиях с годами вылез мех.
В каждом дне своем, во сне и наяву
все труднее оставаться на плаву.
И глядят с небес, презренья не тая,
облака. И тихий свет небытия
заполняет вместо крови трубки вен…
И живет своею жизнью город N,
старой псиной распластавшийся в пыли.
Утоли мои печали, утоли…
На последнем беспокойном вираже
в одиночку мне не справиться уже.
Музыка
Пусть лишимся мы многого, Господи. Пусть
измельчаем на фоне словесного сора.
Оставалась бы музыка – жаркой, как пульс,
отдающийся громом в висках дирижера.
Пусть не лодка она, но уж точно весло
в утлой лодке среди мировой круговерти.
Пусть не символ добра, победившего зло,
но прямое отличие жизни от смерти.
И когда не спасают тебя образа,
мир от ветра продрог, и беснуется Кормчий —
ты уходишь к себе. Закрываешь глаза.
Надеваешь наушники. Делаешь громче.
И неважно, какой нынче день или год
и какое столетье, пока неустанно
поднимаются ввысь иероглифы нот
по причудливой лесенке нотного стана.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.