Текст книги "Перс"
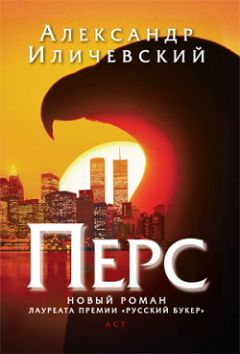
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
6
На третий день, немного протрезвев, мы с Керри поехали в Хурдалан, побродили по поселку, спустились к Джейранбатану, заповедному озеру, откуда нас скоро выпроводили рейнджеры, и мы пешкодралом, под моросящим дождичком прошвырнулись по окраинам Баку и вернулись в центр на такси.
Керри показал мне и описал все бары, которые посещают иностранцы. Где инженеры-нефтяники, где трейдеры, персонал. К середине вечера мы познакомились с двумя парнями из Exxona, белорубашечниками Биллом и Дэном – первый рыжий и рыхлый, второй невысокий и ярый, как фокстерьер. Оба они оказались чудовищно болтливы, так что через пару кружек я знал, где живут Роберт и Тереза (кондоминиум на берегу моря, северная окраина города) и какие у Роберта в последний месяц составились первоклассные контракты. Оказывается, начальник их трейдерского отдела собирается его переманить или частично подключить связи Роберта, потому что надеется привлечь наконец арабов к инвестированию.
– Роберт толковый парень, он отлично знает Восток. Сказывается его работа с саудитами, – поведал Билл. – Он уже привозил сюда делегацию богатых бедуинов. Они интересовались соколиной охотой в одном из заповедников.
Я поочередно посмотрел в глаза трейдерам.
– Здесь, в прикаспийской прерии, водится какая-то ценная птичка, за которую арабы готовы свою душу продать и другим душу вынуть. – Дэн прихлебнул пива и сделал жест, чтобы мы приникли к его устам.
Керри снисходительно наклонил голову.
– Арабы с ума сходят по этой птичке, мне самому уже хочется ее отведать. Они называют ее хубара. Охотиться на нее можно только с соколами. Только сокол может убить эту хитроумную сильную птицу. Ни пуля, ни силки ее не берут. Арабы преследуют ее много веков. Дикие люди! Они уже истребили ее на своих землях. А когда разбогатели в двадцатом веке на нефти, то вместе с экспансией стали истреблять на других территориях. Соколы тоже сходят с ума по этой хубаре и мигрируют вместе с ней от Сибири до Афганистана.
– А что они такого особенного находят в этой птице? Как ты говоришь, хубара? – спросил недоверчиво Билл. Капля пота на его брови блеснула, как булавка.
«Ему бы подошел пирсинг. Но только не для переговоров с арабами», – подумал я.
– Не поверишь. Чему только варвары не поклоняются. Оказывается, все шейхи верят в то, что мясо хубары обладает молодильными свойствами. Для них это единственный способ сохранить мужскую силу, и следовательно, продлить жизнь. Они свято верят, что чем лучше стои́т, тем дольше живешь.
– Они недалеки от истины, – сказал Керри.
Все замолчали. В баре что-то тихой хрипотцой выпевал Билли Холидей. Слов было не разобрать, но уникальный тембр можно было узнать и по двум слогам.
– Я тоже кое-что слышал о соколиной охоте, – вмешался Керри. – Арабы для омоложения пожирают только ту хубару, которая была убита соколом. Это высший разряд продукта, высшая форма халяль: дичь, убитая именно соколом, этим символом власти и могущества в пустыне. Арабы считают, что глаза и когти, ловкость и красота сокола принадлежат его хозяину. Что сокол и есть сам хозяин. Арабские колдуны – маги – в сказках превращались в сокола. «Тысяча и одна ночь» перенаселена джиннами, волшебными слугами, которые могут быть выпущены из лампы. Так вот, слуги-джинны эти – не духи, а соколы. А лампа – клетка. В арабских сказках этот мотив уникален: там нет, как есть у христиан, идеи прийти и населить и обустроить землю для своих будущих поколений. Зато их сказочная мифология изобилует мотивом порабощения и победы при помощи магических слуг, над которыми господствует еще со времен египтян Гор – бог-сокол. Арабы в сказках и не в сказках орудуют не собственными руками. А руками волшебных слуг. Каковых и любят обожествлять. Так что соколиная охота для них – форма религии, отправление ритуала.
Билл недоверчиво посмотрел в упор на Керри и сделал большой глоток из кружки.
– Роберт вполне подходящий парень, чтобы кормить саудитов пирожками с хубарой, – заключил Дэн. – Вот у кого надо учиться.
– А как он узнал все это? И почему вдруг здесь объявилась эта птица? – спросил я.
– Да он дока! Он всерьез задружился с кем-то из сынков некоего шейха, близкого к королевской семье. Вышел на него в Лондоне. У самого Роберта отец из CIS, крупный чин, а трейдерство – это та же разведка, вербовка, промышленный шпионаж, требуются те же навыки. Так что сынок пошел по сродству, ему было у кого поучиться. Роберт большой профессионал, великий трейдер на подходе к зениту карьеры, я слышу о нем уже третий год, – Дэн чмокнул свое запястье и показал бармену на пальцах «викторию». Тот принес еще два пива.
– Так откуда здесь эта птица? Двадцать лет назад здесь не было никаких разговоров ни о соколах, ни о об этой хубаре. Я хорошо знаю природу родного края. Я держал в руках шахинов – небольших красивых соколов. С ними связаны народные поверья, но никто никогда не пробовал с их помощью убивать неведомую птицу хубару. Что это за птица?
– Да откуда мне знать наверняка? Говорят, – Дэн макнул усы в пену, – хубара, избегая истребления, изменила миграционные пути и выбрала наиболее защищенные от охотников степи. Здесь же во время Советов половина страны была пограничной закрытой зоной. Вот ей тут и приглянулось. Арабы с наступлением сезона охоты во все края рассылают разведчиков доложить о прилете и численности хубары. Тем более, поговаривают, здесь в одном из заповедников научились разводить хубару в неволе. Вот арабы туда и целят. Точнее, Роберт целит.
На следующий день вечером, отпустив таксиста близ кондоминиума Royal Shell, я заплатил десять манат (дюжина долларов) двум охранникам и поднялся на девятый этаж недостроенного жилого дома. Там я расчехлил аппаратуру, и мне хватило получаса, чтобы увидеть, как Тереза у окна закидывает назад волосы и надевает лифчик, а Роберт опускается на балконе в шезлонг, чтобы пригубить стакан воды со льдом и пустить струйку сигарного дыма. У него отличный пресс и длинные ноги.
Следующий кадр я сделал наугад, повернув объектив в сторону моря, где по грунтовой дорожке бежала тележка, запряженная мулом. На горе тряпья восседала кучерявая чумазая девчушка и очень азартно, то и дело задирая на ухабах грязные пятки, стремясь, наверное, поскорей до темноты добраться домой, лупила толстым концом ветки упрямого мула, едва доставала до крупа.
Велосипедные колеса повозки пылили в столбе света, в котором море серебрилось.
7
Одно из самых тяжелых зрелищ любовного свойства – вид кобеля, напавшего на место в саду, где недавно лежала потекшая сучка. Ее только что увела соседка, а кобель разминулся с ней, припозднившись с прогулки, и теперь кусал землю с травой, скулил и плакал.
Так я сейчас метался по городу, раскаленному явностью следа.
Городские цветы без запаха – бесполые. Запах розы в гамме ароматов – особенный, возвратный запах, необычайно элегический… Запахи, особенно цветочные, – это азбука памяти, элегическая квинтэссенция. Один запах я помню так, что воспоминание о нем вызывает затмение сознания: запах хоросанской розы. Был такой сорт у Серафимы в саду: можно было задохнуться счастьем, не оторваться. Но был еще и запах жасмина, трагический запах. Запах цветов, принесенный движением воздуха, – иной, чем тактильный. Запахи записаны в моем теле непосредственно на нервных окончаниях.
Все мои мучения по Терезе вернулись приступом сейчас, когда я этого ожидал в меньшей степени… Мне вдруг приснился запах жасмина, этот запах вдруг обрел плоть, нагую, он проник в меня всего, и я покорился, вытянулся по дыханию, стараясь каждой клеточкой услышать в себе отклик, почувствовать, скользнуть к чреслам вечности, раздвинуть ей ложесна – и после плакать во сне, выход утром из комнаты только через окно, как же избавиться от этого ужаса.
Но даже и скопца фантомная боль раздавит.
Написал ей письмо, отвез в гостиницу.
Caspian Pearl – For Teresa Schmitz – «Привет! Как ты там? Хорошо ли все? Всю ночь ты мне снилась, вот и решил написать. Никогда в разлуке так глубоко с тобой не общался. Ты жила в каком-то южном европейском городе, у тебя была подруга, которая почему-то вечно пропадала на берегу моря, ставила невдалеке от берега сети, которые ссыпала и крепила между шестами с лодки, были волны, и ты ужасно переживала, что из лодки девушка может выпасть, а потом девушка выпала, но ты махнула рукой:
– Ладно. Все равно она русалка.
Дальше мы долго гуляли, собирали ракушки, брели, морская пустошь, редкие прохожие с собакой, но вот рыбный ресторан, fish of a day, я все старался понять по вкусу, какого вида эта рыба, и белое вино, и солнце, и вдруг пропадают вокруг все повара и официанты, и надо идти жарить рыбу самому. Корзина полная устриц, гребешков, живой рыбы, я думаю, куда нам столько? И оставляю только одного тунца, с руку. Мы грузимся в моторку, везем рыбу в море, выпустить – и вдруг налетает шторм, шквал, брызги, я оборачиваюсь вытряхнуть рыбу из корзины, соображая, что того тунца все-таки тоже надо было взять с собой – и тогда бы нас не постиг шторм, – а там в корзине твоя подруга, сестра, вы похожи явно, но та другая не слишком любезна ко мне. Ты помогаешь ей подняться. Мотор выходит из строя, веслами едва удается держать лодку против волны. Подруга твоя говорит: “Сейчас позову на помощь” – и прыгает за борт. А мы сидим в лодке среди шторма. Среди яркого солнечного дня и волны совсем не страшны. А берега уже не видно. В общем, еле проснулся. Какой-то бред, но ужасно красиво – аж задохнулся от того, как в ресторане на сваях над самым морем, у причала, вся мебель в белых чехлах, плетеные кресла, белые крахмаленые скатерти, и занавесь белая под тихим движением ветра открывает вид на пустынную бухту, солнце. Как тебе мой родной город? Я тоже здесь обитаю сейчас…»
8
Что я видел? Что беспамятство зорче затмения.
Что я видел? Разъятые рассветом перья ковыля, шатры болиголова, раскинутые в зените: жаворонок бьется в колоколе небосвода.
Что я видел? Степь нисходит в пустыню, слепят настовые озера солончаков. Поезд выгибается, локомотив высекает свисток, штурмуя рай заката. Взор выдыхает к горам, к островкам верблюжьей колючки, Малый Кавказский хребет придвигается фронтом бурана, лилово-рыжим, и взгляд устремляется к алчущим выси, подрагивающим на стыках рельс скальным идолам Бешбармака.
Что я видел – ни для кого не зримо.
Потому как беспамятство – самая благодатная почва. Глаза мои уже проросли в ней косточками правды, и вот-вот два ростка граната встретят свет в заглохшем саду подле старого финского домика, на клочке Апшеронского полуострова.
Всхлипывает горлинка, вскрикивает цикада. Между абрикосовым деревом и шпанской вишней подвешен гамак – кусок невода, выброшенного штормом; ручки развалившегося кресла – растяжки, стволы под веревкой обернуты половинками велосипедной покрышки.
Невод был пуст семнадцать лет, просеивал только лепечущую листву теней, падение гусениц, зимний дождь, крупу норда, ветер швырял его, скручивал жгутом – но сегодня в полдень гамак вдруг натянулся, ячейки пополнели, скрипнул подвес, и ладонь прозрачного гиганта накренилась ковшом, выпуская призрака пройтись по саду.
Я трогаю шершавые листья инжира. Я нежу глазное дно солнцем сквозь виноградные листья – их прожилки: видна каждая, как на карте токи эстуария. Вот богомол медитирует на листе плюща. Вот Млечный Путь застыл на надкрыльях короеда. Вот хурма, соперничающая с взрывом закатного солнца, на вдруг переломившемся от тяжести плодов дереве. Выхожу за калитку. Шумят, серебрятся исподом кроны олив. Миную кладбище немецких военнопленных, построивших этот поселок. Ржавые кресты стоят в строгом порядке: могильщики хоронили товарищей. Поселок пролегает подо мной улицами, двухэтажными домами, резными балконами, запахом пыли, смоченной из поливных шлангов; расквашенными на помыв коврами, облаками овечьей шерсти, вынутой из утроб матрасов. Вот папахи и кепки на деревянных чурбанах, выставленных на крыльцо шапочной мастерской, в их выщерблинах я угадываю знакомые – то грозные, то глупые, то мученические лица. Вот слепящая солнечная дорожка на рассвете, по которой плыву вместе со своей собакой, безухим волкодавом Барсиком.
Фотографии – дырки в забвении. Во дворе моего детства, полного утреннего тенистого затишья, гулкого вздоха горлинки, все-таки набранной садом к рассвету прохлады, – я вижу осу, сползшую по носику крана к набежавшей капельке, она погружает в нее голову и вырастает, преломленная оптической кривизной поверхности; теперь ее башка, полная черно-желтого глянца, ювелирного чуда челюстей, щетинковых усов, матовости гранатных выкаченных глаз, с проступившими при таком увеличении фасетками, – до сих пор плывет и сверкает в моем мозгу, и в каждой грани осиной сетчатки стою я, только что напившийся из крана, только что оторвавшийся губами от вкусной ржавчины, глазами – от замшелого плитняка, мокрого, пахнущего на солнце школьным мелом…
Солнце буравит мозжечок затмения. Вглядываясь в этот колодец зажмуренными глазами, чувствуешь на губах сладость, проступающую, как в росинке, сцелованной с рожка акации.
Забытье?
Да.
Припасть к нему, как к соску Суламифи.
От квартала к кварталу запах города замешан на терпкой одури моря, чуть только смазывается летучими оттенками – олеандров, белой акации, шашлыка, асфальта, бензина. Морем благоухает и дышит все. Обсохнуть после купанья, укусить помидор, лизнуть корочку соли на запястье. Багровый, терпкий, наливающий в сердце и голову новую ясность чай. Надменный, кривой на глаз и полщеки чайханщик дописывает счет в исчерканной синей пастой ладони. Ломкая щелка глаза чайханщика чудится мертвым человечком, вживленным в лицо. От этого его надменный облик двоится вполоборота. Обращаясь вокруг никелированного титана в заднике, он чередуется, как Янус, с самим собой.
Духота спáла, и этот чайник – последний.
Во дворах, на углах, балконах баджишки, с вымаранными хной пальцами, сидя на корточках или по-турецки, хлещут овечью шерсть, начинку перин, после мытья и просушки. Тут же приторговывают из мешочков горелыми семечками, подсыпают еще вместо сдачи и вновь ловко стряхивают и снимают ребром ладони насевшие на прут облачные клочья. Прутья хлещут с оттяжкой, и облака, сгустившись было над бухтой, розово взбиваются в стратосферу, разлетаясь прахом высокого перистого заката.
В соседнем дворе висит простыня. Летучая мышь, кувыркаясь в объеме двора, атакует белизну. Падает с писком на землю. Вспышки лунной пыли. Дворовый пес, метнувшись от подъезда, хрустит мышью. И тут же перхает, выкашливает скомканную конструкцию из косточек, перепонок и коготков.
9
Зимой нашего шестого класса нефтяников острова Артем постиг трагический случай, к счастью, для нашей семьи закончившийся благополучно. В одну из ночей, когда отец был на одной из дальних буровых, разыгрался чудовищный шторм. Волны сносили эстакады и обрушивали платформы. Поступил приказ о полной эвакуации нефтяников. Несколько кораблей вышли в море, но не смогли пришвартоваться. Решили выводить людей по эстакадам. Кромешная ревущая тьма, открытое море. Ледяные волны перекатываются через шаткие помосты, грохочет листовое железо, срывается настил, по которому пробираются ползком ополоумевшие от страха люди. Переломленные в нескольких местах ветки эстакады устраивают ловушку. Отец был в составе группы, чей бригадир оказался героем. Он не подчинился приказу, а вывел людей на наиболее глубоководный участок, где волны были на полметра ниже. Оказывается, за несколько лет работы он заметил, что волны на том участке более смирные. Через сутки отца и еще пятнадцать человек с полузатопленного островка в сорок метров, дрожащего от ударов волн, сняли спасатели.
Вот почему меня влекло на эстакаду. Кроме того что я хотел бы, как отец, испытать то, что испытал он, я в своем воображении – тем, что бросал вызов стихии, – словно сам спасал отца, помогал ему задним числом, поддерживал. Отец очень изменился с того момента.
Флаг моего детства, его цвета: ржавый и голубой – трубы выкрашены голубой, но уже проржавленной краской: тонны ее раз в три года тратились на основные островные магистрали, выводящие добычу с острова и эстакад в нефтехранилища. Богатая выразительность минимализма: части неба и моря и три ржаво-голубых полосы внизу…
Отец учился в легендарном учебном заведении: в силу стратегической важности нефтяной промышленности Бакинский политехнический институт создавался под стать Императорскому высшему техническому училищу в Москве, с соответствующими выдающимися преподавательскими кадрами, реликты которых, во всяком случае, поколение, непосредственно наследующее этим реликтам, сохранились и до времен студенчества моего отца.
Вот он – первый во втором ряду: курчавые волосы, клетчатая рубашка, живой кадык, долгая голая шея, пухлые губы. На этой фотографии запечатлено, как перед первокурсниками на первом занятии у лабораторного стола выступает Михаил Давидович Эльбирт, начальник лабораторных работ по теории электрических машин:
– Друзья! Прошу принять во внимание, что эта лаборатория – почти музей! Пожалуйста, бережно обращайтесь с оборудованием и инвентарем, старайтесь не повредить рабочие поверхности стендов, не перекручивайте клеммы, которые еще помнят пальцы великого Курчатова, корифея атомной промышленности, – три семестра он провел в нашей аспирантуре…
У побережья Насосного поселка на удалении второй банки в море находится гряда камней. Отец рассказывал, что в студенческие годы он эти камни использовал в качестве своеобразной волшебной кафедры. На них ему удавалось хорошо сосредоточиться, ко многим экзаменам на старших курсах он готовился именно здесь, достигая их с поднятой над водой рукой, державшей конспекты лекций. Бывая в Насосном у бабушки Серафимы, я не раз заплывал на эти камни, чтобы позагорать, помечтать, подумать, и теперь мне кажется, что именно там я впервые услыхал звучание недр.
Там, на камнях, я однажды слышал гул, явственный и жуткий, ощущавшийся всем телом, – ведь это очень страшно, правда, когда вы лежите посреди моря, под палящим солнцем, стайки бычков, кефали, одиночные снаряды судака проходят по дну в прозрачной воде, колышутся водоросли в основании скал – надуваются капюшоном и опадают, надуваются и опадают, – и все так вокруг безмятежно, как вдруг пространство вокруг насквозь наполняется урчанием, именно урчанием – так кошка утробно грохочет под ласковой рукой…
Нефтяные площади, именно «площади» – так говорили на Артеме: вместо чуть отвлеченных, романтичных нефтяных полей, oil fields, вытесненных еще в начале века – стараниями Ротшильдов и Нобелей – вместе с американским влиянием на Апшероне.
В полукилометре от берега Артема в 1935 году была сдана в эксплуатацию первая в мире морская нефтяная скважина, пробуренная с каркасной свайной площадки. Сотни таких морских скважин окружали остров в моем детстве. Большинство из них связывались с сушей многокилометровыми эстакадами, но имелись также свайные островки, связь которых с берегом была возможна только по воде. Работу на этих островках во время шторма можно было сравнить по опасности с пребыванием на потерпевшем крушение корабле, который разбивают волны…
Вы заканчиваете смену и наконец добираетесь до суши. Дорога тянется мимо старых нефтяных площадей, мимо групп кивающих качалок, похожих в профиль на гигантских ушастых шакалов, под колесами бежит земля, пропитанная нефтью, загроможденная отвалами голубой глины, смазывавшей вращающиеся буровые колонны в скважине. Кроме качалок кое-где можно встретить на устьях дебетовых скважин фонтанную или компрессорную арматуру. Машина петляет мимо отстойников с глинистым раствором и озерец с водой, смешанной с нефтью. На промысловых дорогах можно было встретить только вохру, нас, мальчишек, и операторов нефтедобычи, в кирзовых сапогах, а зимой и в ватниках, покрытых плащ-палатками, обходящих скважины: они следили за работой оборудования, устраняли мелкие неисправности. В случае крупных аварий вызывались ремонтные бригады. Вохра нещадно гоняла мальчишек отовсюду, считая нас главными вредителями.
Отец работал в «Артемнефти», разрабатывал электрооборудование для морского нефтепромысла. Он то колдовал в лаборатории с магнитными усилителями, то пропадал на площадях на суше или на море (где обслуживал электроподстанции, питавшие оборудование скважин). Сколько себя помню, я все время в раннем детстве искал на острове отца. Если его не было в цеху, я шел от подстанции к подстанции и в конце концов прибивался к подъему на эстакады, Южную или Северную, в зависимости от того, куда я был послан сотрудниками отца, часто наобум определявшими его местонахождение. Далее меня не пропускала ненавистная вохра, и я торчал перед сходнями, смотрел, как досматриваются грузовики, как они пропадают в открытом море.
Детский мир невелик, но емок – край света для нас исчерпывался сначала окончанием уходящей в море за горизонт эстакады, длящейся от вышки к вышке. Мы всегда стремились на промыслы, там царили мужественные люди и умные всесильные механизмы, там дух захватывало от морского простора. Летом мы с дыхательными трубками и в масках пробирались под эстакаду, двигались под ней от опоры к опоре, видя мелькающие прорехи под колесами грузовиков. Или влезали без спроса в «алабаши», кузов которых был крыт наполовину и оснащен скамьями. Вохра нас отслеживала, отлавливала, наказывала, передавала в детскую комнату милиции, где долговязая женщина в коричневом платье с папиросой, распускающей сизые розы дыма, строго говорила с моей перепуганной, заискивающей матерью.
Однажды мы с Хашемом пришли к отцу в электроцех – в тот самый момент, когда он ставил эксперимент, что-то собирал под крышкой электромотора, – мы видели обнаженную обмотку, плату управляющего механизма. Отец нас просил подождать, и мы смиренно занялись чем-то на стенде – стали рассматривать шкалы, монтажные схемы, осторожно откручивали клеммы, потом переключились на вольтметр, – у нас было развлечение – измерять сопротивление собственного тела. Мы отчего-то были уверены, что именно оно характеризует степень уязвимости организма от поражения электрическим напряжением – чем выше, тем безопасней. Не знаю, есть ли, в самом деле, связь, но у отца сопротивление тела было выше, чем у нас, раз в сто, и это воспринималось нами как нечто титаническое, приобретаемое только тренировкой: раз отец каждый день находится вблизи сильных токов, то и тело его, став натренированным, должно было обладать высоким сопротивлением. Сейчас понятно, что сопротивление попросту пропорционально какой-то степени массы тела, которая у отца явно была больше, чем у нас. Но такая у нас была легенда, и мы были ею увлечены. Так вот, только мы взялись за остроконечные клеммы вольтметра и стали выставлять масштабную шкалу, как вдруг раздался сильный хлопок. Оказалось, что-то у отца не заладилось, и мощная вольтовая дуга ослепила его. Отец не видел около получаса и слушался нас, как маленький, когда мы вели его в медпункт. И мне было очень страшно, страшней всего в жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































