Текст книги "Город заката"
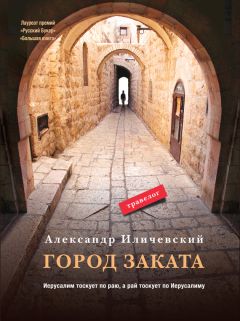
Автор книги: Александр Иличевский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
По пути из Иерусалима в Сдом
В шуме ливня – звук многих имен, ропот и неистовство гибнущего хора, и вряд ли нечто рукотворное сравнимо с громом по чрезвычайности и доходчивости, с какими он сообщает человеческому уху, что есть еще на свете явления природы, которые никогда не станут подвластны разумным силам.
Ливень в равной степени может стать благословением или бедствием, а в январе 1991 года затяжные дожди над Святой землей стали и тем и другим одновременно. В Реховоте, расположенном на склоне холма, вода затопляла нижние улицы, и путешествие в булочную оборачивалось переходом вброд бурлящего мутного потока, забивавшего сточные люки, в воронках которых плясали бутылки и другой плавучий мусор.
Гром и молния отзываются в атавистическом уголке нервной системы, сотни тысячелетий отвечающем за выброс в кровь адреналина при рыке саблезубого тигра, появлении змеи или представителя враждебного племени. А если сюда добавить еще вой сработавшей автомобильной сигнализации, тонущий в реве тоже не сдержавшейся противовоздушной сирены, то светопреставление – самый невинный эпитет для описания того, что происходило по вечерам в Реховоте в том далеком январе. Привыкшие экономить на громоотводах израильтяне, для которых грозы – явление невиданное, впоследствии ужесточили требования техники безопасности. Мой знакомый, работавший на бензозаправке, на которой коротал я те залитые ливнями дни, показал мне выщерблину в асфальте, куда, притянутая железом кессонов, прошлой ночью ударила молния. Поговаривали, что такая аномальная зима – следствие прошлогодней «Бури в пустыне»: мол, военные действия в Ираке не могли пройти бесследно для природы Ближневосточного региона. Помню день, когда в Тель-Авиве пошел снег: люди выходили из офисов, кафе и магазинчиков с изумленными лицами, чтобы посмотреть, как на ладонях тают снежинки.
Та зима была мрачноватой и тягостной, и завершилась она только в апреле, когда после нескольких ясных дней на страну навалился песочным брюхом хамсин. Тогда я на себе испытал напасть невольного обезвоживания (едва не откинул лапти) и научился никогда не выходить за порог без бутылки воды. Хамсин завершился ливнем, обрушившимся из насыщенных рыжей пылью пустыни туч; зонты прохожих и одежда попавших под дождь – всё было в грязевых потеках.
После дождевой коды хамсина на протекавшем потолке моей мансарды окончательно сформировался косматый портрет Эйнштейна, и следующий день был посвящен купанию в море. Пляж располагался где-то поблизости от Ришон-ле-Циона; близ него виднелись сторожевые вышки и полоса отчуждения морской базы, а у берега торчал вверх кормой ржавый, разбитый штормами корпус корабля, некогда выброшенного бурей на мель; на борту его я впервые в жизни увидал граффити: “Moby Dick”, и это произвело на меня впечатление куда большее, чем работы Уорхола.
В апреле мой товарищ – биолог, исследовавший механизм работы клеточных мембран, предложил мне пешком пройтись вдоль берега Мертвого моря. Он имел опыт путешествия автостопом из Москвы в Крым и надеялся применить его в новых условиях.
Мы оказались на окраине Иерусалима уже после полудня и, поглядывая в сторону скученных домов восточной части, двинулись по обочине дороги, углублявшейся в пепельные холмы. Они шли ковром по направлению к неведомому пока Бат-Яму, куда – на дно самой глубокой на суше впадины – нам еще предстояло спуститься. В этом пологом и затяжном спуске было что-то загадочное. Нисходя в долину, мы предвосхищаем в воображении ее селения, сады, поля и реки. Спуск чаще всего ведет в места более обитаемые, чем взгорье. Если это не так, если спуск из мест обитаемых приводит в пустынную местность – это выглядит таинственным. «Земля Санникова», «Божественная комедия», «Орфей и Эвридика» основаны именно на тревожном предвосхищении удивительных мест, которые откроются путешественнику на самом дне.
Водители машин – в основном это были такси-«мерседесы» с зелеными табличками номеров и арабской вязью на них – неизменно притормаживали рядом, приглашая подвезти или чтобы просто поглазеть на потенциальных жертв интифады. Идя по обочине, мы готовы были, заслышав звук приближающегося автомобиля, поднять большой палец вверх, но машины с белыми израильскими номерами не попадались вовсе.
Наконец мы остановились у автобусной остановки и присоединились к толпившимся военным. Поодаль стояли несколько привыкших к остановившемуся времени пустыни стариков-бедуинов, похожих в своих платках на верстовые столбы. Попутки мы дожидались больше часа, поскольку водители справедливо отдавали предпочтение голосовавшим солдатам. Время это мы скоротали, общаясь с бедуинским осликом – обладателем самой упругой и нежной гривы в мире. К Мертвому морю мы мчались с бешеной скоростью по зараставшей сумерками дороге. Мы спускались в незримое всё быстрей и глубже, посреди завораживавших своей схожестью с каменным штормящим морем холмов Иудейской пустыни. От резкого перепада высот всё сильней закладывало уши.
…Тьма наступила мгновенно, и в совершенных потемках мы сошли на обочину очередного перекрестка. Присутствие моря ощущалось только по запаху – этому таинственному благоуханию большого количества соленой воды. Древнейший запах моря, царивший, еще когда земля была «безвидна и пуста», – освежающе тревожный запах, связанный с ощущением себя на краю мира, на пороге неизвестности, – аромат, которым долгие годы дышали Одиссей, Тезей, аргонавты.
Память запахов чрезвычайно укоренена в мозгу, потому что записывается в область с очень высокой плотностью нейронных связей. Из вкуса пирожного «Мадлен» Марсель Пруст извлек великий роман, размером во Вселенную. Запахи способны вынуть из памяти огромные пласты реальности.
Ароматы полны метафизического содержания. Благовониям отводится важнейшая ритуальная роль. Есть архетипические запахи: ладан, смирна, запах озона после грозы… Растения, произрастающие близ Хар а-Баит – Храмовой горы, возможно, использовались в храмовом хозяйстве или богослужениях, и их терпкие, крепко запоминающиеся запахи добавляют к воссозданию Храма в воображении не меньше, чем материальные объекты памяти. Накануне поездки к Мертвому морю я бродил под Хар а-Баит, растирая в пальцах низкорослые, цветущие мелкими филигранными цветками растения, и представлял себе, как из их благоухания передо мной подымается прозрачный Храм…
Пасмурная беззвездная ночь над долиной Иордана пахла доисторическим временем. Нащупывая край обочины подошвами, мы неуверенно зашагали на юг, жадно впитывая ноздрями воздух, предвещавший близость цели.
Вдруг далеко впереди небо прорезал луч. Он осветил узкий кусок земли и качнулся в нашу сторону, выхватывая побежавшие врассыпную лоскутья ослепленной земли, камышей, водной глади и противоположного берега. Первая мысль была о встрече с НЛО, и это вполне соответствовало загадочности нашего спуска, однако вскоре мы разговорились не с инопланетянами, а с израильскими пограничниками. Они взяли с нас клятву немедленно убраться с дороги. Ночевали мы в Кумране и проснулись утром в полной уверенности, что за ночь наши тела преодолели границу реальности. С обрыва открылась полетная панорама северной части Мертвого моря и нависшей над ним Иордании. Вряд ли на земле еще есть место, передающее столь пронзительно восприятие мистичности только языком ландшафта. У одного неоплатоника есть рассуждение о том, что созерцание ландшафта близко к созерцанию текста. Это похоже на правду, ибо подобно тому как мы просматриваем строчки и погружаемся в литературную реальность, мы всматриваемся в ландшафт, обозрение которого порождает в сознании соотнесенность реальности с картой, с ее сакральностью, обусловленной тем, что карта – прообраз взгляда Всевышнего на поверхность земли.
Ландшафт прочитывается. Кругом не склоны, камни, уступы, овраги, а буквы. Взгляд в книгу вполне сопоставим со взглядом на ландшафт. Чем отличаются книги, казалось бы, идентичных ландшафтов Восточного Крыма и Центральной Калифорнии? И что человек прочитывает, бродя по страницам Иудейской пустыни?
В Эйн-Геди мы окунулись в море и после едва отмылись от его рапы под ржавыми подсолнухами пляжных душей. Под окном одноэтажного постоялого двора раскачивался и приплясывал человек в полосатом халате с сидуром в руке. На берегу стоял десяток-другой палаток, из которых выбирались проснувшиеся пациенты этого бальнеологического курорта. Выбравшись на свет Б-жий, они спускались понемногу в блестевшую сталью водную гладь, и все это вместе напоминало известную картину А.Иванова, распахнувшую в моем детстве стену Третьяковки в долину Иордана.
…Конечным пунктом нашего путешествия стал Сдом, и там, на стоянке, мне приснился сон, в котором я шел по дну Мертвого моря и наткнулся на руины Аморы.
Пардесы Джойса
В Израиле всегда превосходно, без задних ног спится. Первая моя ночь двадцать лет назад прошла в студенческом общежитии Вейцмановского института на чем-то среднем между раскладушкой и гладильной доской. Высота постели находилась вровень с балконными перилами, и каждую ночь меня преследовало ощущение, что, засыпая, я отлетаю куда-то вверх и вбок и отправляюсь в не менее безвестное, чем бездонное, путешествие над окраинами Реховота. В первое утро я там и оказался, а месяц спустя после приезда полюбил там гулять.
В первое утро друг, у которого я остановился, разбудил меня на заре словами: «Вставай, пойдем воровать апельсины». Мы умылись и отправились на дело. Сторож апельсинового сада еще спал, и поэтому мы поздоровались только с его собаками. Деревья стояли по пояс в тумане. Я в первый раз видел апельсиновые деревья. До того момента апельсины мною наблюдались только в ящиках или на витрине. Вообще, сознание мое было явно ошеломлено теплой осенью, царившей на Святой земле, – улетал я накануне из ноябрьской Москвы, заваленной мокрым снегом.
Мой друг подходил к тому или иному дереву, срывал плод, разламывал его, чтобы впиться в мякоть и прислушаться к своему ощущению – насколько спелый, и шел решительно дальше. Для меня в этом только народившемся у горизонта солнечном свете каждый апельсин был драгоценен и всё вокруг виделось чистым волшебством, невидалью, и я никак не мог согласиться с придирчивостью моего друга. Оставлять такие богатства ради лучших казалось мне кощунством. Ушли мы из этого райского сада с рюкзачком, полным великолепных, невиданных по аромату и сладости апельсинов.
В первый же день стало ясно, что если моя плоть и сделана из земли, то именно из той, что теперь у меня под ногами. И я смог вообразить себя лежащим в этой земле – без того страха, который в детстве у меня вызывало это представление.
Поселился я в кампусе Вейцмановского института в небольшом домике – црифе. За ним, у мусорных ящиков, вертелись худущие, с огромными ушами, облезлые кошки. Они казались только что спрыгнувшими с египетских барельефов и вначале сильно меня напугали. Среди эвкалиптовых деревьев, вокруг овальной впадины, поросшей травой, стояло несколько каркасных бараков. Каждый вечер, спускаясь в центр земляного параболоида, я ложился навзничь и наблюдал стремительный южный закат, не похожий на закаты Среднерусской возвышенности: палитру восходов и закатов определяет рассеяние Рэлея на атмосферных взвесях – вот почему цвет неба так сильно зависит от характера почвы и растений, на ней произрастающих.
На новом месте меня занимало всё – начиная с природоведения. Впервые в жизни я вел «дневник закатов» – заносил в заведенную тетрадку время, когда солнце касалось верхушек деревьев, и кратко описывал, насколько хватало слов и способностей, характер облачности и колорита. О, сколько восторга вызвал январский ливень, стеной обрушившийся на Святую землю, когда по улицам хлынуло наводнение и молнии начали лупить во все места, не оснащенные громоотводами, в частности, в автозаправки, прямиком в зарытые в землю кессоны с топливом, и кругом завыли автомобильные сигнализации и сирены противовоздушной обороны.
Я полюбил бродить в окрестностях Реховота. Гулял в обществе косматой собаки Лизы, кормившейся у студенческих црифов. Со склона открывались дымчатые холмистые дали. В подножии холма размещалась обрушенная усадьба. Во дворе ее росли пять длинных тощих пальм, валялись заросшие травой ржавые останки сельскохозяйственной техники, кучки битого кирпича, какая-то рухлядь. Вокруг усадьбы широко по склону холма росли дички апельсиновых деревьев, плоды их были кислы и горьки. В низкорослом кустарнике жили дрозды с ярко-желтыми клювами. Дрозд – символ английской поэзии, и вслушиваться в речь его – пронзительную и многообразную – было большим удовольствием.
На втором этаже усадьбы, лишенной крыши, я подобрал несколько пожелтевших клочков писем, написанных химическим карандашом по-английски. На обрывке конверта удалось разглядеть штемпель: “1926, London”. Я прочитал и сунул листки под куски штукатурки, где они лежали, и оглянулся.
Лиза, забравшись на развалины и пропав в косматом протуберанце, зевком хватала солнце. Взор мой парил. Он утопал в световой дымке, стремясь вобрать весь ландшафт, весь до последней различимой детали. Апельсиновые сады тянулись внизу сизыми кучевыми рощами по обеим сторонам петлистой грунтовой дороги. В них на ветках под густой листвой висели закатные солнца: срываешь один плод, разламываешь, выжимаешь в подставленные губы, на пробу, утираешься от сока, идешь дальше, от дерева к дереву, выбирая. Лиза, носясь под деревьями, заигрывается с собаками сторожа, берет на себя их внимание. Черные дрозды с желтыми клювами, оглушительно распевая, перелетают, перепрыгивают от куста к кусту в сухой блестящей траве. В ней я однажды наткнулся на огромную черепаху. Размером с пятилитровую кастрюлю, черепаха обнаружила на своем панцире несколько вырезанных и расплывшихся по мере роста букв.
Обрывки писем содержали, кроме личных признаний, призывы приехать. Женский почерк (более мелкий, округлый и тщательный) отказывался ехать в небезопасную Палестину и призывал адресата приехать на Новый год самому. Письма было стыдно читать. Сейчас мне скорее непонятно, почему я решил оставить их на том же самом месте (ясное дело, стыд, вызванный осознанием подглядывания, должен был загаситься исследовательским интересом), чем то, каким образом они там сохранились, в развалинах под открытым небом… Мужской почерк (раздельные прямые высокие буквы) в подробностях излагал, как происходит сбор урожая, какие деревья насаждаются в низинных местах города, как возделываются плантации, какие сельскохозяйственные машины планируется в будущем году купить, а какие придется взять в аренду. Женский почерк сообщал, кто присутствовал на похоронах дедушки, как были обставлены поминки…
Там, в окрестностях Реховота, на взгорье, я мог несколько часов просидеть на возвышенном месте – перед ландшафтом заката. Что думал при этом, я никогда выразить не мог. Кажется, тогда происходило рождение нового стремления, нового движителя. Однажды это совместилось с чтением.
Мне было двадцать лет, на коленях у меня лежал «Улисс», я курил сигареты “Nobless”, и занимала меня только одна серьезная мысль: каким образом в главе «Навсикая», изобразительный ряд которой в первой половине текста остается принципиально черно-белым, во второй половине вдруг необъяснимым образом вспыхивает всеми оттенками радуги? Задумавшись и не найдя ни единого прилагательного, ответственного за это преображение, я стал перелистывать страницы и наткнулся вот на что:
He walked back along Dorset street, reading gravely. Agendath Netaim: planter’s company. To purchase vast sandy tracts from Turkish government and plant with eucalyptus trees. Excellent for shade, fuel and construction. Orangegroves and immense melonfields north of Jaffa. Yo u pay egity marks and they plant a dunam of land for you with olives, oranges, almonds or citrons. Olives cheaper: oranges need artificial irrigation. Every year you get a sending of the crop. Your name entered for life as owner in the book of the union. Can pay ten down and the balance in yearly installments. Bleibtreustrasse 34, Berlin, W. 15[9]9
Он зашагал обратно по Дорсет-стрит, углубившись в чтение. Агендат Нетаим – товарищество плантаторов. Приобрести у турецкого правительства большие песчаные участки и засадить эвкалиптовыми деревьями. Дают отличную тень, топливо и строительный материал. Апельсиновые плантации и необъятные дынные бахчи к северу от Яффо. Вы платите восемьдесят марок, и для вас засаживают дунам земли маслинами, апельсинами, миндалем или лимонами. Маслины дешевле: для апельсинов нужно искусственное орошение. Ежегодно вам высылаются образцы урожая. Вас вносят в книги товарищества в качестве пожизненного владельца. Можете уплатить наличными десять, потом годичные взносы. Берлин, W. 15, Бляйбтройштрассе, 34 (перевод с английского В.А.Хинкиса и С.С.Хоружего).
[Закрыть].
Все это означало только одно: несколько дней назад, в развалинах, я читал письма Блума, обращенные к Мэрион. И если бы не стояло после этого абзаца “Nothing doing. Still an idea behind it”[10]10
Не выйдет. Но что-то есть в этом (англ.).
[Закрыть], я бы и вправду принял бы все это за чистую монету.
Вниз с Масады
Дорожные воспоминания, как правило, вызываются дорогой, вот и недавно в заснеженных дебрях Калужской области – наверное, внутренне борясь с морозной тьмой, – я вдруг вспомнил, как мой приятель в 1991 году два семестра копил деньги на велосипед, в апреле купил его и в первые же выходные отправился из Реховота в Иерусалим.
К концу дня он выдохся на горных подступах к Святому городу и пристегнул своего ослика на замочек на первой встретившейся автобусной остановке. Сел на автобус и весело заночевал у друзей.
Утром он рассчитывал с новыми силами вертеть педалями, теперь под горку. Но не вышло: он нашел свой велосипед разбитым в пух и прах – уж не знаю, чем его саперы подрывали.
Димка восклицал: «Ты представляешь, ни спицы, ни покрышки!..»
Слово за слово, и дальше припомнилось, как поначалу в ту зиму я был прикован к закату – не мог оторваться от него, вечерами путешествуя в облаках солнечного света, и на выходных никуда не ездил, оставаясь в Реховоте и в его окрестностях. Только с начала апреля я стал постигать одиннадцать климатических зон Святой земли.
В поездках в Негев, куда зачастил к родственникам, я постепенно смирился с монотонностью полупустынного пейзажа, до которого субтропические пейзажи нисходили, перелистываясь поворотами за широким панорамным окном «мерседеса»… Как вдруг мы сбили верблюда. Это было уже в темноте, и удар был страшен, будто по коробку с жуком (мною) внутри со всей силы щелкнули пальцем.
«Наше счастье, что мы в автобусе. Самое страшное для водителя легковой машины – это сбить верблюда, – объяснил мне сосед. – Капот подсекает ему ноги, и вся масса костей влетает в салон», – нервно хохотнул он, когда мы снова, после приезда полицейских, тронулись в путь.
Следующий раз на дороге, где верблюды охотятся на автомобилистов, я оказался пешком.
Идея была простой и смелой: отправиться с иерусалимской автостанции пешком в сторону Мертвого моря и пройти вдоль всего его берега с севера на юг.
Хоть это и было другое направление, но вид дорога поначалу имела тот же: бедуинские верблюды горбами подражали холмам, показываясь на их вершинах, иногда вместе с хозяином или хозяйкой – холмистый плоско-черный силуэт и столбец человеческой фигуры против солнца.
Погода стояла пасмурная, но теплая; верблюжьего цвета ландшафт развертывался обрывисто – дорога все более углублялась в ущелистое ложе.
Шли мы довольно бодро, при приближении каждой следующей машины, прежде чем поднять руку, всматривались в номерной знак: если желтый или черный (наши!) – мы поднимали руку, если зеленый (а шли мы по восточным окраинам города), гордо отворачивались. Практически все водители-арабы считали своим долгом притормозить и шумно предложить свои услуги, которые мы вежливо отвергали.
На одном из перекрестков, заваленном пылевыми облаками, мы долго простояли на автобусной остановке, соревнуясь с солдатами. Водители, разумеется, чаще, чем нас, изъявляли желание подвезти служивых. Я не терял времени даром и разглядывал старика-бедуина вместе со стоявшим подле длинномордым осликом, груженным горой сена. Старик кого-то ждал, и сморщенное его лицо в женственном обрамлении куфии не выражало ничего, кроме смиренного ожидания.
Через десяток километров нас согласились подбросить парни на пикапе, везшие обратно в кибуц нераспроданные остатки овощей, с которыми мы вскоре и перемешались в кузове. Мы уже были близко от Мертвого моря, и дорога решительно шла под уклон, долго и устрашающе спускаясь в самую глубокую на планете ложбину. От быстрого спуска у меня заложило уши, как при посадке в самолете.
На самом берегу мы оказались уже в абсолютной темноте. Близость моря обнаружилась по запаху. У каждого моря свой запах, обусловленный специфическим составом солей. Черное море пахнет белесой солью, оно сносно на вкус. Каспийское море, хоть и более пресное, пахнет крепким сульфатом и йодом – и непереносимо горькое во рту. Мертвое море пахнет Мертвым морем. Лизнуть его капли я так и не решился.
Мы пошли живее, время от времени оборачиваясь на хлещущие по шоссе фары и поднимая им навстречу руки.
Вдруг из-за поворота взметнулся плотный конус света. Он то медленно прощупывал маслянистую поверхность моря, то поднимался вверх, серебристым тоннелем добивая до противоположного берега и облаков.
Мы были не в силах вообразить, что происходит. Вскоре обнаружилось, что световой конус раздается от диска прожектора, установленного на бронетранспортере. Машина двигалась медленно и упорно, толкая перед собой массу света.
Пограничники отнеслись к нам дружелюбно, но удивленно. Их командир связался по рации с патрульной машиной. Скоро примчался джип с мелкой сеткой вместо стекол, из него выскочили два солдата. Они составили в два яруса ящики на заднем сиденье и усадили нас на освободившееся место. Водитель оказался эфиопом, и – пока не заговорил, обнажив белые зубы, – в темноте мерещилось, что он без головы.
Нас забросили наверх к Кумрану, к месту, о котором я знал немногое, в частности, что здесь в начале эры жила ессейская община.
Место для ночлега мы выбирали на ощупь и решили заснуть не на автобусной остановке… а в раскопе. Побродив в руинах, освещая себе путь с помощью зажигалки, мы перешагнули через оградку – музейную цепь, обернутую в бархат, – и разложили карематы. Защищенные остатками стен, мы легко перекусили и попробовали заснуть. Удалось нам это не сразу – лишь когда с западных склонов задул бриз, отогнавший комаров, очевидно, плодившихся внизу в сырых плавнях. Мой друг рассказал мне на ночь историю археологического открытия Кумрана – историю о бедуинской козе и мальчике, нашедшем ее в пещере, где обнаружились сосуды со священными свитками… Тем скорей нам хотелось заснуть, чтобы утром обозреть это удивительное место.
Всегда интересно проснуться в том месте, где накануне оказался в потемках. Но то, что я увидел на рассвете в Кумране, – поразило. Высокий иорданский берег и каменистые холмы, уходящие на юго-запад, составили невиданный пейзаж. Ущелистый ландшафт вероятного места Армагеддона предстал перед нами северным своим окончанием. По мере продвижения на юг пейзаж становился все более неземным.
На юг мы тронулись сначала пешком, затем вскоре нас подобрала машина бородатых швейцарцев – они работали в некоей фирме, занимавшейся геологоразведкой – поисками воды в районе Мертвого моря. Швейцарцы поставляли специальное оборудование для глубинного бурения. Части этого оборудования лежали здесь же в фургоне.
Высадили нас в Эйн-Геди, где мы искупались, с оторопью заходя в маслянисто-ртутные волны, рассмотрели пестрые компании отдыхающих на берегу и отправились в заповедник, где полазили по горам, изучили руины древней обители и с удивлением обнаружили на склонах горных козлов и даманов, реликтовых травоядных животных, похожих на сусликов, ближайших родственников слонов.
После небольшого забега вверх к водопаду Давида, проваливаясь иногда по пояс в теплые лужи, которыми было полно частично пересохшее ложе реки, уже в темноте мы оказались у подножия Масады. На этот раз мы не экспериментировали, а заснули непосредственно на автобусной остановке. Время от времени мы просыпались оттого, что устроившаяся у костра неподалеку от нас молодежная компания на иврите пела песни под гитару, среди которых я по мелодии узнал «Темную ночь». Главное приключение нас ждало утром.
На Масаду есть два пути: пешком по серпантинной тропке и на фуникулере. До начала работы музея вход бесплатный – из того расчета, что на выходе все предъявляют билетики и те, у кого их нет, оплачивают по шесть шекелей на человека. Никогда еще так дорого мне не обходилась скупость! Одно оправдание: денег у нас оставалось только на автобус до Иерусалима, а нам еще предстояло добраться до Сома, и мы решили пойти в обход…
Вид с Масады пригодился бы режиссерам для съемок прилунения космического корабля. Я не знаю еще места на земле, где бы человек ощущал себя настолько вынутым из контекста пейзажа и в то же время возвеличенным им. Там, над Масадой, мне впервые пришла идея о возможной обратной связи ландшафта и человека.
Вообще, как сказал поэт, глаз – это открытая часть мозга, вынесенная на открытый воздух. Впечатленная сетчатка нема: зрение блокирует речь. Мало кто сможет признаться, что не испытывает интереса к пейзажу как к источнику красоты, величия, чувства вообще. Но еще меньше тех, кто способен ответить на вопрос: какова природа удовольствия, получаемого от такого иррационального занятия, как созерцание пейзажа. Ландшафт невозможно прочитать должным образом, не применяя естественнонаучных инструментов. Он – одна из самых интересных книг. К чтению нового ландшафта следует готовиться задолго, изучая весь ареал смыслов, в нем заложенных: культурно-исторических, геологических, географических и т. д. Только запасшись научной «партитурой», следует слушать симфонию ландшафта… Почему одушевленному взгляду свойственно необъяснимое наслаждение пейзажем? Ведь наслаждение зрительного нерва созерцанием человеческого тела вполне объяснимо простыми сущностями. В то время как в сверхъестественном для разума удовольствии от наблюдения пейзажа если что-то и понятно, так только то, что в действе этом кроется природа искусства, чей признак – бескорыстность, чья задача – взращивание строя души, развитие ее взаимностью…
С Масады мы спускались по западному склону, и спуск этот занял четыре часа. На автобусной остановке мы обнаружили, что у нас дрожат колени, а количество выпитой залпом минеральной воды превысило два литра.
По воспоминаниям о том путешествии было написано стихотворение в прозе:
Берег Мертвого моря. Мы спускаемся к югу и взбираемся на заветный пригорок, где искрящийся столб: жена Лота. Во сне говорит рабби Беньямин: «Хотя протекающие мимо стада и облизывают этот столб, но соль вновь нарастает до прежней формы». Я встаю на четвереньки, и язык мой немеет ослепительной белизной, прощеньем… И вот пробуждение. Ржавый баркас. На палубе мне надевают колпак водолаза. Поднимают лебедкой за шиворот и спускают за борт – в плавку соляных копей. Я шагаю по дну. Но на середине настает дыхание яви.
Явь настала, и вновь морозная тьма залила лобовое стекло и заелозили, сметая встречный снег, дворники, но внутренне я уже был в безопасности, ибо сильный солнечный свет, захваченный с вершины Масады, вспыхнул во мне с новой силой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































