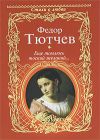Текст книги "О поэтах и поэзии. Статьи и стихи"

Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«За что? За ночь. За яркий по контрасту…»
За всё, за всё…
Лермонтов
* * *
За что? За ночь. За яркий по контрасту
С ней белый день и тополь за углом,
За холода, как помните, за астму
Военных астр, за разоренный дом.
Какой предлог! За мглу сырых лужаек,
За отучивший жаловаться нас
Свинцовый век, за четырех хозяек,
За их глаза, за то, что Бог не спас.
За всё, за всё… Друзья не виноваты,
Что выбираем их мы второпях.
За тяжких бед громовые раскаты,
За шкафчик твой, что глаженьем пропах,
За тот смешок в минуту жизни злую,
За все, чем я обманут в жизни был:
За медь дубов древесную сырую
И за листву чугунную перил.
1981
На пути к Блоку
Отношения с любимыми поэтами редко складываются ровно. Любовь к поэзии потому и любовь, что ей свойственны все превращения чувства: подъемы, спады, страстная увлеченность, охлаждение, даже разрыв. Виноваты в этом не только мы с нашей любовью к поэту, не только поэт, но и меняющееся время, оно диктует нам привязанности и увлечения.
В эти стихийно складывающиеся отношения вклиниваются юбилеи и нередко искажают реальную картину. Юбилейные круглые даты – не лучший повод к разговору о поэте. Одна волна сменяет другую, но волны эти искусственные, вроде тех, что создаются в лабораторных условиях научного института гидрологии.
Случаются, правда, и совпадения: таким мне представляется блоковский юбилей, и не столько 1980-го, сколько 1955 года, совпавший с подлинным приливом любви к поэту.
Впрочем, мне-то в восемнадцать-девятнадцать лет казалось, что один я так люблю его. Тогда и любовь оформлялась по Блоку, и прогулки по тесным улочкам Петроградской стороны: Плуталовой, Лахтинской, Гатчинской с весенними блоковскими закатами в них, и вся молодая, студенческая, с первыми филологическими интересами, едва оперившаяся жизнь, хотевшая казаться самостоятельней, взрослей, «туманней и бездонней», чем была на самом деле.
Зато как поражен я был многолюдством юбилейного вечера в Большом драматическом театре в ноябре 1955 года! Полчаса назад я не подозревал, что Блока вместе со мной любят все эти сотни молодых, пожилых и совсем старых людей. Об этой волне любви к Блоку, захлестнувшей нас в середине 50-х, потом мы прочли у Пастернака:
…Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.
(«Ветер»)
Теперь, оглядываясь назад, понимаешь: потому и завладел Блок в те годы мыслями и сердцами, что возникла в это переломное время необходимость в поэте, способном объединить людей. Интуитивно и безошибочно был сделан выбор. Через головы многих, в том числе прекрасных, в том числе и живых, был выбран поэт, помимо прочих замечательных свойств обладавший главным, безупречным, бескомпромиссным чувством ответственности, ответственности за судьбу России, за судьбу живущих в ней людей.
Чувство ответственности вовсе не означает безошибочности, абсолютного и неизменного совпадения с истиной. Одному человеку такая непогрешимость вообще не под силу. Речь идет о другом – о стремлении к правде, и ответственность представляется готовностью заплатить за каждое слово собственной жизнью.
Есть искушение назвать Блока, пользуясь выражением Баратынского, «последним поэтом», – имея в виду, что особое чувство ответственности было характерно именно для XIX века. От Гоголя, Некрасова, Тютчева (яркий пример высокой ответственности при ошибочности, а то и вздорности политических установок), от Толстого – унаследовал Блок это свойство. Все-таки, чтобы не погрешить против истины, следует заметить, что и для XIX века чувство ответственности за каждое слово не одинаково распространяется на всех больших поэтов. Я не назвал бы Фета безответственным поэтом, но и «чувством особой ответственности» его поэзию не определишь: его великие достоинства лежат в другой стороне. Да и Пушкина этой меркой не измеришь.
Невозможно представить в творчестве Блока что-либо похожее, например, на пушкинское «Подражание арабскому» или «Оду его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову».
Это чувство ответственности связано у Блока с его представлением о поэте как о человеке, вносящем в мир гармонию и отвечающем за все, происходящее в мире.
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
Образ жизни Поэта, путь Поэта, образ Поэта – все это чрезвычайно важно в поэтической системе Блока. Лирический герой – понятие спорное, пользоваться им нужно с большой осмотрительностью, к очень многим поэтам оно не имеет никакого отношения. Но лирический герой стихов Блока – понятие очевидное, обойтись без него невозможно. Это именно Герой, недаром в творчестве Блока такую большую роль играет тема рыцарского служения, битвы, борьбы: «Выходи на битву, старый рок!», «Узнаю тебя, жизнь, принимаю / И приветствую звоном щита…» и т. д.
Это неулыбчивый герой. Между тем В. П. Веригина[23]23
Веригина В. П. Воспоминания об Александре Блоке. – В сб.: Труды по русской и славянской филологии, IV. Тарту, 1961. С. 317–318.
[Закрыть] в воспоминаниях о Блоке рассказывает: «Иногда Блок дурачился до изнеможения. Волохова говорила, что ее начинала беспокоить в таких случаях напряженная атмосфера, – я не замечала этого, меня несло в веселом вихре шуток вслед за Блоком. Впрочем, некоторую чрезмерную остроту ощущала иногда и я, это бывало главным образом в разговорах о Клотильдочке и Морисе (Клотильдочка и Морис – вымышленные шуточные персонажи. – А. К.) – «Саша доходит до истерики с этими Клотильдочками», – говорила Любовь Дмитриевна».
Этот «„веселый двойник” Блока, – проницательно замечает Веригина, – ничего не хотел знать о строгом поэте с его высокой миссией. Они были раздельны».
В поэзии Блоку было не до шуток.
Гамлет, рыцарь, паладин… Лирический герой Блока и его мир подчеркнуто театрализованы. Издержки этой театрализации вызывают подчас раздражение. До нас дошел в передаче Е. Ю. Кузьминой-Караваевой отзыв Блока, впрочем не вполне достоверный, о поэзии молодой Ахматовой: «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом»[24]24
См. об этом в книге: Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975. С. 515.
[Закрыть].
В дневниках и статьях Блока содержится иная, высокая оценка Ахматовой, что, конечно, не исключает возможности критического отзыва. Важно другое. «Как бы перед мужчиной» – значит: как бы перед зеркалом. Но этот упрек можно переадресовать и самому Блоку. «Почти доходит до бровей / Моя незавитая челка» – это пустяки в сравнении с тем, что видел Блок «на глади зеркальной»: «Среди гостей ходил я в черном фраке… Я закричу, беспомощный и бледный, / Вокруг себя бесцельно оглянусь. / Потом – очнусь у двери с ручкой медной. / Увижу всех… и слабо улыбнусь».
Зеркала, залы, «черная роза в бокале», плащи (оперные), тени, бутафория, декорации. И фраки, фраки. «Спешит мертвец. На нем – изящный фрак», «Плащ распахнут, грудь бела, / Алый цвет в петлице фрака».
И еще мечи, шпаги, отравленные клинки, ножи, кинжалы… Странно, что все эти шпаги мы глотаем, не замечая их.
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце…
Какому другому поэту сошли бы такие стихи:
Все слова – как ненависти жала,
Все слова – как колющая сталь!
Ядом напоенного кинжала
Лезвие целую, глядя в даль…
(«Женщина, безумная гордячка…»)
Что за бутафорский кинжал! Что за неуклюжая инверсия! Из какого провинциального, любительского театрального обихода заимствован этот невозможный поцелуй? И стихи-то не 1898-го, а 1918 года!
Что делать? Забота о лирическом герое, персонификация, сосредоточенность на своем облике ведут к удручающей безвкусице.
«Я только рыцарь и поэт» – так начинается стихотворение «Встречной». Особенно красноречиво это «только». После такого заявления уже не удивляет никакая рисовка:
…И неужели этот сонный,
Ревнивый и смешной супруг
Шептал тебе: «Поедем, друг…»,
Тебя закутав в плэд зеленый
От зимних петербургских вьюг?
Это 1908 год. Но и в «Демоне», написанном в 1916-м, – смысл тот же:
…Дрожа от страха и бессилья,
Тогда шепнешь ты: отпусти…
И, распустив тихонько крылья,
Я улыбнусь тебе: лети.
И под божественной улыбкой
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту.
Рядом с этим высокомерием и снисходительной улыбкой такими человечными, такими настоящими кажутся стихи Фета:
…Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею.
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?
Боюсь – на бледный облик мой
Падет твой взор неблагосклонный,
И я очнусь перед тобой
Угасший вдруг и опаленный.
(«Ты вся в огнях. Твоих зарниц…»)
После этих стихов блоковский демонизм – какое падение!
Юбилей прошел, я не пишу юбилейной статьи. Гений не нуждается в славословии. Моя цель – выяснить для себя (и тем самым, может быть, и для других), в чем для нас сегодня заключается притягательность Блока. Притягательность, действующая вопреки отталкиванию. По-видимому, она – в огромной силе духа, позволившей Блоку взвалить на себя героическую роль и, несмотря на все отступления и срывы, выдержать ее до конца. Герою прощается и самолюбование, и безвкусица, и высокомерность, если он способен на подвиг. Относительно блоковского героизма сомнений нет. От первых стихотворных строк до речи «О назначении поэта» – верность свободе, поэзии, правде, России, любви. И готовность в любую минуту отдать за них жизнь.
Не для ласковых слов я выковывал дух,
Не для дружб я боролся с судьбой…
(«Ты твердишь, что я холоден, мрачен и сух…»)
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть…
(«Рожденные в года глухие…»)
Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Преисподнего огня…
(«Как свершилось, как случилось…»)
Этот уже почти нечеловеческий образ не кажется невероятным, так он похож на последние фотографии Блока, коротко подстриженного, с каким-то обгоревшим, «загорелым», как вспоминают современники, лицом. Этот образ бросает отсвет в прошлое, на все предыдущие роли – и оправдывает их.
И становится ясно, что лирический герой, лирическая маска редко так точно, почти не оставляя зазора, накладываются на реальное лицо поэта.
Современников Бенедиктова, настроенных его поэзией на высокий романтический лад, поражало несоответствие его чиновничьей, заурядной человеческой сущности и внешности – титаническому образу героя его поэзии.
Точно так же разочаровывал своих почитателей Северянин. Разочарование начиналось чуть ли не с жилья поэта. Об этом остроумно рассказал Б. Лившиц: «Северянин жил на Средней Подьяческой, в одном из домов, пользовавшихся нелестною славой. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин… Нужна была поистине безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных “озерзамков” и “шалэ”…»[25]25
Лившиц Бенедикт. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 195–196.
[Закрыть]
Да и Брюсова, примерявшего самые разные платья, в том числе – мага, жреца, представителя демонических, сатанинских сил и т. д., подводил рационалистический склад характера, не литературная, а какая-то купеческая расчетливость и мелочность, что и позволило футуристам в одной из деклараций обратиться к нему с издевательским призывом: «Брось, Вася, это тебе не пробка!» – «намек на принадлежавший Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший пробковый завод»[26]26
Лившиц Бенедикт. Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 198–199.
[Закрыть].
Театрализация, конструирование в стихах своего образа, всяческая забота о своем «лице» ведут к почти неизбежным провалам, дурновкусию, потаканию ожиданиям публики. Поэт становится рабом своей выдумки. «Блок – самая большая лирическая тема Блока», – писал Тынянов[27]27
Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 118.
[Закрыть].
Какой же подлинностью чувств и мыслей надо обладать, какой настоящей трагедией должна дышать каждая строка, чтобы выйти победителем из этого поединка! А в победе Блока сомнений не возникает.
Поэтам, обходящимся без лирического героя или редко прибегающим к нему, удается сохранить больше творческих, нервных и физических сил. Не то что они не вкладывают себя в свои стихи, но их отношения с миром более гармоничны, им свойственен объективный взгляд на вещи и значительная душевная прочность. Несмотря на невзгоды, а то и трагические обстоятельства жизни, им, как правило, дано долголетие: Державин, Жуковский, Тютчев, Фет, Ахматова, Пастернак, Заболоцкий… Может быть, и Пушкин, не погибни он на дуэли.
Поэты этого склада, влюбленные в мир и сохраняющие к нему объективное отношение, при всем своем глубочайшем проникновении в жизнь, не теряют особой, чувственной влюбленности в прелестную, матерьяльную жизненную поверхность, «покров, накинутый над бездной». Здесь они смыкаются с великими живописцами, не случайно доживающими, в большинстве своем, до глубокой старости.
Другое дело – поэты, заполняющие собой каждое свое стихотворение. Маяковский, Цветаева, Есенин. Сюда же, по-видимому, следует отнести Лермонтова.
Но Блок – может быть, самый яркий пример такого самосгорания. Это хорошо понимали его современники. «Кто вы, Александр Александрович?.. Перед гибелью, перед смертью, Россия сосредоточила на вас все свои самые страшные лучи, – и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Потушить – не можем, а если и могли бы, права не имеем: таково ваше высокое избрание – гореть. Ничем, ничем помочь вам нельзя»[28]28
Кузьмина-Караваева Е. Ю. Встречи с Блоком (к пятнадцатилетию со дня смерти). – Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 209, 1968. С. 273.
[Закрыть].
Все жглось, все было раскалено: муза, Россия, любовь, «испепеляющие годы», «окно, горящее не от одной зари», и, может быть, всего сильнее – вьюга, пурга, снежное пламя. «Жизни гибельный пожар» смыкался с «мировым пожаром», воистину – бесконечный переход «от казни к казни широкой полосой огня». «Зарывшись в пепел твой горящей головой!» – какая страшная строка, голова здесь совсем как головня.
Лирическая маска Блока, его героическая роль как-то связаны с особым, только ему свойственным звучанием стиха. Как в опере каждому появлению героя на сцене предшествует музыкальная мелодия, оповещающая о его приближении, так существует особая блоковская музыка, которую мы отличим безошибочно среди любых других поэтических мелодий. Она-то и убеждает нас прежде всего, она – важнее всяких слов, хотя, казалось бы, что же в стихах может быть важнее слов? Но стиховая ткань у Блока кажется разбавленной, редкой, ее заполняют самые стертые слова, наречия и местоимения, самые употребительные глаголы да их повторы.
Сквозь серый дым от краю и до краю
Багряный свет
Зовет, зовет к неслыханному раю,
Но рая – нет.
О чем в сей мгле безумной, красно-серой,
Колокола —
О чем гласят с несбыточною верой?
Ведь мгла – все мгла.
И чем он громче спорит с мглою будней,
Сей праздный звон,
Тем кажется железней, непробудней
Мой мертвый сон.
(«Сквозь серый дым от краю и до краю…»)
Собственно словами с их подлинным весом и значением кажутся здесь лишь два слова: «железней, непробудней». Все остальное существует как будто вне слов, держится на голой мелодии. Отметим, что «железный сон» – не блоковское открытие. У Тютчева в стихотворении «Здесь, где так вяло свод небесный…» сказано: «Здесь, погрузившись в сон железный, / Усталая природа спит…» Сила блоковского уподобления – в сравнительной степени, примененной к относительному определению.
Разбавленность стиховой ткани Блока, ее провисание – не слабость, а особенность блоковского стиха. Строфы, кажущиеся «слабыми», оказываются порой сильнее самых виртуозных, изощренных стихов.
«…Для того чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать», – сказано в статье «О назначении поэта».
Блок умел это делать, но его умение никогда не бросается в глаза, убрано внутрь стиха.
…Ты будешь солнце на небо звать —
Солнце не встанет.
И крик, когда ты начнешь кричать,
Как камень, канет.
(«Голос из хора»)
В этих стихах таится скрытая перекличка с одним из самых безутешных стихотворений Баратынского. Здесь мы сталкиваемся с редчайшим случаем использования чужого текста – процитирована рифма.
…Бессмысленно глядит, как утро встанет,
Без нужды ночь сменя,
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,
Венец пустого дня!
(Баратынский. «На что вы, дни!..»)
Блок в записной книжке 1906 года дал замечательное определение своего метода: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение».
«Покрывало, растянутое на остриях нескольких слов» – это и есть разбавленная стиховая ткань, с большими промежутками между опорными словами.
Музыка любит счет, и блоковская «музыка» не составляет исключения. При всей своей загадочности и трудно поддающейся анализу специфике, она имеет свою систему, свои повторяющиеся черты и закономерности.
Тем более лирический герой блоковских стихов – осознанное создание: «Когда я создавал героя, / Кремень дробя, пласты деля…».
Такая роль, такая позиция поэта выглядит сегодня несколько старомодной. От нее ближе к Байрону и Лермонтову, чем к нам.
Куда более естественным и правдоподобным представляется нынче поэтическое сознание, отказавшееся от всякой роли. Не Поэт, не рыцарь, не паладин, не принц, не сёр, не всадник, «рыщущий на белом коне», не падший ангел, – а человек, пишущий стихи.
«Что такое поэт? – писал Блок в статье «О назначении поэта». – Человек, который пишет стихами? Нет, конечно».
Но и мы не говорим, что поэт – это человек, «который пишет стихами». Поэт – это человек, пишущий стихи, один из многих, окликнутый в толпе, «человек эпохи Москвошвея», Мандельштам, Пастернак, Заболоцкий…
«И спичка серная меня б согреть могла…», «Бывало, я, как помоложе, выйду / В проклеенном резиновом пальто»…
Не унижение, не приниженность, а сознание своей близости ко всему, происходящему с рядовым человеком, и кровной зависимости от происходящего. Нет и речи о какой-то особой выделенности и отмеченности.
Как часто приходится слушать рассуждения о судьбе поэта. Некоторые носятся со своей судьбой так, словно в ней заключен главный смысл жизни и поэзии. Ничего особенного не испытавшие мальчики прислоняются к чужой славе, эксплуатируют, например, военную тему так, словно они воевали в Отечественную и захватили каким-то образом еще Гражданскую войну. Между тем сегодняшняя жизнь проходит мимо их сознания. Соблазн ощущения своего избранничества, своей исключительности – вечный соблазн, подстерегающий поэта. Так легко и утешительно поделить мир на пишущих и непишущих, посвященных и непосвященных. Тогда и простить себе можно то, чего нельзя простить, и отказать другому в способности «мыслить и страдать» по той причине, что он об этом не пишет, а молчит. Этот обветшавший, ощущаемый сегодня чуть ли не как допотопный подход к поэзии и жизни продолжает калечить и разрушать жизнь, разъедать поэтический дар и оригинальность, толкая поэта к прямой пошлости. А судьба между тем в ее современном варианте не выделяет поэта в массе его современников, накрывает всех одинаково:
Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
– Я рожден в девяносто втором…
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.
Так писал Мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате», опаленных опытом империалистической войны, в преддверии «новых чум и боен».
Отказ от преувеличения собственной роли, отказ от всякой роли характерен и для Пастернака: «Всю жизнь я быть хотел как все…»
Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев,
Ты не осанка сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.
(«Поэзия»)
Поди выуди из стихов Заболоцкого черты самого поэта! «Я шел сквозь рощу», «И я на лестнице стою», «В моем окне на весь квартал / Обводный царствует канал», «И тогда я открыл свою книгу в большом переплете», «Я наблюдал, как речка умирала», «И я стоял у каменной глазницы», «И я ушел», «Я вышел в поле», «Но вздрогнул я и, разгибая спину, / Легко сбежал с пригорка на равнину».
Глаголы действия и состояния дают нам представление о местонахождении человека, дают возможность встать на его место и увидеть предмет под тем же ракурсом – но сам автор непременно устранен из стихотворения. Он такой же, как все. Разумеется, это прием. И разумеется, авторские черты читатель восстанавливает по иным, куда более существенным признакам: интонации, строению фразы, излюбленным сюжетам, положениям и т. д. Более того, фотографии Заболоцкого, публикуемые в его посмертных изданиях, поразительно совпадают с образом человека, писавшего эти стихи. Таким мы и представили бы его себе: человеком в круглых, бухгалтерских очках, при галстуке, сосредоточенно-серьезным, невозмутимым, изгнавшим из своего облика все поэтическое, артистическое, выделяющее из массы горожан, – таким бы и представили, если бы у нас возникло такое желание. Но оно и не возникло – настолько сильна антиромантическая позиция Заболоцкого, настолько убедительно и достоверно стремление поэта быть как все и говорить от нашего имени.
Включенность в общую жизнь, отказ от лирической маски, роли и театрализации кажутся наиболее продуктивным и современным отношением поэта к «пожизненности задачи», входящей «в заветы дней». Последним, на мой взгляд, выступлением, пронизанным блоковским духом, было пастернаковское стихотворение «Гамлет»: «Гул затих. Я вышел на подмостки…» Как тут не отметить, что этот выход на сцену под пристальные «тысячи биноклей на оси» был осознан Пастернаком как горчайшая необходимость. Ничего общего с эстрадным витийством, телевизионными «шоу» и выставлением своей персоны напоказ многомиллионному «зрителю поэзии» это не имеет.
И неслучайным представляется отсутствие в сегодняшней поэзии поэта, – наследника Блока. Вычитывать в творчестве современных поэтов особую судьбу и биографические подробности, признать за кем-либо право на исключительную роль – у читателя нет ни желания, ни достаточно убедительных поводов.
Поэтический дар – бесценный дар. Но кроме него есть на свете и другие бесценные дары: музыка, живопись, доброта, человечность, любовь, чувство справедливости. Медицинская сестра, облегчающая страдания людям в больничной палате, на невидимых миру весах перевесит поэта.
Пушкин уподобил поэту эхо. Поэт – это тот, кто, как эхо, откликается на лучшие? – нет, на все проявления человеческого духа вокруг себя: «Ревет ли зверь в лесу глухом, / Трубит ли рог, гремит ли гром, / Поет ли дева за холмом…»
Поэт – это тот, кто разделяет жизнь, судьбу и ответственность с людьми, живущими рядом, находя для мыслей и чувств лучшее выражение.
Но иногда… иногда возникает смутное желание услышать с книжной страницы иной голос, героический и бескомпромиссный, голос, способный увлечь за собой, взять на себя всю полноту ответственности. Должен быть поэт, готовый протянуть руку, сказать:
Как страшно все! Как дико! – Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.
(«Миры летят. Года летят. Пустая…»)
Не исключено, что он появится, – не сегодня, не завтра… Когда? Нам не дано это знать. Вот тогда и возникнет новый, не юбилейный прилив любви к блоковской поэзии.
Любовь к поэзии – это любовь. Ее невозможно ни навязать, ни испытывать по принуждению. Да поэзия и не нуждается в притворстве. Поэты, в том числе и великие, время от времени удаляются от нас на какие-то максимальные расстояния, с тем чтобы затем вернуться.
Как в космологии, в науке, изучающей поэзию, могли бы, наверное, существовать методы, позволяющие с большой точностью предсказывать периоды сближений и затмений.
Блок, мне кажется, занимает сегодня не самую близкую точку на пути своего сближения с нами. Но движется к нам. Нет, не он, конечно, движется к нам, это мы, возможно, приближаемся к нему.
А до тех пор что же остается для нас от Блока? Нет, не весь его мир, и не всё в его облике… Остаются стихи, не все стихи… Скажем, стихотворений пятьдесят: «Приближается звук…», «Шаги командора», «Превратила все в шутку сначала…», «Река раскинулась…», «Выхожу я в путь, открытый взорам…», «Есть минуты, когда не тревожит…», «За горами, лесами…», «Голос из хора», «Последнее напутствие»…
У каждого из нас – свой список, хотя ядро его, по-видимому, совпадает для всех. Пятьдесят или шестьдесят гениальных стихотворений – это так много, такой баснословный подарок, что желать большего – значит проявить нетерпение и непонимание объективных законов, которым подчинена жизнь, а с нею вместе – и поэзия.
1980
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?