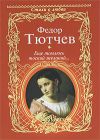Текст книги "О поэтах и поэзии. Статьи и стихи"

Автор книги: Александр Кушнер
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вместо статьи о Вяземском
Я написать о Вяземском хотел,
Как мрачно исподлобья он глядел,
Точнее, о его последнем цикле.
Он жить устал, он прозябать хотел.
Друзья уснули, он осиротел:
Те умерли вдали, а те погибли.
С утра надев свой клетчатый халат,
Сидел он в кресле, рифмы невпопад
Дразнить его под занавес являлись.
Он видел: смерть откладывает срок.
Вздыхал над ним злопамятливый бог,
И музы, приходя, его боялись.
Я написать о Вяземском хотел,
О том, как в старом кресле он сидел
Без сил, задув свечу, на пару с нею.
Какие тени в складках залегли,
Каким поэтом мы пренебрегли,
Забыв его, но чувствую: мрачнею.
В стихах своих он сам к себе жесток,
Сочувствия не ищет, как листок,
Что корчится под снегом, леденея.
Я написать о Вяземском хотел,
Еще не начал, тут же охладел,
Не к Вяземскому, а к самой затее.
Он сам себе забвенье предсказал,
И кажется, что зла себе желал
И медленно сживал себя со свету
В такую тьму, где слова не прочесть.
И шепчет мне: оставим все как есть.
Оставим все как есть: как будто нету.
1970
О Некрасове
Некрасовская тема ушла. Должна бы, кажется, произойти катастрофа. Та самая, которую предсказывал Некрасов: «Прости меня, страна моя родная: бесплоден труд, напрасен голос мой!» Между тем поэзия Некрасова ощущается нами как живое, насущное явление. Причин для этого много. И может быть, главная – высота нравственного примера. Темы, как бы значительны они ни были, устаревают, отменяются. Но нравственные критерии, и прежде всего сострадание к чужим несчастьям, – остаются.
Если позволительно ввести в поэзию понятие тяжести, Некрасов – поэт тяжелый. Удельный вес его трехдольника – в самом низу шкалы.
Сказать, что весь Некрасов мне одинаково дорог и необходим, было бы преувеличением. Любовь к поэту, по-видимому, определяется потребностью в перечитывании его стихотворений. Пушкина хочется читать всегда и с любой страницы, открытой наугад. У Некрасова особенно дороги несколько стихотворений, прежде всего «Рыцарь на час», «В деревне», «Песня убогого странника» из «Коробейников», обе части стихов «О погоде», «Балет», «Мороз, Красный нос».
В русской поэзии голос Некрасова, некрасовский «звук» мне напоминает звук басовой струны, и я сравнительно недавно научился ценить это звучание. Так, я открыл для себя великолепные стихи «О письма женщины, нам милой!» с их горьким советом не перечитывать старые письма: «А то нет хуже наказанья, как задним горевать числом». Вообще поразительна некрасовская угрюмость, жесткость, какая-то неуклюжесть и стремление к нагой правде, как бы она ни была сурова:
Начнешь с усмешкою ленивой,
Как бред невинный и пустой,
А кончишь злобою ревнивой
Или мучительной тоской…
Эта некрасовская бескомпромиссность и определенность связаны с пренебрежением к поэтическим условностям. В том же стихотворении Некрасов не боится употребить прозаическое, неслыханное в поэзии слово «портфель», как будто речь идет не о женских письмах, но о журнальных рукописях: «О ты, чьих писем много, много в моем портфеле берегу!»
Еще удивительнее в этом смысле гениальные стихи «Слезы и нервы»: «Кто ей теперь флакон подносит, застигнут сценой роковой? Кто у нее прощенья просит, вины не зная за собой?..» Любовная лирика Некрасова, построенная на поразительной точности в передаче психологического портрета русского разночинца, втягивает в себя также замечательный бытовой, предметный материал, вплоть до посещения с любимой французской лавки:
Кто говорит: «прекрасны оба» —
На нежный спрос: «который взять?» —
Меж тем как закипает злоба,
И к черту хочется послать
Француженку с нахальным носом,
С ее коварным: «С'еst joli!»
И даже милую с вопросом…
Кто молча достает рубли,
Спеша скорей покончить муку
И, увидав себя в трюмо,
В лице своем читает скуку
И рабства темное клеймо?..
Все это представляется мне поэтическим бесстрашием Некрасова.
Некрасов исключительно строг к себе. Трудно найти другого поэта, который с такой беспощадностью изображал бы в стихах самого себя: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей…»; свой день: «Я проснулся ребенка слабей. Знаю: день проваляюсь уныло, ночью буду микстуру глотать…»; свои пороки: «Друзья мои, картежники! для вас придумано сравненье на досуге…»; свой характер: «Мне совестно признаться: я томлюсь, читатель мой, мучительным недугом… Недуг не нов (но сила вся в размере), его зовут уныньем…»; свои заблуждения, ошибки, неверные шаги: «Зато кричат безличные: ликуем! спеша в объятья к новому рабу и пригвождая жирным поцелуем несчастного к позорному столбу…» Некрасов не щадит даже своей внешности: «Итак, любуйся, я плешив, я бледен, нервен, я чуть жив…»; он подсмеивается над собой вместе с крестьянскими детьми: «Такому-то гусю уж что за охота! Лежал бы себе на печи!»
Этот трезвый и саркастический взгляд на себя со стороны, эта способность явиться на глаза читателю в неприукрашенном и нелестном виде, этот строжайший суд над собой, наверное, и есть составная часть того, что мы определили словом совесть. Все это делает честь Некрасову-поэту. Мне кажется, самолюбование в стихах, некоторая доля рисовки, приписывание себе всяческих достоинств и боязнь предстать перед читателем в своем подлинном, не всегда героическом облике – одна из досадных и неизвинительных наших слабостей. Надо сказать, что и редакторы часто поощряют нас в этом, не одобряя наших робких попыток сказать о себе нечто, принижающее нас. Им тоже нравится, когда поэт выглядит в стихах молодцом. Между тем в школе Некрасова мы могли бы научиться настоящему мужеству, поэтической и человеческой смелости.
Вообще способность смотреть в глаза ужасу – одно из главных свойств Некрасова. Не знаю ничего страшней и неистовей его стихов о лошади, избиваемой человеком. Кажется, сказав о погонщике, схватившем полено («показалось кнута ему мало»), можно остановиться, – нет, Некрасов не пропустит ни одной страшной подробности: ни того, что лошадь уже бьют по «плачущим, кротким глазам», ни ее полосатых от кнута боков, ни «нервически скорого» шага. «А погонщик недаром трудился – наконец-таки толку добился!..» Некрасов не жалеет нас, и, может быть, в этой безудержности, нежелании считаться с нашими душевными возможностями – главная доблесть и сила этих и других его лучших стихов. Недаром Некрасов в этих стихах опережает прозу Достоевского, кошмарный сон Раскольникова. Впрочем, представление о поэзии как о царстве сплошной гармонии и красоты вообще вряд ли справедливо.
Тем, кто любит поговорить, например, о пушкинской соразмерности и гармоническом равновесии его сознания, советую перечесть стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий…» с ужасным, нечеловеческим описанием орудий пыток, скорченных на кольях мертвецов, котлов с остывшей смолой, с грудами пепла, разрубленными трупами. Что это? Восторг вдохновения, не останавливающийся ни перед чем? Гениальность, не знающая страха и запретов? И уж не сам ли Пушкин – тот «кромешник удалой», способный проскакать под виселицей? «Борзый конь» не решается, упирается, рвется назад, а всаднику все нипочем: «“Мой борзый конь, мой конь удалый, несись, лети!..” И конь усталый в столбы под трупом проскакал».
Этой безоглядной смелости, понимаемой широко, этой способности идти до конца в выявлении сути вещей учит нас подлинная поэзия.
Некрасов весь как будто создан в опровержение представлений о нормах и правилах поэзии, даже почти бесспорных. «Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Но, странное дело, именно суета притягивает нас в некоторых стихах Некрасова. Некрасов настаивает на своей фельетонности, злободневности, «невысокости» по сравнению с другими поэтами. От рассказа Миная, рассыльного, трудно оторваться:
Знал Булгарина, Греча, Сенковского,
У Воейкова долго служил…
. . . . . . . . . . . . . .
Походил я к Василью Андреичу,
Да гроша от него не видал,
Не чета Александру Сергеичу, —
Тот частенько на водку давал.
Курьезное перечисление оборачивается трагедией:
Да зато попрекал все цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
Убирайся, мол, ты!
Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
– Это кровь, говорит, проливается,
Кровь моя, – ты дурак!..
Вижу, что сбиваюсь на откровенное и безудержное цитирование. Объясняется это просто: Некрасов для меня поэт «неосвоенный», зато на каждом шагу ждут открытия. И кроме того, в душе живет радостное предчувствие, что настоящее понимание Некрасова – для меня впереди.
1971
«Слово нервный сравнительно поздно…»
* * *
Слово «нервный» сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре —
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его желчном трехсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счет от модистки, и слезы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти неврозы
Объясняются болью за всех,
Переломным сознаньем и бытом.
Эту нервность, и бледность, и пыл,
Что неведомы сильным и сытым,
Позже в женщинах Чехов ценил,
Меж двух зол это зло выбирая,
Если помните… ветер в полях,
Коврин, Таня, в саду дымовая
Горечь, слезы и черный монах.
А теперь и представить не в силах
Ровной жизни и мирной любви.
Что однажды блеснуло в чернилах,
То навеки осталось в крови.
Всех еще мы не знаем резервов,
Что еще обнаружат, бог весть,
Но спроси нас:
– Нельзя ли без нервов?
– Как без нервов, когда они есть!
Наши ссоры. Проклятые тряпки.
Сколько денег в июне ушло!
– Ты припомнил бы мне еще тапки.
– Ведь девятое только число…
Это жизнь? Между прочим, и это.
И не самое худшее в ней.
Это жизнь, это душное лето,
Это шорох густых тополей,
Это гулкое хлопанье двери.
Это счастья неприбранный вид,
Это, кроме высоких материй,
То, что мучает всех и роднит.
1976
Книга стихов
Книга стихов. Привыкнув к этому словосочетанию, мы не всегда отдаем себе отчет в том, что это понятие утвердилось сравнительно недавно. В первой половине прошлого века в России[4]4
На Западе оформление поэтической книги как некоего обдуманного построения произошло раньше. «Книга песен» Гейне, создававшаяся в 20-е годы, – своеобразный роман, составленный из лирических стихотворений. Определенным единством содержания обладают стихотворные книги В. Гюго, в частности «Осенние листья» (1831) и «Песни сумерек» (1835).
[Закрыть] большую часть поэтических книг, наверное, следует называть не книгами, а сборниками или собраниями стихотворений. Стихи или размещались по жанровым группам (элегии, послания, анакреонтика и т. д.), или печатались в хронологическом порядке с указанием даты написания стихотворения, или представляли собой случайное собрание не связанных даже хронологией стихотворений.
«Сочинения», «Стихотворения», «Повести и мелкие стихотворения» – так назывались сборники стихов Пушкина и его старших и младших современников. «Опыты в стихах и прозе Константина Батюшкова» – также собрание разрозненных вещей. Тютчев вообще не занимался изданием своих книг, и даже при жизни автора они выходили без его участия.
Впрочем, можно предположить, что в последние годы жизни у Пушкина возникла мысль о новом объединении стихотворений в книгу стихов. Это оказывалось возможным ввиду большей близости стихотворений друг к другу, их внутреннего родства, возможности сцеплений между ними. Есть в рукописях указание на следы такой работы: готовя в это время к печати свои стихи, Пушкин пронумеровал некоторые из них, например «Из Пиндемонти» – номер VIII, «Отцы пустынники и жены непорочны» – номер IV.
Хочу быть правильно понятым. Разговор о книге стихов вовсе не означает пренебрежительного отношения к отдельному стихотворению: этого еще не хватало! Речь идет о другом: о том, что такое поэтическая книга. Ее роль все заметнее в литературном процессе.
Одну из первых книг стихов в сегодняшнем ее понимании создал Баратынский. В 1842 году в Москве в типографии при Императорской Медико-хирургической академии была издана в сероватой бумажной обложке тонкая, похожая на брошюру (не собрание стихотворений! не поэтический сборник!) книга «Сумерки» с подзаголовком «Сочинение Евгения Боратынского». В ней всего 26 стихотворений, написанных в 1834–1842 годах и составляющих стройное единство.
И. Семенко в статье о Баратынском сделала интересное наблюдение: «Среди своих современников Баратынский уже в молодости выделялся большим вниманием к вопросам “конструкции”, структуры, образа, чем к вопросам поэтической лексики… В стихах Баратынского всегда исключительно весома их композиция».
Внимание Баратынского к композиции, конструкции проявляется не только в стихах, но и в его книгах. Вообще конструктивный дар Баратынского сказывался даже в быту. Достаточно вспомнить дом Баратынского в Муранове, его замечательное пространственное решение, а также мебель, выполненную по чертежам поэта.
Но, конечно, самого по себе внимания к композиции еще недостаточно для создания книги стихов.
Книгу «Сумерки» организует прежде всего ее внутренний смысл, трагическое мироощущение поэта, разлад с современностью, одиночество, подведение неутешительных итогов жизни, противостояние не только общественному злу, но и космическому мраку, «бессмысленной вечности», – обо всем этом уже много писалось в статьях о творчестве поэта. Перефразируя Баратынского, И. Семенко справедливо пишет о печати бесстрашия, лежащей на поэзии Баратынского, сумевшего «улыбнуться ужасу».
Преднамеренный, специальный подбор, продуманный порядок стихов вне зависимости от хронологии (в рамках данного периода), как можно убедиться на примере «Сумерек», очень важен. Например, «Осень», написанную в 1836–1837 годах, Баратынский помещает после стихов 1840, 1841, 1842 годов, так как «Осень» – итоговое, главное для него стихотворение. Стоящее вслед за «Осенью» «Благословен святое возвестивший!..» должно, по-видимому, оправдать автора с его безутешными выводами в глазах читателя: «…Две области – сияния и тьмы – исследовать равно стремимся мы». А заключающее всю книгу стихотворение «Рифма» утверждает спасение поэта в творчестве. Как утопающий за соломинку, Баратынский хватается за рифму, за поэтическую гармонию, которая одна приходит на помощь человеку в дисгармоническом мире: «Подобно голубю ковчега, одна ему, с родного брега, живую ветвь приносишь ты…»
Конечно, стихи, вошедшие в книгу «Сумерки», не равнозначны друг другу. Наряду с грандиозными обобщениями в гениальной «Осени», в «Последнем поэте», «Недоноске», «Рифме» есть стихи в книге, написанные по более узкому поводу. Но даже эпиграмматические стихи приобретают здесь обобщенный характер и служат скорбному пафосу «Сумерек».
Такова уж в принципе главная особенность книги лирики, что некоторые стихи с ослабленной возможностью самостоятельного существования именно в ней оказываются необходимыми и полноценно живущими. Стихи выручают друг друга, протягивают друг другу руки, перекликаются, перешептываются, образуют цепь, хоровод, который трудно разорвать. Возникает та общность, то единство, реализуется та сверхзадача, что едва просвечивала при создании каждого из стихотворений.
Это не значит, что поэт, и в том числе Баратынский, создает однородные стихи. Конечно, они отличаются одно от другого, и все-таки существуют, наверное, какие-то темы, мысли, чувства, которых поэт сознательно избегает как чуждых ему, случайных. Как часто всеядность, разностильность, необязательность разваливают поэтические книги и репутации. Не за всякой мыслью, а тем более образом следует гнаться и закреплять их в стихах. Существует интимный, глубоко личный отбор.
Характерно, что Баратынский не включил в «Сумерки» два стихотворения 1839 года. Одно из них – «Звезды»:
Мою звезду я знаю, знаю,
И мой бокал
Я наливаю, наливаю,
Как наливал…
Понятно, что эти прелестные стихи разрушили бы здание «Сумерек» («Когда ж коснутся уст прелестных уста мои, не нужно мне ни звезд небесных, ни звезд Аи!»). Их беззаботное веселье – рецидив его юношеской анакреонтики.
Зато включено в книгу стихотворение «Бокал», с тем же «Аи» и «туманом приветным», покрывшим «озябнувший кристалл». Включено потому, что «бокал уединенья» становится в ряд с другими серьезными темами его поздних стихов. Пожалуй, возникает даже ощущение чрезмерности «идейной нагрузки», которую, сказать по правде, этому бокалу трудно выдержать:
И один я пью отныне!
Не в людском шуму пророк —
В немотствующей пустыне
Обретает свет высок!
Баратынский словно подводит идейную платформу под свою слабость.
Не могло войти в «Сумерки» и другое стихотворение – «Обеды» с его изящным, но не совпадающим с принятым в книге рисунком. «Я не люблю хвастливые обеды, где сто обжор, не ведая беседы, жуют и спят. К чему такой содом?..» Эти стихи выглядели бы в «Сумерках» лишними световыми пятнами, разорвали бы их темную ткань.
С другой стороны, в книгу могли войти стихи Баратынского, написанные им после издания «Сумерек», и прежде всего «Молитва» – образец «безобразной» поэзии, могучее стихотворение «На посев леса».
Возможно и другое. Есть утешительное основание думать, что эти стихи, а также прекрасные стихи 1844 года «Люблю я вас, богини пенья…», «Когда дитя и страсти и сомненья…», «Пироскаф» вошли бы в новую книгу Баратынского, которая отличалась бы от «Сумерек» более светлым тоном.
Есть еще одна характерная особенность «Сумерек», которая делает их именно книгой стихов в отличие от сборника. В посвящении «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» Баратынский пишет: «Вам приношу я песнопенья, где отразилась жизнь моя, исполнена тоски глубокой…» Отражение жизни поэта за какой-то ограниченный промежуток времени (в данном случае с 1834-го по 1842 год), слепок с его мыслей и чувств, со всего пережитого им за это время – вот важные особенности поэтической книги. Нарушение этого принципа, включение в книгу стихов со слишком большой временной разницей нередко разрушает ее, превращая в сборник. Впрочем, бывают замечательные исключения.
Таковы, например, книги Фета, где стихи распределены по пятнадцати отделам – частью тематического, частью жанрового характера. Большая часть этих отделов («Элегии и думы», «Весна», «Лето», «Снега», «Вечера и ночи», «Антологические стихотворения», «Море» и др.) имеется уже в издании 1850 года и сохранена в последующих, где новые стихотворения распределялись между прежними отделами.
Своеобразное построение книг Фета, позволявшее ему помещать рядом стихи с разницей в написании в тридцать лет и больше, очень многое объясняет в его творчестве. Вряд ли этот принцип удовлетворит еще какого-нибудь поэта. Кажется, Фет всю жизнь писал некую тематическую хрестоматию, в которой, например, стихи 1854 и 1870 годов оказывались рядом потому, что одно было им названо «Буря», а другое – «После бури».
Есть поэты, напоминающие в своем стремительном движении многоступенчатую ракету. Творчество Фета похоже на куст, на котором из года в год, к нашей радости, расцветают все те же цветы. Такое поэтическое постоянство имеет свои преимущества. Поэт и в семьдесят лет мог напечатать стихотворение «На качелях», по поводу которого в письме Полонскому пришлось все же давать пояснение: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь». Дивная поздняя лирика Фета могла быть им включена в соответствующий раздел, что давало поэту несомненное удобство и, возможно, развязывало ему руки, освобождая от необходимости «оправданий».
О том, что существует такая проблема, говорит, например, и позднее творчество Ахматовой. Совсем иной, последовательный принцип организации поэтических книг, располагавшихся во времени, не позволял ей отнести что-либо к прошлым временам. Возникала необходимость в какой-то маскировке, заштриховке некоторых признаний. Следы такой работы заметны в последних главах «Бега времени». (Смотри, например, «Полночные стихи» – семь стихотворений 1963 года, поставленных впереди книги «Нечет», относящейся в основном к более раннему периоду.) Вообще Ахматова взволнованно говорила о поэтическом бесстрашии и готовности подлинного поэта к самораскрытию. Чувствовалось, что эти ее слова были не случайными, а продуманными и выстраданными.
Один квалифицированный редактор сказал мне: «А я люблю, когда стихи в книге разбросаны как попало». Такой подход к книге стихов кажется мне сомнительным. Наверное, может возникнуть книга стихов и по такому случайному принципу, наподобие игры в лото, но и этот отказ от всякого построения, если он возможен, явится в таком случае формообразующим моментом.
Однако опыт нашей поэзии говорит скорее о другом. Возьмем ли книги С. Липкина «Очевидец» (1967), М. Петровых «Дальнее дерево» (1968), Ю. Мориц «Лоза» (1970), Г. Семенова «Сосны» (1972) с внутренне обоснованным делением их на разделы или книги В. Шефнера «Своды» (1967), Б. Ахмадулиной «Уроки музыки» (1969) с продуманным сцеплением стихотворений, – везде находим неслучайный порядок стихов. Трудно найти поэта, так настаивающего на подсознательной, неуправляемой, стихийной жизни стиха, как Пастернак. Тем отчетливей проступает его уникальное отношение к порядку стихов, к их организации в книгу.
«Сестра моя – жизнь», разбитая на главки, с подзаголовками и послесловием, – пример такой последовательной и сосредоточенной работы.
И в своих письмах, высказывая отношение к чужому поэтическому труду, Пастернак пишет не об отдельных стихах, но о книге в целом. «Я думал, Вам будет приятно узнать, каким радостным событием была для меня Ваша книга…» Здесь же мимоходом сформулирована главная задача поэтической книги: «Способность Ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась». Эту способность своих книг сама Ахматова сознавала лучше, чем кто-либо другой. Недаром последнее прижизненное издание названо «Бег времени».
Время – главный герой лирических книг – просвечивает сквозь любой сюжет, «выглядывает» из всех подробностей и деталей.
Например, в «Юрге», в «Стихах о Кахетии» и других книгах Николая Тихонова, организованных как лирический путевой дневник, русская поэзия расширила свой кругозор, свою географию. И все-таки не пространство, а скорее время, «переодетое» в пространство, составляет их основу. Не ориентальный узор, а эпоха преобразования старого уклада жизни – их суть.
Книга лирики, оформленная как путевой дневник, имеет смысл лишь тогда, когда лирическая мысль не подменена в ней готовой экзотикой или туристским маршрутом. Уже во «Фракийских элегиях» В. Теплякова, одном из первых в русской поэзии опытов такого дневника, путевые зарисовки сцеплены размышлениями о гибели цивилизации и судьбе мировой культуры. Объединяет их также образ автора – странника, гонимого судьбой[5]5
Цикл «Фракийские элегии» вошел в сборник Теплякова в 1832 году. Элегии вместе с книгой прозаических очерков «Письма из Болгарии» созданы на основе впечатлений от командировки с археологическими целями в Варну и соседние с ней области, отвоеванные Россией у Турции. «Фракийские элегии» вызвали сочувственный отзыв Пушкина, отметившего «самобытный талант» Теплякова.
[Закрыть].
«Счастливые часов не наблюдают». Поэты – не из этих «счастливцев». Время оседает не только в содержании, но и в лексике, синтаксисе, поэтической структуре стихотворения. Достаточно двух-трех стихотворных строк, чтобы определить время создания произведения. Раскованная, приподнятая интонация, обращение «милые» – весь лексический материал указывает, например, точное время в стихах: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
Замечательные образцы построения поэтических книг оставил Блок, для которого отдельное стихотворение, вне связи с целым, вообще не существовало. Д. Максимов, анализируя стихотворение Блока «Двойник», пишет: «При чтении этого стихотворения… возникает, как и при всяком соприкосновении с блоковским текстом, ощущение беспримерной смысловой спаянности этой малой частицы поэтического мира Блока со всей его поэзией… Все стихи Блока крепко связаны, как бы сложены в одно произведение…» Не этим ли объясняется сравнительно большое в его наследии количество относительно слабых (для Блока!) стихов? Целые книги, например «Снежная маска», слипаются в один ком, и автор, сознавая это, называет в рукописи «Снежную маску» «лирической поэмой». С этим связано тяготение стихотворений Блока к циклизации.
Насколько сознательно сам Блок относился к этому качеству своей поэзии и к созданию своих книг, говорит его «Предисловие к “Собранию стихотворений” 1911 года»: «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое стихотворение необходимо для образования главы; из нескольких глав составляется книга; каждая книга есть часть трилогии; всю трилогию я могу назвать “романом в стихах”: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение двенадцати лет сознательной жизни». Не объясняется ли, между прочим, невозможность для Блока закончить поэму «Возмездие» именно тем, что она дублировала этот «роман в стихах»? Иначе говоря, не продемонстрирована ли в творчестве Блока победа книги стихов над жанром большой поэмы?
Интересна история создания книги И. Анненского «Кипарисовый ларец», изданной посмертно Валентином Кривичем. В воспоминаниях об отце Кривич рассказывает: «Вчерне книга стихов эта планировалась уже не раз, но окончательное конструирование сборника все как-то затягивалось. В тот вечер, вернувшись из Петербурга пораньше, я собрался вплотную заняться книгой. Некоторые стихи надо было заново переписать, некоторые сверить, кое-что перераспределить, на этот счет мы говорили с отцом много, и я имел все нужные указания…»[6]6
Кривич В. Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам. – Литературная мысль. Л., 1925, кн. III. С. 208.
[Закрыть]
В свидетельстве Кривича как раз интересно сообщение о «конструировании» книги, о «перераспределении стихов». В самом деле, Анненскому пришлось, по-видимому, основательно потрудиться, чтобы распределить стихи в книге на «трилистники» и «складни». Надо сказать, что некоторая нарочитость такого построения книги, на которую указывал еще Брюсов, очевидна. Так, в «Трилистнике осеннем» наряду со стихами «Ты опять со мной, подруга осень» и «Август» оказалось стихотворение «То было на Валлен-Коски», которое, пожалуй, с таким же основанием могло быть включено в «Трилистник одиночества», и т. д. Вообще необходимость группировки стихотворений по три очень условна и сомнительна. В то же время неправильно было бы считать это просто поэтическим капризом. Дело в том, что у И. Анненского для столь странной композиции были серьезные основания. Объясняя причудливое построение книги, Л. Гинзбург пишет: «В основе построения “Кипарисового ларца” лежит… идея сплошных соответствий, подобий, взаимной сцепленности всех вещей и явлений мира. Эту концепцию Анненский и пытался выразить внешней связью всех стихотворений»[7]7
Гинзбург Л. О лирике. М.; Л., 1964. С. 348.
[Закрыть].
Действительно, стихи Анненского связывает не лирическая стихия, а сцепления между далекими предметами, их метафорическое сопоставление с человеческой жизнью. Как пример Л. Гинзбург называет «Трилистник обреченности» со стихами «Будильник», «Стальная цикада» и «Черный силуэт». «Кипарисовый ларец, – пишет она далее, – построение полярное лирическим дневникам, движущимся сплошным потоком». К слову сказать, назвать книгу стихов лирическим дневником можно только условно, потому что, в отличие от настоящего дневника, лирический дневник – искусственное построение, не придерживающееся буквальной хронологии – непременного условия всякого дневника. «Белая стая» Ахматовой, являющаяся как будто таким дневником, представляет собой в действительности книгу, содержащую не одну, а несколько лирических повестей.
Мы и не заметили, как книга стихов стала для нас убедительным поэтическим фактом. Журнальные публикации не идут с ней в сравнение. Стихи в журнале читаются не так, как в книге, они как будто выхвачены из контекста, им чего-то не хватает. Те же самые стихи в книге прочитываются по-другому.
Книга стихов – завоевание поэзии. Книга стихов, на мой взгляд, дает возможность поэту, не обращаясь к условным персонажам, создать последовательное повествование о собственной жизни, закрепить в стихах процесс, историю развития своей души, а следовательно, и души своего современника. Книга стихов – это возможность для лирического поэта в обход большого жанра создать связный рассказ о времени. Здесь уместно еще раз вспомнить определение Блоком своей поэтической трилогии как «романа в стихах».
Книга стихов, ограниченная определенным отрезком времени, дает сконцентрированный сгусток этого времени, закрепляет его суть. При этом не обязательно сам поэт выступает в качестве героя книги. Есть поэты, как бы уходящие за кулисы, но оставляющие на сцене время и свои мысли о нем. Таковы, например, «Столбцы» и «Вторая книга» Заболоцкого.
Но не только время и уточнение его смысла являются сутью поэтической книги. Новая поэтическая манера, овладение новым поэтическим методом и материалом могут стать не менее драматическим и захватывающим событием. Есть поэты, у которых от книги к книге идет борьба за новую точку отсчета, новый ракурс и угол зрения. Таково соотношение между точностью, вещественностью «Камня» и сгущенной метафоричностью, ассоциативной поэтикой «Tristia» у Мандельштама.
Книга стихов предполагает последовательное чтение от начала до конца, в ней есть свой сюжет, кульминация, отступление от действия и т. п. Множество подчас интуитивных мотивов заставляет поставить одно стихотворение вслед за другим. Это – важный и поразительный момент поэтического труда.
Одним из наиболее перспективных построений книги кажется мне такое, когда возникает ощущение движения от стихотворения к стихотворению, наподобие перехода из одного архитектурного пространства в другое, нечто вроде анфилады, просматриваемой из конца в конец. При этом комната, двор, сад, город, пригород, вся страна выстраиваются в сквозной ряд, и глубоко личные темы приобретают в этой перспективе громкое звучание, получают усиление, подхватываются эхом.
Деление книги на разделы ставит обычно внутри нее глухие перегородки и предусматривает, как правило, наличие нескольких несвязанных тем или лирических повествований. Впрочем, иногда такие разделы являются не отдельными отсеками, а скорее главами одной книги[8]8
Любопытно, что даже такие случайные, внешние факторы, как, например, издательская установка последних лет печатать поэтические книги в «подбор», когда каждое следующее стихотворение помещается не на отдельной странице, а следует сразу же за предыдущим, приводят к новой организации книги стихов. Теперь, чтобы стихи не слились в общую массу, чтобы их легче было прочесть, оценить, отметить, приходится делить книгу не на два-три, а на большее число разделов! (Примечание 1984 года.)
[Закрыть].
Нередко в конструкции книги отражается судьба поэта. Деление книги А. Тарковского «Земле – земное» на разделы объясняется во многом поздним ее выходом. А. Тарковский смог растасовать свои стихи по разделам, сталкивая стихотворения 30-х и 60-х годов. Он оказался в положении человека, получившего возможность единым взглядом обозреть свою жизнь и увидеть основные темы, течения, вообще – узор.
Пример Фета и Анненского убеждает в возможности уникальных, необычных построений. Существуют поэтические книги, созданные по образцу музыкальных произведений, когда какой-то один мотив, одна мелодия проходит через всю книгу, варьируется и обогащается.
Может быть, в идеале построение каждой книги стихов должно быть особым, оригинальным, являясь не формальным, а содержательным моментом, свойством данной поэтической системы.
Разумеется, расположение стихов в книге не всегда может быть мотивировано, более того, чрезмерное настаивание на связях одного стихотворения с другим было бы навязчивым. Иногда стихотворение даже специально ставится для разрядки напряжения или по контрасту с предыдущим. Важны бывают резкие перепады смысла, взаимные отталкивания. Правда, и эти «нарушения» – свидетельства специальной работы по организации стихов в книгу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?