Текст книги "Красный закат в конце июня"
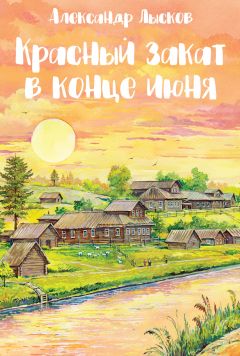
Автор книги: Александр Лысков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Для лучшего поддува.
Внутрь навалили воз бересты, сверху сухих смоляных поленьев. И плахами прикрыли.
Народу набралось на площади вприжим, в улицах не протолкнуться.
Ещё мученика не привезли, а уж возле жжелища разведён был костерок – поджёгный.
В кадке дёготь мерцал. И в нём четыре факела мокли, напитывались горючестью.
Пекка выбился в первые ряды, близко увидел угрюмую морду стрельца с секирой – орал воин на любопытных, стращал, пояснял, мол, сейчас так полыхнёт, что и царь не уймёт.
Не впервой, видать, церковную казнь сторожил.
Пробилась наконец через толпу санная упряжка – Кассиан на цепи сидел в розвальнях на голых досках.
Не узнать было вдохновенного поборника истины.
Казалось, даже и борода отряслась с того дня, когда он в голову Пекки вкладывал свои супротивности. Весь он будто изболелся и усох.
В долгополом рубище, босой, на четвереньках взобрался на адское печище и безропотно позволил связать руки за столбом.
Дьяк соборного приказа читал по свитку.
Над толпой разносилось:
– …А то же и воля Великого князя – чтобы еретиков казнить, жечь и вешать, пытать их накрепко, дабы дознаться, кого они прельстили, дабы и отрасли их не оставить!..
Приказной возопил анафему.
Поджигальщики пали на колени и разом сунули огонь в щели сруба, в самый низ.
«Вот ведь как устроено!» – изумился отец Парамон (Пекка) мгновенной огневой отдаче, жаровому толчку в лицо.
Береста взялась, будто порох. Сразу через край хлынуло. Уже между плах под ногами Кассиана огненные змейки играли, щекотали голые пятки.
Кассиан успевал – торопился:
– …Чудо, чудо! – вопил он. – Как в познание не желаете прийти: огнём, да кнутом, да виселицею хотите веру утвердить! Это же какие апостолы научили вас так? Не знаю. Мой же Христос не приказывал так учить, еже бы огнём, да кнутом, да виселицею в веру приводить!..
Тут ещё один выброс пламени случился из бревенчатого жерла – шибануло в небо от смоляных чурок, и сразу остался Кассиан в чём мать родила, рубище его разнеслось по площади хлопьями сажи.
Тело вспузырилось и оплыло.
Мученик утоп в огненной струе.
Вечером и косточки его копчёной не смог рассмотреть отец Парамон (Пекка) в груде головней.
«Се Христос, – думал он, в потрясении стоя над пепелищем… А митрополит?… А митрополит, выходит, – Пилат…»
19
Господи, а каким же победителем похаживал сожжённый епископ Кассиан по новгородскому Торгу ещё совсем недавно. И стая однодумцев вилась за ним предлинная. И посох его стучал повелительно. Грозно – в сторону Московского митрополита. Мол, наша взяла! Не мы ли говорили тебе, владыко: ложно ждать конца света в 7000 году (1492 от Р. Х.). Цифры суть идолы и не могут ничего знаменовать. А ты, Зосима Брадатый, всё-таки объявил 1 сентября концом. И не велел людям сеять хлеба. Вывел на площади вопящих баб и оглашенных нищих.
А вот – не случилось!
И Русь потом три года голодала. Деревнями вымирали поверившие тебе. Так кто же из нас ближе к Богу? С такой ли правдой вам, любостяжателям*, паствой заведовать!
Бунтовал Кассиан. К Всевышнему взывал. Повелевал небесным войском. Забыл, духовный победитель, про кесаря – Великого князя – и его войско земное. В отличие от митрополита.
А униженному Зосиме Брадатому ничего и не оставалось, как припасть к стопам государя.
Вымолил митрополит у государя «указ».
Вот и полыхнуло инквизицией от Волги и до Волхова.
Пеплом рассеялась плоть нестяжательская по лугам и лесам.
Немногие уцелевшие, как Нил Сорский, забились в скиты.
Мысли их остались в берестяных и пергаментных списках, на царах. Память о них затаилась в глубинах душ, ими очарованных, таких, как отец Парамон (Пекка) да потом Авдей-грамотей.
Никаким огнём не выжечь.
Убеждения нестяжателей были таковы: Бог един, а не троичен;
Христос лишь Божий посланник и основатель братства, но не есть Бог. Подобает духом поклоняться Богу, а не внешним образом. Вся Церковь с её иерархией, таинствами, богослужениями и учреждениями есть позднейшее человеческое предание и праздное измышление.
В храмы не ходить, ибо они кумирницы, молебнов не петь, не каяться и не причащаться от священников. Ладаном не кадиться. На погребение не отпеваться. По смерти не поминаться.
Кресты и иконы сокрушать, ибо они суще идолы.
Святых на помощь не призывать и мощам их не поклоняться. Постов не соблюдать. Писаний отеческих не читать.
Истинное христианство состоит не в делах внешней набожности, а единственно в исполнении заповеди любви к ближнему.
Люди всех вер – одно у Бога: и татары, и немцы…
20
…Становилось прозрачнее за окном, будто в овсяный кисель подливали воду. И ягодного соку по капле.
Исклёванные писалом восковые дощечки Авдей сложил в клети.
На крыльцо вышел с федулой в одной руке и со смычком в другой.
Комары ещё в росе утопали, не досаждали. В утренней влажности струны увяли.
Авдей на ходу водил по федуле смычком из конского волоса, скрипел колками, настраивал.
При подъёме на гору остатки псалмов Давида выкипели у него в душе. По пути в Сулгар начали слетать с губ купальские попевки.
Подтягивала федула – одной струной на восклик, двумя на подвыв. Авдей пробно прокричал:
Нарождалися три ведьмы
На Петра да на Ивана!..
Он шёл босой, в синей рубахе, небрежно-низко подпоясанной.
С уткнутой в живот федулой. И смыкал поперёк хода.
Пятое колено первопроходца Синца.
Холостой малый конца XVI века.
Такой музыки ещё не слыхала иссечённая ручьями старая сулгарская дорога.
От Синца только похабам довелось ей внимать.
Шаркунками да бубнами довольствовался его сын Никифор.
Деятельному внуку Синцову – Геласию – хватало колокольчика под дугой.
Его дочка Матрёна, ходя на свидание к Василию, бывало, затягивала на этой дороге разве что бабьи слезливые песенки.
А вот у её сына Авдея в обиход пошла уже невиданная доселе в этих местах федула! Имелась также у парня пропасть разных рожков, сопелок.
Подтянув струны, Авдей закинул федулу за спину. А из-за пояса наощупь вытащил жалейку в три дырочки.
И закрякала берестяная трубочка в густой, влажной ночи 1590 года на Ивана Купалу!..
21
На поляне за церковью сулгарские девки волочили по траве холстину. Выжимали из неё росяную влагу в горшень, чтобы лица мыть для прельщения. И в избах кропить углы.
На святую воду надейся, а купальскую росу собирай!
Издалека услыхали: Синцовская идёт!
Воспрянули духом – ответствовали хохотом, визгом, мол, здесь мы. Теперь собственное горло настроил Авдей для сердечного отклика.
Прошёлся ладонями по груди, по коленям – и во всю мочь:
Ходил чижик по улице,
Сбирал девок на Купало,
Молодушек на гулянье…
Девки скоры, своевольны,
А молодки-те с дитями,
Мужиками заслонёны…
Много полуночников выползло на продувную храмовую высоту из-под горы, с Суландского заречья.
Тут на взъёме, скорее всего, солнце примешь на лицо и с этим благословением как с поцелуем Сварога – бога неба, кубарем скатишься в ил старицы, в лоно его жены Макоши, земляной матери. Обваляешься в грязи и сразу в воду с головой! Выскочишь на берег чистым и сильным, как их сын Купала.
В деревню понесёшь купальскую грязь в корзинах, в мокрушах, да и вовсе в горстях. Лишь бы плеснуть ею на соседа…
В кутерьме, в заверти многочисленной располовиненной молодой плоти у костра Купалы непременно начиналось брожение крови, отуманивание голов. Током по телам пробегали позывы к единению. Были тут, конечно, и робкие, и незрелые. Были и убеждённые праведницы. И хладнокровные увальни.
Авдей, однако, от роду склонялся озоровать.
Белотелый, жилистый, с упругим корнем в волосиках паха, он гнал по берегу всё дальше и дальше от костра угорскую девку Илку. Её со спины тоже только расплетённая коса прикрывала. А две ягодины пониже поясницы – глаз не оторвать – подбивались при беге маленькими ножками, играли, устремляли гонца к щипку и захвату.
Авдей до гривы дотянулся – тпррру!
Они повалились в прибрежный ил, перекувырнулись в нём несколько раз и словно бы живая первородная плоть в руках Создателя, стали мяться и свиваться, слепливаться…
Толчки и биения внутри глиняного кома умерились. Опять располовинилась плоть. Поднялась отдельными человечинами и рухнула в реку.
Течением сволокло с них глиняные рубашки. Белыми, уёмными, непорочными побрели они по мелководью обогреваться у костра.
– Кажись, Авдейко, ты с Анькой Кошутиной на Пасху-то шутковал. Что же нынче не в ту сторону поглядел? – спросила Илка.
– Не указ мне. И не ты ли с Титом в прошлый год купавилась?
– Все наши девьи гульбы в бане смоются. А вы, синцовские, до сладкого больно охочие. Нет чтобы посвататься.
– Посвататься – как горшок попросить. Дело нехитрое.
– Хитро не хитро, а без него жизни нету.
– Жизни много вокруг. Вот нынче поеду на Лимский увал в каменоломни за жерновами. Поглядим жизнь. Не до сватовства.
– Хотя бы ленту мне привези.
– Не купечествовать еду. Кайлом махать. Не до побрякушек.
У края кустов они напялили одёжки и вышли к игрищу у костра степенным, ровным шагом.
22
Дни лета отчёркивались на песчаном берегу Пуи бороздками опадающей воды, подобно годовым кольцам.
От воды вверх, венец за венцом, поднимался сруб мельничного амбара. Стена отражалась в реке плавучей переправой. Казалось, можно перебежать по брёвнам, нарвать на заречном лугу ромашек и васильков.
Нынче матицу поднимали, и отец Мирон опять был приглашён для молебна. Угольки раздувал в кадиле, крошил сухую смолу в жаровенку.
Жидкую косицу закинул за плечо. Поглубже осадил на голове бархатный наплешник, чтобы не слетел от резкого движения. (Поп имел свойство самого себя взъяривать на молитве, в одной руке держа тяжёлый крест, будто боевой топорик, в другой – кистень кадила.)
Бойся!
Высоко на башне сруба сидели Василий с Титом. Подтаскивали матицу к пазам. Концы балки были вырублены в ласточкин хвост. Попадут в выемки и как кулак не вытащить из горлышка кувшина, так и они сольются с поперечным бревном в одно целое, матица накрепко свяжет стены.
Матрёна, задрав голову, стояла в пропасти сруба. Под ногами у неё были рассыпаны пух и перья куропатки. Таков обычай «под матицу»! На ночь птицу, загодя словленную в силок, заперли в срубе. Нынче утром пришли – не улетела. Значит, затее быть прибыльной.
Отсекли куропатке голову и кровью обрызгали углы.
…Прошла пора тесать да гладить, теперь бы готовое владить: всё внимание работников было захвачено скольжением на высоте балки по рёбрам сруба. Бревно в обхват. Весом в полуласт (пятьсот килограммов). Чуть пойдёт на перекос – и рухнет. Опять уповод на подъём теряй. А отец Мирон уж «копытом бьёт», торопит. Ему что – не с лесиной возжаться. А мужикам уж вовсе невмочь.
– Погоди, Тит. Плечи кряхтят! – выдохнул Василий.
Разогнулся для отдыха и – о, чёрт! – взглядом наткнулся на Лизавету. Она тоже на высоте, на прощальной горе, опять и она свою работу делает!
Под руку ворожит, постылая.
«Танец у неё нынче совсем уж какой-то дикий», – подумал Василий. Присмотрелся – будто бы баба из торбы семя рассеивала. Что ни шаг, то широкий размах руки. Да это она никак землей с кладбища дорогу посыпает! Куклу-то восковую, проколотую иголкой, Василий с Матрёной нынче утром на пороге нашли. Отчаялась, видать, баба от живой Матрёны мужа обратно заполучить.
На смерть теперь её заколдовывала.
Раздосадованному Василию отдых стал не в радость. Злой силой налились плечи.
– Эх! Послал Бог работку, да отнял чёрт охотку! Толкай, Тит!
И отец Мирон внизу тоже одной рукой замахал кадилом, будто бы вторя Лизавете, а другой – сплеча стал рубить воздух веником со святой водой.
– Окроплением священныя, в бегство да претворятся все лукавые бесовские действа!..
Так они на пару (ворожея на горе, а священник в низине) и взывали каждый к своей силе, чья возьмёт.
И видать что-то там, в духе, расшевелили.
Вдруг большая щука плеснулась в омуте.
Ветерком потянуло из леса. Быстро потемнело.
Тучка прикрыла солнце нестрашная, но непонятно было, откуда взялась, коли только что над головами мерцала бескрайняя голубель?
Бревно с «ласточкиным хвостом» на стороне Василия втиснулось в паз, будто влитое.
– Эх! Моим добром да меня в рыло! – огорчённо воскликнул Василий. – Гривну-то забыл под матицу положить!
У него от досады чуть слёзы не брызнули.
– Матрёна, ну-ка, давай жердиной подопри снизу. Совсем чуток надо. Только чтобы гривну подсунуть.
Из полумрака колодца поднялась жердина, уткнулась в брюхо матицы, а Василий топором подковырнул, и конец балки выскочил из гнезда неожиданно быстро и высоко – силёнок у Матрёны ещё хватало: невеличка, да замешана на яичке.
Пока Василий из-за щеки доставал монету, балку повело от него.
Если бы Тит успел замкнуть противоположный конец, тогда бы матица как по команде замерла на весу, а теперь она уплывала от Василия. Он выплюнул монету, поскакал на заднице вдогонку, попытался зацепить топором…
Его сковало смертельным ужасом. Сердце стало останавливаться. Время замедлилось как шаг в болотной трясине.
Качался перед глазами Василия конец жердины, с которой соскочила матица. Жёлтая сочная туша балки стала погружаться в полумрак колодца. Бревно скользило по торчащей жердине. Оно уже скрылось от лучей солнца и не блестело. Становилось всё тоньше и тоньше. Наконец гулко с чавканьем и хрустом ударило глубоко внизу по твёрдому.
Он глянул туда безо всякого любопытства.
Так и есть!
Матица лежала поперек груди Матрёны, и лицо её было чёрным.
И теперь, подобно тому, как длительное усилие, напряжение, с которым нога человека вытаскивается из трясины, после освобождения завершается рывком, так и Василия в распахнутом армяке сорвало с верхотуры. Он пролетел над головой отца Мирона будто Змей Горыныч. Рыжие волосы на голове пламенем порхнули на ветру. Молнией сверкнула узкая полоска лезвия.
Упав, подвернул ногу.
Хромая, опираясь на топор, как на костыль, поковылял по дороге, начал взбираться на гору, где Лизавета творила свои ворожбы.
Баба блаженно улыбалась ему навстречу, рассеивая кладбищенскую землю перед собой. Позади на свежей посыпи оставались следы её босых ног. Махи её руки становились всё шире и решительнее. Она словно бы даже желанно подставила голову под топор…
Лежала умиротворённая, без тени сумасшествия на лице.
Теперь Василий стоял над ней обезумевший, глаза налились кровью.
Дух Лизаветы вселился в него.
Мужик держал топор над головой и оглядывался, на кого бы ещё обрушить.
Нашёл взглядом отца Мирона, убегавшего от мельничного сруба в лес, чтобы окольным путём, тайной тропой, убраться к себе в храм да запереться там на засов.
Василий бросился вдогонку.
Ковылял на ушибленной ноге быстрее здорового.
Он бы и священника зарубил, если бы Тит с Авдеем не перехватили у него топор и не повалили бунтаря на землю.
– Догорела свечка до полочки! – хрипел Василий, вывернув голову. – Ха – ха-ха! Удалой долго не думает! Ребята! Как Бог на сердце положил!
– Бес тебя, батька, попутал! – рыдая, вымолвил Тит. – Ты же мою мать зарубил!
– Теперь дорожка мне, ребята, известная – камень на шею да в омут…
23
Суландский губной стан располагался в бывшей кумирне угорцев. Волоковое оконце в приказной избе словно бы раскалилось по краям от яркого солнца за стенами.
На земляном полу стоял стол в одну широкую плаху на козлах. И разлапый чурбан перед ним – остатки бывшего угорского кумира – богини воды Хатал Эква.
Чурбан, а вместе с ним и всё местное язычество, попирал своим тяжёлым задом волостной староста Шумилка – в полукафтанье и с суконным колпаком на голове.
Целовальник Шестак на коленях у припечья раскладывал на голбце пергамент, чернильницу с песочницей и гусиные перья.
Посреди избы стоял убивец Василий – бледный, осунувшийся за несколько ночей в подполье.
Он мял шапку в руках, тяжело вздыхал. Его то ли от холода потряхивало, то ли знобило от переживаний.
Мужику было трудно молчать.
– Ты, Шумилка, пошто на облихование меня к воеводе в Важский городок не повёз? Свою расправу желаешь чинить? Ладно ли это? – тихо спросил он.
Староста протянул руку к полке под иконой и достал свиток.
– Вот тебе губная грамота. Царёв устав. Список верный. Снято слово в слово. Раньше – да, по памяти судили, «по обычаю». Теперь по писаному. Слушай.
И староста принялся читать со значением:
– …Скажут в обыску про них, что они лихие люди, старостам тогда тех людей по обыску пытати; не скажут на себя в разбое… – и старостам тогда тех людей по обыску пытать на смерть.
– Ты, стало быть, и тиун теперь? Ну-ну.
– Разбойные, убийственные и татинные дела – все нынче в волость переданы.
– Ага! Вот оно как, стало быть.
– Облихование в твоём деле будет простое. Ежели, конечно, запираться не станешь. Лизавету зарубил? Говори по нашему крестному целованью правду без хитрости. Так оно было?
– Так, так и было. Нечистый попутал.
Долгое время после этого в избе стояла тишина. Только скрипело перо в руке целовальника, стоявшего на корточках у припечья.
Он писал: «…розбойник Василий Браго, ведомый, пойман и обыскан, учинено облихование губным старостой Игнатом Шумилкой, и сознавшись, что зарубил он свою жёнку Лизавету во безумии…»
Терпеливо ждали, когда откинется от письма целовальник.
Староста сдвинул шапку на затылок, чтобы облегчить мысли во лбу.
Подумать было о чём.
В «росписи правёжной» за умысел в убийстве полагалось отсечение головы. А Василий загубил Лизавету сгоряча. Потому – без умысла. Но даже если бы и было у него на уме лишение жизни, то, во-первых, самая малость, а во-вторых, если приговаривать мужика к смерти, то где взять палача? Такого лиходея, чтобы голову снёс одним махом, и на Москве-то поискать, не то чтобы в Сулгаре. Значит, Шумилка, тем рогом чешись, которым достанешь. Кнутом лиходея распотрошить?
Но для кнута Васька этот должен был из корысти разбой на дороге учинить либо в лесу. А ведь никакой корысти у мужика не было. Как-то и для кнута не складывается.
Вот, скорее, что самое подходящее! Сказано же в уложении – случайное убийство прощается! Вот бы и дело с концом. Так ведь и не по оплошке он её зарубил. Ведь бежал вдогонку. Целил в голову. Значит, выбирать надо между кнутом и прощением. Батогов десятка три изведать мужику, вот и ладно. Фильке Михееву посулить недоимок скостить за палачество – согласится…
Целовальник ножичком затачивал перо для приговора.
Грохнул обоими кулаками по столешнице староста Шумилко, объявляя решение. И вырисовано было на пергаменте чернилами из сажи с добавлением мёду (для закрепы): «… розбойнику Василию Браге по облиховании на правеже июня 27, года 1590 от Р. Х. в сулгарском губном стане старшиною Шумилкой Игнатием три на десять батогов имати…»
Суть наказаний сводилась в те времена к тому, чтобы возмездие наступало как можно скорее и обязательно публично для устрашения и назидания. Видов наказания было много: повешение, сажание на кол, отрубание головы, битьё батогами и кнутом, вырывание ноздрей, утопление, сожжение, закапывание в яму…
Всё, что угодно, кроме лишения свободы! Ибо самого понятия – свобода – не завелось ещё тогда, как не настало ещё время паровоза.
Свобода не выделилась в какую-то особую ценность жизни.
Её ещё не осмыслили, не выловили из хаоса духовного для употребления. Первобытное девственное состояние свободы одинаково испытывали в те времена палач и жертва, царь и холоп, богатый и бедный. Свобода была разлита повсюду, и её не замечали как воздух. Потому и возмездие за лиходейство было примитивным – отсечь голову, причинить физические страдания. Утончённое изуверское: а вот лишим-ка мы его свободы! – даже в голову не приходило тогдашним экзекуторам. Тут, конечно, и суровая расчётливость Средних веков сказывалась. Никому не хотелось в застенке «кормить бездельника», лишённого лишь только свободы. Разве это наказание?
Кости ему переломать, – и гуляй, Вася.
Тюрьмы на Руси появились в конце XVII века.
24
Что ни шаг, то оглядка, и поверху, и назад – так, дёрганно, совсем по-птичьи, передвигался в кустах ивняка Филька Михеев по кличке Полоротый.
Нарубил свежих стволов в палец толщиной. Выволок охапку на берег и принялся нарезать батоги длиной в два аршина, как раз по своему росту.
Окорённые ивины блестели словно костяные. Оставалось в расщепы на концах зарядить гибкие вички и обмотать, чтобы палки не тотчас размочалились при ударах.
Мальчишки прибежали, подняли воробьиный гвалт:
– Филя! Староста кличет! Скорее! Не то, говорит, самого тебя бить будет.
И подзатыльники, и зуботычины Полоротому не впервой было получать по его страхам и покладистости. Единственный во всём Сулгаре ютился он с нищим семейством в землянке, словно дикий язычник.
Голодал.
Слабым считался.
Слабый – в ту пору означало не столько физическую немощь, но несостоятельность в делах, отсутствие влияния на жизнь общества и авторитета. Таких «полоротых» Филей в деревнях той поры было меньшинство. Потому что слабы они оказывались в борьбе за выживание. Но их количество неумолимо увеличивалось за счёт близости к сильным, подпитки от них. В результате этого процесса несколько столетий спустя слабые полностью поглотили сильных. В моём повествовании они, слабые, вынужденно станут появляться время от времени, хотя я пишу историю сильных.
25
Стол на козлах вынесен был из губной избы и превращён на берегу Суланды в позорную плаху.
Преступник Василий стоял перед столом с низко опущенной головой и бормотал себе под нос:
– Умей лихо творить, Васька, умей и каяться… От вины, что от долгов, не отрекаюсь. Нет!.. Вина голову клонит…
Бабы позади него затеяли шум и гам, свой суд. Самые разгорячённые нет-нет да и охаживали его кулаками по спине.
– Укоротить бы тебе голову на полторы четверти! Ни за что ни про что бабу сгубил!
– И татарину закажу руку на человека подымать! – отвечал им Василий с надрывом.
– Старый хрыч! Пора, пора тебе спину стричь!
За верёвочную петлю на шее староста подвёл Василия к плахе и принудил лечь ничком. Так был подавлен Василий случившейся бедой, что подчинился бы и тщедушному Филе. А тот уж батог к руке примерял, рассекал воздух.
Фуркнуло над Василием и затихло глубоко в его теле.
Словно цеп на току, прошёлся батог от плеч до пяток. На последнем ударе кольцо на конце расплелось и удар получился семихвостый, кровяной.
Палач отбросил негодное орудие и свежим батогом опять отмерил по вершку, будто тушу готовил для разделки, в обратном порядке – от пяток до лопаток.
Василий на плахе рыдал, трясся. Выходила из него боль душевная, заменялась телесной – легче становилось.
– Высок замах, да низко битьё! – укорял палача староста.
Филя отдышался и ответил:
– Это заделье, Игнат Кузьмич. Дело – впереди.
Переменил батог на новый, самый толстый, и влупил так, что хрустнуло в нутре Василия.
В народе послышалось:
– Ничего! Батожьё – дерево божьё.
– Побьют – не воз навьют.
– Палка бела – бьёт за дело.
Получив своё, встал Василий на ноги и, потрясённый, не мог сообразить, как быть дальше, в какую сторону идти.
Самая злобная баба напоследок поддала ему кулаком.
Её окоротили:
– Была вина, да прощена. И Бог дважды не карает.
Василий, волоча ноги, добрёл до реки и повалился в воду охолонуть.
Кое-как на четвереньках, ползком по каменистому перекату перебрался на другой берег.
Уволокся в Синцовскую.
А за спиной его долго ещё празднично шумел сход и весело скакала река на разноцветных голышах…
Достиг Василий деревни своим ходом, но едва не ползком.
Тит с Авдеем стучали топорами на мельничном срубе. Замерли, увидав отца.
Василий сипло исторгнул:
– Я, ребята, несколько дён пока у печки постою. Мне теперь ни присесть, ни согнуться. За кашевара, выходит…
Добавил:
– Тит! А тебе, знать, жениться надо. Просто край! Без бабы оголодаем и завшивеем…
26
Гряда Лимского увала у Мшенских озёр вставала на полпути от Сулгара к Каргополю, усеянная корявым сосняком. Гранит выступал только в Пешском ущелье, у самой воды.
Рассветало. Туман в ущелье понемногу проседал, и сначала всплыли задранные оглобли телег, морды чахлых лошадок, пасущихся на склоне. Потом показались крыши землянок стана добытчиков жернового камня – черемисника…
Из шалаша на пригрев выполз Авдей. Напялил епанчу, ломкую, пропитанную пылью каменоломни.
На звук его кресала стали выбираться из хлипких жилищ другие мужики.
Приговаривали:
– Уж как веет ветерок из шинка да в погребок!..
– Зарекаюсь! До праздника не понюхаю!..
– Зарекался тут один от Вознесенья до поднесенья…
В щербатом горшке Авдей сварил полбы, поел и уполз в пещеру по слизким камням мимо ледяных сосуль.
В солнечный день долбить здесь приходилось в полумраке, в пасмурный – на ощупь.
Каменная плита в четверть толщиной нависала над Авдеем. Деревянная подпора удерживала заготовку от обрушения.
Зубилом и киянкой он уже который день выкраивал из пласта круг в размер будущего жернова.
Прорезь в пласте была глубокая, наблюдения не требовала. Ползай на коленках по кругу и бей по зубилу над головой.
Недалеко от Авдея долбил ещё один мужик, Фёдор Косой, закупом работавший здесь на каргопольского купца. У него и в самом деле был покалечен один глаз. Бельмо, будто пришитое, вместе с веком дёргалось вверх-вниз, а в стороны не отводилось. И колтун волосяной как-то косо был свалян на голове. И ходил мужик плечом вперёд, прихрамывая. Но, силой духа питаемый, ломил в пещере за здорового.
За убеждения веры, за знание угорского наречия Косой стал звать Авдея – чудинком. Сочувственно потрафлял своими познаниями об идолопоклонниках.
Долбил кайлом и в перерывах выкрикивал высоким, резким голоском:
– Шаманы твои угорские разлюбезные, жрецы, волхвы, то есть праотцы наши – они ведь к человеку без лукавства шли. Не постраху владели душами. И князь Владимир, пока язычником был, тоже исконную терпимость в душе берёг. И когда Господь с высоты небес надоумил его сердцем ко Христу припасть, то князь ухватился за самое главное в новой вере. «Не убий!» И отменил смертную казнь на Руси! Господи, чудинко, какая же стихия добра и любви пронеслась в те дни по земле! Но вот беда! Кому-то на сердце Христос ложится, а кому на голову. Лукавый-то не дремал. Ко святому князю приступили книжники – священники: пошто не казнишь разбойников? «Греха боюсь», – отвечал князь. Святые отцы не смутились. Суют князю под нос Евангелие, писаное-то, заметь, чудинко, не Христом, а Павлом, единым грешным из нас. И читают князю: начальник в миру, мол, есть Божий слуга. Он-де, начальник, не напрасно носит меч, ибо он – Божий мститель. И князь-де для того и поставлен Богом, чтобы крови не чураться, зло мечом карать… Владимир поверил лукавым книжникам и приказал впредь опять казнить… Да, волхвы твои разлюбезные, шаманы, чудинко, конечно, проповедовали око за око…
Косой сделал несколько ударов кайлом и остановился.
Подумал и добавил:
– Но зато ведь они и не лукавили!..
В это время зубило Авдея вдруг по шляпку влетело в глубь породы, как в пустоту, – значит, пласт пройден. Ещё удар, и каменный круг отвалился. Подпорка приняла на себя всю тяжесть. Самое время было ладить слань, чтобы спустить будущий жернов с высоты свода на дно забоя.
Требовался напарник.
Авдей позвал:
– Фёдор, подсоби!
Фёдор Косой – подлинный исторический персонаж тех лет. Из дворовых людей московского боярина. Числился в беглых холопах. В Новгороде «истинное учение принял от литвина Матюшки, оптекаря, да Ондрюшки Хотеева – латынника».
Проповедовал по Руси. Сыскал такую славу, что сам Зиновий Оттенский разразился многостраничным посланием ему в пику: «Истины показание к возопившему ея Фёдору Косому».
Да ещё выходило, что и по несчастным судьбам своих матерей они с нашим Авдеем были вроде как родня: в 1561 году объявлено было на Москве, будто «двенадцать жёнок вещих наслали чуму». Так вот, в числе этих вещих ведьм спалили на костре и матушку Косого.
27
По слегам они вытащили заготовку бегунца из пещеры на свет Божий высветляться солнцем, напитываться теплом, которого не знал камень тьму лет со времён затвердения из лавы.
Вылёживался, млея, будто каравай из печи.
Авдей накидал в кузовок затупившихся резцов, кайл и наладился в ближайшую кузницу – оттягивать и вострить инструмент для отделки жернова.
Косой и тут готовно составил Авдею компанию.
Поднялись на гору, остановились передохнуть.
Мир открылся широко.
На другом берегу озера на холмах виднелись деревеньки в три-четыре избы. Среди них церковь серебрилась осиновым лемехом.
По берегу озера вилась жёлтая лента дороги. В одну сторону тащился обоз с тюками какого-то товара. Навстречу скакали верховые. Лошадей жгли-палили.
Гонцы, никак, – решили камнетёсы.
Ну а вверху, на небе, облака с запада разносило перистым веером, словно жар-птица расправляла хвост, садясь на раскалённое яйцо в гнезде далёких лесов…
Какими словами должны были перекинуться в такую красочную летнюю минуту конца XVI века два молодых русских мужика, стоя на высоком месте где-то между онежскими землями и важскими? Мужики смелые, деятельные. С головой на плечах. Не какие-нибудь тараканы запечные. Лёгкие на подъём. Никому ни в чём не обязанные. Склонные к мудрствованию.
Какие вообще вечные темы для беседы у мужской части человеческого рода? Дела? Женщины? Политика? Смысл жизни? Тайна её возникновения, то есть Бог? Истина и правда?…
Ну, после долгой подземной долбёжки, ползанья в сырой пещере на корточках по острым камням вряд ли возникло бы у них желание судить-рядить о свойствах скалистой породы. Об этом – в часы бражничества у костра.
Насчёт баб?… Конечно, можно было и о любострастии помыслить, стоя в пряных овеваниях июля (червеня-грозовика), вздохнуть об оставленной дома милушке или о какой-нибудь местной красотке, встреченной возле кузницы у колодца. Но чтобы всю душу отдать такому разговору – это вряд ли. Мужики-то стояли на холме северные, не какие-нибудь галльские петухи.
Очень даже вероятно, что могли они заговорить про политику. Только что отшумела опричнина, продолжался передел земель в пользу бояр, объявлялись заповедные годы. Тысячи кабальных холопов переходили в крепость за долги…
Но опять же, если бы эти мужики стояли на холмах тульских или курских, тогда, безусловно, не могли бы их не уязвлять занозы царских прихотей. Иван Болотников ведь уже родился на Дону. Да и до появления на свет Разина недолго оставалось.
Вообще, «бунташный» семнадцатый век наступал через десять годков… Но, повторюсь, мужики-то наши, Авдей с Федькой Косым, обозревали земли черносошные. Загребущие руки ярых крепостников не дотягивались досюда. У Авдея по старым законам подать уплачена. Косой – в бегах…
Нет, не особо и политика травила им душу.
Значит, остаётся, что перемолвиться на коротком отдыхе в пути к кузнецу могли они только по поводу божественного. Тем более, если принять во внимание, что в эти годы Европа уже кровью откипела в религиозных войнах, а Русь кострами инквизиции только ещё разогревалась перед Расколом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































