Текст книги "Красный закат в конце июня"
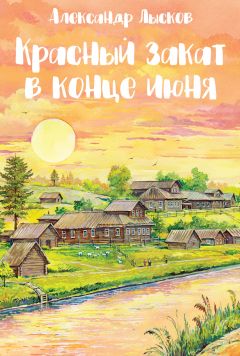
Автор книги: Александр Лысков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Часть V
Песнь Купалы
Авдей (Сколоток) (1570–1640)
Возрождение в смутное время
1
Прозрачный, слюдяной бог Фес из последних сил упирался в берега ногами и руками, терял всеподавляющую власть над рекой – под брюхом его взбухали талые потоки, ослабевали связи с земной твердью, рвались жилы, трещали кости; наконец раздался глубинный выдох-стон, и дух Льда вознёсся над Пуей, разлился причудливой дымкой по небу.
Побежали по стылому покрову трещины. Гулко переломился становой хребет реки. Плиты мёрзлой воды начали наползать друг на друга в толчее, словно рыбы на нересте.
Змеище с грозным шорохом тронулось в путь.
2
Следом двинулись люди на берегу. Шагали по проталинам, хлюпали в лужах, перепрыгивали ручьи.
Старая нижнебойка со снятым колесом стояла крепко. Сруб был наполовину вкопан в берег, выступал один угол.
Льдины разламывались на ледорезах. Теряли разгон и вес. А когда, увёртливые, всё-таки доставали мельничный амбар, то сооружение отзывалось утробно, как пустая бочка. Гул затухал ступенями, уносясь в тусклую голубизну небес будто воззвание к Фесу, мольба о пощаде.
Удары учащались, и Василию Браго – высокому рыжему мужику в армяке нараспашку, в сдвинутой на затылок шапке-четырёхклинке – пришло на ум вымолвить:
– В барабан бьёт! Свадьба нынче у Водяного. Охомутал, знать, Шишигу.
И будто в подтверждение его слов две льдины кряду долбанули по срубу.
Откликнулся малый в зипуне и валяном колпаке – тоже рослый и рыжий, как Василий, его сын Тит, законнорождённый.
– Не то баешь, батька! Это Чужие с верховьев к Нему приплавились. Вот Он с ними на кулачках и лупцуется.
Другой сын Василия, двадцатилетний Авдей, «рождённый во блуде безбатешник», с чёрными кудрями под маленькой круглой тафьёй, в накинутой на плечи епанче, истолковал опасность по-своему:
– Нищих летось из Ровды мы, человеколюбцы, чем одарили? Хлебных корок насовали – и буде. А хотя бы полбы отсыпать. Досадили им, вот они, видать, и кинули за плотину чушку либо мосолыжку[87]87
Чушка – свиной «пятачок». Мосолыжка – козья трубчатая косточка. В те времена атрибуты колдунов.
[Закрыть].
– Знамо, голь на пакости хитра.
3
Невдалеке от мужиков, у самой «молочной реки» начинал молебен «о щите пред стихий» отец Мирон, молодой поп с горящим взором и золочёным орарем через плечо – из четвёртого поколения сулгарских пастырей, – выученный в Юрьевом монастыре и назначенный самим Новгородским архиереем.
В отличие от здешних зачинателей Православия – героического миссионера отца Паисия, дьякона Петра и перенявшего у них сан простодушного угорского выкреста отца Парамона (Пекки), отец Мирон «бысть вельми честолюб и оглашен».
Кланялся, словно дрова рубил.
Едва не подпрыгивал, воздевая руки к небу.
– …Приди ко мне, чтобы обрёл я спасение. Пусть минуют мя молоньи, ураганы, грады и засухи. Да не будет погибелью ни вода, ни ветер, ни огонь…
Матрёна держала перед ним образ преподобного Арефы Печерского (старца по пояс в бурлящих водах).
Баба вздрагивала от ударов льдин. Её знобило от шороха на реке. Отвлекали неожиданные всплески.
Икона в её руках постепенно клонилась долу.
Разгорячённый молитвой дьякон, в напоминание Матрёне о долге, топнул ногой и взвопил:
– Господи, помилуй! Всё Твоё. Не жалею о сём. Господь дал. Господь взял. Аминь!
С досады добавил:
– А более того скажу тебе, раба Божья, напасть эта за непотребства ваши с Василием! Прелюбы творить – нечистому служить! «Не преступай клятвы!» – не для тебя ли писано, Василий?!
Словно дети-проказники потупились седовласые Василий с Матрёной. И Авдея с Титом зацепило.
Тит лаптем ковырял землю. Авдей – задрал голову, будто бы для наблюдения за тем, как в разбавленном молоке апрельской выси колыхалась паутина журавлиной стаи, стремительно пролетали кулики и на голых ветках шмыгала, пищала всякая птичья мелочь…
Священник выхватил у Матрёны икону и затолкал в котомку.
– Не прогневайся, батюшка. Отобедать изволь! – потерянно просила Матрёна.
Поп сопел, словно его лично обидели.
4
Душевное зависание защитительного молебна прервал дикий, оглушительный скрежет-визг.
Повалился ледорез, и набравшийся было перед ним ропак (гора льда) обрушился на стену мельницы, сплющил сруб.
От сжатия выстрелили стропила, вонзились в ледяную кашу будто стрелы униженного Феса.
Туча дранки и мучной пыли окутала то, что было мельницей.
Из угловых связей сруба начали выворачиваться брёвна. Разверзлись внутренности. Туда хищно ринулись льдины. Глодали чрево – только клочки летели.
Выкинуто было в проём стены лобовое колесо с множеством деревянных пальцев по окружности. Ледоход сожрал его.
Выкатилась на лёд цевочная шестерня.
И тоже вскоре поглотилась крошевом.
И кружилово, и бегун, и порхлица – весь этот бесценный механизм мельницы высыпался наружу.
Заглотнулся ненасытным чудищем.
Последней была вырвана кишка полотняного мучного рукава.
После чего выпотрошенная нижнебойка съехала набок и грудой брёвен уплыла на горбу ледополья в небыль.
5
Долго молча стояли поражённые сказочным исчезновением строения. Будто с погребения брели к дому Матрёны.
Рассаживались за столом как на поминках.
Первым подал голос отец Мирон.
– Блуд есть исполнение похоти, содеянное с кем-либо без обиды другому. Это бы ничего! – объясняя крах дурным поведением хозяев, толковал он. – А вот прелюбодеяние ваше было – суть навет и обида чужому союзу. И это тяжкий грех! Покайтесь. И ты, Василий, вернись к Лизавете. Снова будешь мною воцерковлён. Откроются тебе врата Царствия Небесного. Иначе несчастья и впредь не минут тебя.
За столом молчали.
Старшие, Василий и Матрёна, с покаяньем на лицах.
Тит – с открытой душой, почтительно.
Авдей – насторожённо. Обуреваемый сомнением, он вдруг кинулся грудью на стол в направлении отца Мирона и выпалил:
– Старики угорские сказывали, что и по пять жён имели. Не люба – прощай! Ты мне не жена!
Удар ложки отца Мирона по столешнице был такой силы, что остатки щей с неё брызнули на Авдея.
Пока он утирался, дьякон кричал:
– Зри в Книгу Царствий, дерзкий! Сказано там про твоих разлюбезных угорцев – «хромающие на оба колена», «ни холодные, ни горячие». Что ждать от детей шатких родителей! Сказано: «Дети, храните себя от идолов!»
Так развоевался отец Мирон, что у него еда встала поперёк горла.
Схватил котомку – и вон из дома.
Матрёна, чуть не плача, следом за ним.
Вприбежку поспевала за резвым ходоком.
Взошли на «гору прощальную».
– Не прогневайтесь, батюшка! Молод Авдей. Неразумен, – просила Матрёна.
У отца Мирона не хватило выдержки.
В полоборота бросил:
– Эх! Бабьему хвосту не бывает посту!
И пошагал меж двух колей, взмётывая задниками лаптей подол подрясника.
6
Осталась Матрёна стоять на угоре дважды убитая – сначала ледоходной разрухой, потом духовной молнией с языка отца Мирона. В навершнике (той же запоне, только зашитой по бокам), в повойнике с проволочкой, на которой нанизаны были тонкие серебряные колечки – по числу прожитых лет.
Теперь этих колечек позванивало на лбу у неё шесть десятков.
Бренчал венчик над лицом погасшей красоты, остывающей жизни.
Только брови у Матрёны Геласьевны были чёрные да пушок на верхней губе.
Кудри же из-под края повойника пружинили инеевые.
В облике горесть, но в душе отнюдь не покаяние, но глубокое сомнение в справедливости укоров раздосадованного отца Мирона. «Каким же это потрясением высших сфер должно было угрожать любодеяние с Василием, обоюдное желание жить вместе, – думала она, – коли проклятье – донос отца Мирона – был услышан самим Вседержителем, принят в расчёт и тотчас отмщён точечным ударом по основе жизни „исчадий ада“! Неужто у Господа других забот мало? Не Он ли Сам и завещал: плодитесь!»
Потому и в любви к Василию, в рождении Авдея никак не чувствовала Матрёна себя виноватой. Теплей и светлей было Василию с нею, нежели с Лизаветой.
Так ведь и рыба ищет, где глубже. И добро на худо не меняют. Оттого и Василий прибился к ней. За счастьем пришёл. Видать, с Лизаветой того не имел, что у Матрёны обрёл. Баба в любви не вольна. У которой любовь сильнее, та и права.
Сухая лесина не в укор цветущей.
Хотя, конечно, если у моря горе, то у любови – вдвое…
И ещё одно сомнение донимало Матрёну.
«Между кем посредничает отец Мирон? – думала она, глядя с горы на то место, где ещё утром стояла мельница и где теперь вольно плыл волглый лёд. – Между мною, рабой Божьей Матрёной, и единым Отцом Небесным посредничает? Или между нею, бабой человеческой, и речною силою языческой? И рясной Водяной, и Фес ледяной, и Единый праведный сущий на небесах, надо же! – все на посылках у отца Мирона! Да не сам ли отец Мирон „хромает на обе ноги“, не он ли тоже „ни холоден, ни горяч“? Тут на Пуе идолов стихий увещевает, а у себя в храме призывает к их свержению…»
Смотрела Матрёна вслед отцу Мирону, пока он в овраг не спустился.
Смотрела на котомочку его, прилепленную к спине, на косицы жидких волосиков из-под бархатного наплешника… И казалось ей, будто это сам Христос от неё, блудливой, удалялся…
7
После бунта попа мужики доедали молебственный обед и не долго оставались смущёнными.
– Авдюха! За идолов честной отец тебе чуть не ложкой по лбу! – всхохотал глава семейства и тряхнул головой – рыжей, седой, как песок с солью.
– Тягался с попами, да распрощался с бобами, – буркнул Тит.
– С мельницей распрощались! Нет в его словах силы! – опять вскинулся Авдей.
– Ты это брось. Поп хоть и лыком шит, а все же начальство! А ты с ним всегда на кулачках. Епитимьи захотел?
– Правая рука по правде живёт! – гнул своё Авдей.
– Нет, братец. Что налито, то и пей.
Батьке надоели пререкания сынов.
– Буде вам! Ишь нападчики! Пустое это – старое судить. Что пропало – того нет. Колесо сберегли, и ладно. Жернова, должно, недалеко унырнули. Вода спадёт, жердью ущупаем. Добудем. Ничего.
– Куда с жерновами-то. Вручную не провернёшь.
– Новую мельницу сладим. В два постава. Вот как! Авдейку в увал снарядим камень точить. И не чета старой мельнице срубим – верхобойку! Плотиной реку загородим. Воду подымем. Лесу зимой наготовили для гуменника. Подождёт гуменник! Новый сруб для мельницы зачнём.
– Два постава… Плотина… Это же сколько грошей надо! – усомнился Тит.
– Ничего. Старая мельница не даром скрипела. И Матрёна Геласьевна, знамо, все эти годы рубли на пятаки не переводила, – рассуждал Василий. – Выстроили мы нижнебойку, дай Бог памяти, когда ты, Авдюха, из люльки уж выполз. На коня сажен был. Так за эти лета кое-какую деньгу она нам разве не намолотила? А Матрёна Геласьевна вся на виду. У неё любая тряпица сгодится. Хозяйка! Скопили мы с ней, небось, кое-что. Тряхнём мошной! Да и у батюшки её, Геласия-то Никифоровича, думаю, не одна ведь кубышка тут была закопана…[88]88
Условно мельницы нижнебойные можно отнести к феодальным. Они существовали на Руси с XIII века. Верхнебойные, по затратам на строительство и получаемым прибылям имели уже все признаки капиталистических. Начиная с XVII века строили на Севере Руси только верхнебойные.
[Закрыть]
8
С кожаном под мышкой шагал впереди Тит, сумка-калита болталась на ремне. За ним поспевал Авдей в распахнутой епанче с торбой на плече. У обоих за поясом было по топору.
Половодье – гиблое время для лесного путника. В холодке ельника то и дело ледяная хребтина тропы ускользала из-под лаптей мужиков. На согретых склонах ноги расползались в глинистой жиже.
Шагали неутомимо, как молодые лоси. Пыхтели на подъёмах, честили черта на осклизлостях, обмахивали пот с лица.
– Видали мы сидней. Поглядим на лежня! – орал спереди Тит.
Ему ответствовал Авдей:
– Дурак праздник знает, да будней не помнит!
Мерились силами до тех пор, пока посох первым не вырубил Авдей. Сдался малой.
Этим самым как бы и о поражении, и о привале заявил. После чего без ущерба для гордыни палкой обзавёлся и Тит.
Дальше пошли ещё резвей.
9
Пнями обозначилась впереди делянка. Все деревья, что росли на ней ещё зимой, теперь покоились в катище у реки. Высокая вода Пуи подтопила нижний слой, верхние давили – не всплыть. Но лишь выбей клин – и не остановить, вывалится катище на воду.
В затейливом танце с топорами, в прыжках и увёртках братья натаскали из штабеля штук десять самых подъёмистых брёвен для плота.
Тит принялся выбирать в них пазы, чтобы сшить ронжиной.
Авдей по берегу ссекал молодой ивняк для скрепы.
…Делянка – это когда много чистого места в глухом лесу. Как в чашу сюда льётся свежий солнечный свет, или вдруг чаша эта до краёв наполняется снежной сыпью, а потом холодный ветер с просторов половодья устраивает в ней крутой замес.
Или тихим дождиком кропит…
Спустили плот на воду.
Тит буркнул напутственную молитву и ударил обухом по «ключу» бревенчатой горы.
Стволы покатились, колотя друг по дружке. Ознобистый гул пробегал по делянке и в воде не тотчас угасал.
Трелями заходились брёвна, скользя по слегам.
Кувырком разлетались по плаваню.
Шипя ныряли в глубину.
Течение Пуи захватывало этот бревеноход, медленно волокло в низовья, к деревне, в ловушку.
Братья вскочили на плот и ринулись вдогонку вольному спуску.
10
Ночь стояла белая. Весь мир пронизан был отражённым светом небес, – неоткуда взяться теням. Кругом пелена испарины, будто что-то с глазами не так, и в тусклом небе звёзды – как молью изъедено…
Плыли мужики за бревенчатым стадом в тишине молча. Баграми орудовали словно чабаны герлыгами. Кованые жала впивались в бока непонятливых сосновых тельцов. Да не всякого достанешь. Передние уже наваливали на мель. Выстраивали затор.
Паршивая овца всё стадо портит. Норовистая лесина в молевом сплаве может завязать столь тугой узел, что насытит реку брёвнами по горло. До дна пронизает. Сутки будут сплавщики растаскивать, пока не доберутся до «замка».
Острый глаз Авдея первым усмотрел зачаток бревенчатого свитка.
Не долго думая, он прыгнул с плота и побежал по брёвнам, будто по трясине.
Даже лаптей не замочил.
Выволок упорную, «сволочную», лесину. Затору словно нож в бок всадил. Туша расслабилась, померла, отдалась течению.
Чтобы не оказаться на берегу брошенным, Авдей поспешил обратно. И на пути к караванке то ли в плавне образовалась слабинка, то ли он оскользнулся, – провалился!
В один миг, не достав дна, ушёл под брёвна с головой.
Если бы он не выпустил из рук багра, то невелика беда. Всё-равно что под лёд с шестом съёрзнуть. Удержит поперечина. Подтянись, и не уволокёт течением под панцирь. Но если ледяное-то крошево над головой можно и рукой разгрести, то попробуйте-ка, не имея зацепы сверху, опоры ногам и воздуха в груди, раздвинуть брёвна над головой.
В одиночку бы Авдею на том свете пребывать. Спасибо, Тит уже полз к нему на брюхе по деревянной слани.
Ухватил пальцы Авдея, предсмертно скребущие склизкую боковину, багром раздвинул сплотку и рывком, сразу по грудь, вытянул братца.
Оба рассмеялись.
– Каково на том свете? – спросил Тит.
– Мутно, – ответил Авдей.
Ползком перебрались на плот.
Полушубок Авдея в пылу работы оставался лежать на плоту за ненадобностью. Тёплый. Сухой.
Было в чём согреться ныряльщику.
11
Шёпотом тёк караван в светлой ночи мая.
Впереди открывалось тихое плёсо.
Можно было отдохнуть до поворота.
Парни стояли на плоту, опершись на багры.
– Перекреститься-то забыл, вот Господь тебя и поучил маленько, – вымолвил Тит.
– Надо было на комель прыгать. Моя оплошка.
– А не за ереси ли твои кунули тебя?
– Ересь наша главная, Тит, по мне, в чём состоит? А в том, что отягчили мы, брат, душу свою Церковью Христовой! Мы же угорского корня люди! Отступили от веры отцов – вот это, я понимаю, ересь. Вот за это Войпель[89]89
Бог воды.
[Закрыть] меня и наказал. Се правда.
– Непотребно ты Церковь укоряешь. Или в ней не высшее разумение? Вот скажи, к примеру, что твой разлюбезный шаман про душу знает? Лелек. Гондал.[90]90
Душа. Разум.
[Закрыть] Вот и всё. А в Церкви – Троица! Не всякий умом дойдёт. Наша вера Христова. К старому, брат, повороту нет.
– Христова вера тоже по-разному толкуется, – возразил Авдей.
– И, знать, отца Мирона толкование тебе не любо?

– Многого душа не принимает. Вот утонул бы я сегодня – что бы он изрёк? Это, мол, за грехи мои кара?
– Ох, глядите, люди! Никак передо мной Ангел безгрешный!
– Сколоток я! Да! Озорник. Вот я кто у отца Мирона – безбатешник! И матушка моя, Матрёна, у него блудница! Меня ведь, ты знаешь, и крестили-то за выкуп! Сбоку припёку я у Церкви Христовой. Отец Мирон нос воротит от меня и от матери. Хочется ли мне после этого припадать к его стопам?
– А и припал – пинка бы не дали. Сказано: не ответственно дитя за грехи родительницы.
– Ага! Мать моя для тебя всё-таки грешница!
– По закону так выходит.
– А по душе?
– Душа – не закон, – как отрезал Тит. – Душа у каждого разная. У кого белая, у кого чёрная.
– Брат! А не сказано ли: «и вдохнул Бог душу в человека». Бог един, значит, и душа у всех одна и та же.
– Ну, положим, все младенцы с одинаковой непорочной душой являются на свет Божий. Да дьявол-то потом не дремлет. Правда не в душе, а в законе.
– Да закон-то человеком писан! – воскликнул Авдей. – Человеческими устами закон говорён. Где тут Бог-то? Где его длань охранительная? Послушать отца Мирона, так мать под дьяволом ходит. Первородный грех на ней. И все бабы угорские – нечистые. Всем носы отрезать надо. А мужикам – уды.
– Вестимо. Язычницы что матки лесные. Медведица родит, и идолица родит.
– А у медведицы разве нет божеской души, Тит? В райских кущах мы с медведями разве не под одним деревом почивали?
– У зверя душа, конечно, тоже есть. Но после смерти она у него в землю уходит. А у человека – на небо, в рай.
– Всё во мне противится от твоих слов, Тит. Такую тоску наводит! Жить неохота.
– Уныние, брат, смертный грех.
– Обложили грехами – свету белому не порадоваться…
Неслышно друг о дружку тёрлись брёвна на плаву, нежились в невесомости на сонном течении. Не ведали, что впереди их опять ждала свалка, тычки копьями.
Пастыри уже встали наизготовку. Замирились временно в пререканиях, глядя вперёд, на речной бурливый излом.
Решили упредить навал. Протолкались, прогреблись на плоту сквозь древесную моль и на береговом упоре в штыки встретили первые брёвна. Стали проводить их вдоль крутояра на вытяжное течение.
Многочисленными документами подтверждается: во времена любых религиозных смут усиливалась мыслительная активность в народе. Так было в эпоху раскола между эллинами и иудеями. Затем между иудеями и христианами. В годы размежевания Греческой и Латинской Церквей…
Например, уже во время раскола между язычниками и христианами в Древней Византии (V–VI века) богослов Максим Исповедник жаловался, мол, невозможно спокойно зайти в баню или к булочнику, так как и банщик, и булочник тут же заводят споры о сути, допустим, христианской Троицы…
Ученого-богослова раздражали непосвящённые, которые, не имея должной подготовки, пытались разобраться в сложнейших вопросах веры.
Но, как говорится, на чужой роток не накинешь платок. Брожение умов было зафиксировано и в преддверии русского раскола в XVI веке.
Спорили люди в те времена открыто. Высказывали свои мнения смело. Но горе было проигравшему на этих ристалищах: смерть на костре, заточение навеки, гонения, епитимья, анафема.
Для сведения интересующихся историей Повседневности в части религии отступничества: отличились в ней, неофициальной на Руси, Матвей Башкин, Феодосий Косой, игумен Артемий, Савва Шах, Иосиф Белобаев, епископ Кассиан…
12
Лодку на привязи посередь Пуи водило из стороны в сторону. Якорь был как гвоздь (жернов с острым колом в горловине), вонзённый в донный песок по самую шляпку.
Ухом к борту спал Василий в лодке. Сквозь дрёму умилялся цыплячьим писком воды за скорлупой осиновки.
От якоря к берегу перемётнута была от лодки вервяная сеть в три ряда.
В ожидании бревенчатого улова сеть всю ночь втуне просеивала мутную весеннюю водицу.
На рассвете Матрёна вышла из избы с веником, крыльцо подмести, и увидела, как в эту хитроумную запань плывут передовые брёвна сплава.
Всей силой бабьей глотки, диковинной гнездовой птицей воззвала к мужу.
Над долблёнкой тотчас парусом вскинулся и опал укрывный опашень.
Василий с испуга вскочил на ноги столь нерасчётливо рьяно, что чёлн едва не вывернулся из-под него. Махами багра мужик приобрёл устойчивость. Навострился.
А Матрёна той порой во всю свою шестидесятилетнюю прыть мчалась под гору к реке с кованой «кошкой» в руке на мотке верёвки.
Так они и стали принимать брёвна – которое Василий багром не достанет, проворонит, то Матрёна зачалит железными когтями, вытянет, хрястнет мордой об берег, будто налима с глазами-сучками.
А самых пронырливых, проворных взнуздывала сеть.
13
Восход над деревней сначала разлился вполнеба, будто что-то намного большее, чем Солнце, подлетело к Земле. Потом в центре зарево сгустилось до алого и вылупилось из него привычное светило.
Рассвет как рассвет, но какая-то чёрная тень червяком дёргалась в его расплаве. Трудно было разглядеть. Ослепляло.
Василий, стоя в лодке, прикрыл глаза ладонью.
– Гляди-ка, Матрёна, опять не спится нашей ворожее! – крикнул он.
Матрёна остановила «кошку» в раскачке, обернулась.
В пучине восхода колебалась обугленной нитью законная супруга Василия – Лизавета.
Василий сбежал от неё к Матрёне в одной рубахе и портах. За ним в Синцовскую прибился его сын Тит. Осталась Лизавета тогда в Сулгаре с двумя девками, а теперь уже и с примаками, и с внуками – сыта, обута, одета.
А всё обида бабу жгла. Что ни полнолуние, то начинало крутить. И день, и два отплясывала она свои безумия на утоптанном взлобке, на самом обзорном месте Синцовской в укор разлучнице и беглому мужу.
Выщипанными крыльями раскидывала по сторонам чёрные от работы, жилистые руки, шевелила пальцами, будто змейками. Ходила бочком, бочком, босые ноги – вперекрёст. Игриво подмигивала какому-то воображаемому мужичку, щёлкала пальцами и бедром этого воображаемого мужичка слегка подталкивала. Ревность вызывала у Василия, чтобы кинулся он, единственный и ненаглядный, скрипя зубами, на бой с соперником.
С каждым проходом концами платка туже и туже стягивала Лизавета горло, так, что лицо её, наконец, наливалось дурнотой.
В беспамятстве кидалась она высохшей грудью на землю, выла, рвала траву зубами…
Ну, что тут сказать… Любой ранний летний восход и без того полон безумия (казнь Христа вспомним, начало «великих» битв – от македонских до гитлеровских). А ежели восход этот, терпкий, беспощадно сияющий, встречает человек не в своём уме, то, само собой, дух взвихряется в нём до потери опоры под ногами…
14
Спустя месяц следующее явление Лизаветы пришлось не на утро, а на вечернюю зарю, когда чаша пуйской низины в деревне была уже до краев залита тенью, только плешь прощального холма сияла над деревней. И там, напоказ, солнце освещало Лизавету.
Вот опять раскинула она руки и пошла бочком-бочком да с ужимками. И как только заметили её плотники от сруба новой мельницы, так враз остановились.
С досадой плюнул беглый муж Василий, сидевший враскоряку на подоконном венце.
У Тита по матушке сердце, видать, заныло – он убрёл за угол и сел там на щепу, чтобы не видеть.
Авдея, как всегда, озадачило появление Лизаветы. Он пальцем стал пробовать лезвие тесла и в голове складывать тяжёлые мысли.
Матрёна дольше всех не видела представления, тужилась, поднимала конец бревна на сруб Василию. И вдруг у неё ни с того ни с сего опустились руки. Она чуть ногу бревном не зашибла. Оглянулась – а там Лизавета колдует.
Махи рук Лизаветы, её ворожба на плавучем солнечном островке сковали людей в затенённой низине. Молча, искоса внимали они представлению. Не танец это был вовсе, а смерч.
Тёмные силы из небес всасывались больной душой, пылью размётывались вокруг – откровениями кликуши.
Во всё горло на горе вопило дикое одиночество вагины.

Лизавета толкла землю босыми пятками, выколачивала, вызывала из недр змейку-струмилицу, чтобы заказать ей месть для Василия – чтобы ночью струмилица залезла к мужику в постель, туго-натуго обвила его уды до полного усыхания.
Водила Лизавета пятернёй по ольховым веткам, сгребала паутину. Горячо дышала в горсть, звала из зарослей желю-паучиху, просила заткать причинное место разлучницы.
– Будь у него как нитка, а у ней как тенёто!
С этими словами Лизавета кинулась на землю и принялась с наслаждением втирать в тропинку паутину с ладони: перешагнёт это место Василий – и хватит его невстаниха.
Вприпрыжку и вприсядку колдовала она на холме. Выжигала покой деревни. Испепеляла силы работников.
Скоро разбрелись они по домам.
А Лизавету на холме долго ещё изворачивало.[91]91
Струмилица, желя – соответственно славянские и угорские духи женского мщения. Невстаниха – импотенция.
[Закрыть]
15
…Июньская ночь была словно неугасимая лампада.
Сквозь слюду косящатого оконца лился и лился на Авдея студенистый свет.
На подоконнике лежали берестяные листы, исцарапанные выдержками из Библии.
Рукой Авдея списаны были на них с пергаментов отца Парамона (Пекки) три псалма Давида, Песнь песней царя Соломона и отрывок из Книги пророка Осии…
Ступенькой ниже от подоконника, на столе, разложены были осиновые дощечки, с углублениями словно у видавшей виды кухонной разделочной доски, зеркально залитой воском диких пчельников. Это цары. Царапай, значит, на воске письмена и складывай в укромном месте.
Выводил Авдей стальным писалом на вощаном поле – из Осии:
«…и сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда… И пошёл он и взял Гомеру… и лобзала она его лобзанием уст своих и были ласки её слаще вина…»
У Авдея борода вилась струистая, молодая, прозрачная – сквозь волосики просвечивала белая шея.
Черные пряди на голове стрижены под горшок зимой на ярмарке в Важском городке у тупейщика-немца. Теперь, к лету, Авдей оброс. Кудри спадали до глаз…
«…и она зачала и родила ему сына…»
На царах писать – не бересту прорезать. Как по маслу. И если дрогнет рука или глаз невзначай моргнёт, то любой неверный завиток можно оборотной стороной писала (скреблом) загладить и вывести правильно.
Тёмный воск в царе добыл Авдей из бортни – сам дупла вырубал в матёрых осинах на высоте в два человеческих роста. Закладывал в них щепу крест-накрест.
Потом из этих пчельников доставал мёд и, главное, воск.
Соты в кипяток – воск комками всплывёт. Соберёшь, растопишь в блюде – лей в цару. Застынет – садись мудрствовать.[92]92
Одна из причин грядущего раскола Православной Церкви как раз и заключалась в неисчислимом количестве самодельных Библий – любительских списков, полных недоговорённостей, неточностей и произвольных добавлений. Никон возжелал православным «мозги вправить», лишить их личностного начала в вере.
[Закрыть]
16
В бабки играешь, кинешь битку, так одна по второй да по третьей, будто плоский камушек блинчиками по воде… Так и Авдея отскоком ударило – талантом деда Геласия – через сулгарского священника отца Парамона (Пекку).
Грамоте Авдей учился в том же приделе старой сулгарской церкви, где его дед, будучи отроком Ласькой, когда-то краски растирал для богомаза, а отец Парамон (Пекка) мальчиком тогда состоял в служках.
Дед Геласий помер в чумные времена. А Пекка выжил. И уже – отскок за отскоком – столетним старцем распрояснял «Азбуковник» Авдейке.
Страшен был на взгляд Авдейки безбородый угорский поп в последние свои годы. Кожа да кости.
Кости-то, видать, ещё костьми и оставались, коли держалось всё это сооружение, называемое телом отца Парамона, цельно от пяток и до затылка. А вот то, что покрывало кости, кожей назвать было трудно. Тряпьё, вехоть, а вовсе и не кожа накинуты были на череп. Сосули какие-то оттягивали глаза, кошельки свешивались со щёк, а с шеи – гребень. И ужасно велики были уши. И зрачки совсем белые, словно бельма.
Чудь белоглазая выступила на старости лет в отце Парамоне во всей красе.
Таким в годы учения Авдейки отец Пекка ещё и службу выстаивал, и не самую краткую. Тонким, сиплым голосом выдыхал: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя…».
Зато уж молодой и ярый дьякон Мирон нетерпеливо, чуть ли не с притопом и с убийственной для отца Пекки мощью, отхватывал:
– Тело Христово прими-и-те!..
Под присмотром ветхого старца «безбатешник» Авдейка буквы выучил до Рождества.
К Троице ловко складывал слоги.
А к «петровкам» уже читал в том же «Азбуковнике» поучительные стихи:
Книгу сию добре храните,
Опасно на место кладите.
Не вельми разгибайте,
На седалищном месте не оставляйте.
Книгу сию аще кто не бережёт, —
Таковый души своей не бережёт…[93]93
Для современного человека не лишне будет тут добавить, что уже в те годы в текстах использовались точки-вколы, запятые-запяти, тире-молчанки.
[Закрыть]
…Авдея прельстила грамотность. Книжности он взалкал. Всё, что было интересного на пергамах у отца Парамона, списал на бересту в собственность.
На том устроился его ум.
Основалась мысль.
А надо сказать, засеян разум младого книгочея оказался семенами отборными, урожая 1503 года, когда его дряхлый учитель, совсем ещё молодой в тот давний 1503 год отец Парамон (Пекка), сподобился проделать пеший путь от Сулгара до Новгорода для благословления на чин – за три рубля.
И в монастырском хранилище жадно списывал он тогда из Библии на потребу своей должности и из любопытства.
Оттуда перенёс в сулгарский храм и дух веры со всеми его особенностями тех лет на Руси, уклонами и нестыковками.
На исходе своей жизни осенил отец Парамон (Пекка) таковым духом и мудролюбого Авдейку.
17
Отец Парамон (Пекка), как носитель духа зачинателей раскола на Руси великих строптивцев конца XV века, в молодости, в дни своего пребывания на Волхове, заметным был обитателем монастырских келий. Молодой, хрупкий, лицом и тонким волосом сливался он с рассветным туманом, аки бесплотный, стремительно пересекал Торг…
Острыми коленками взбивал подол рясы – по льду Волхова торопился в Детинец…
На паперти Софийского собора ширил прозрачные глаза свои, изумлённо хлопал ресницами белыми, как крылышки моли, увидав однажды епископа Рязанского Кассиана-нестяжателя.
Загорелось сулгарскому парню перекинуться словом со знаменитостью.
Извинительно крестясь и кланяясь, Пекка заступил в тот день дорогу кривоногому, развалистому Кассиану.
Спросил, правда ли, что в Божественных Писаниях баснословия множество и Евангелие не истинно излагает?
Ради худенького трепетного попика у матёрого еретика не токмо ответное слово с языка соскочило, но удостоен был младший брат подробного изложения нестяжательских воззрений. Мол, что там баснословия в Писаниях и ложь в списках евангельских!
В этом ли проруха веры!
И стал Кассиан толстые пальцы загибать – на одной руке не хватило.
Так, вместе с сыпучим снежком декабря 1503 года посередь славного Новгорода Великого снизошли на будущего сулгарского священника дерзостные истины.
Сказано было ему борящимся Кассианом:
– Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа следует проповедовать неравно Отцу Его; честное и святое тело Христа и честная и святая кровь не есть вино и хлеб; верных Христу собор – сие есть отнюдь не кирпичные чертоги; иконы – суть идолы; платы за священнический чин не брать; пред священником не исповедоваться. А как перестанет человек грех творити, так и несть греха…
С необычайным жаром было сказано.
Будто молнией ствол распороло.
Навек запеклось в душе отца Парамона (Пекки).
18
Спустя несколько дней в том же самом Новгороде ещё одним огнём опалил яростный Кассиан душу молоденького попика из Сулгара – жаром костра инквизиции, пожравшим плоть своенравного епископа.
В ночь на 25 декабря 1503 года на Детинце возведён был сруб-складень, брёвна в нём лежали, как заметил Пекка, без пазов, а только с затесями на концах.
Щелявый получился сруб.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































