Текст книги "Красный закат в конце июня"
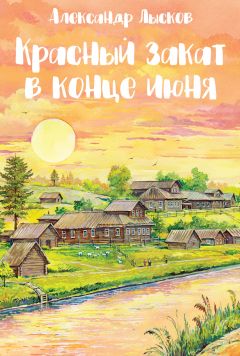
Автор книги: Александр Лысков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Это нищий болезни ищет, а к богатому она сама идёт, – шептала матушка.
Чумой заражались от укуса блохи. Болезнь проявлялась через нескольких часов.
Внезапно поднималась температура до 40 градусов, начинались сильные головные боли и головокружение. Тошнота и рвота, бессонница и галлюцинации.
На месте укуса образовывалось пятнышко красного цвета, которое превращалось в пузырёк с кровянистым гноем.
Пузырёк лопался, разрастался до язвы. Воспалялись лимфатические узлы, ближайшие к месту проникновения чумных микробов, и образовывались припухлости – бубоны.
Подступала пневмония, человек кашлял кровью и задыхался. Высыпали многочисленные кровоизлияния на коже.
Поражался кишечник. В конце концов появлялись чёрные гниющие язвы вокруг шеи.
Петля затягивалась…
13
Торговать оставили Гонту.
В новенький тарантас уложили беспамятного отца.
На облучок уселась мать.
Матрёна следом, управляла долгушей с детьми.
Торопились – убегали.
Искали спасения в родных Синцовских пределах.
Не успели.
Помер, затих тятя в лесу на полпути.
И захоронили его в суете, проездом, на Погосте.
Наскоро отпели, не по чину.
Для долгих соборований у супруги не оставалось сил.
Сама едва стояла на ногах.
Померла на другой день.
Следом быстро отмучились младшие дети.
Копал скудельницу за деревней дядя Ананий.
Потом и его в эту яму сволокли.
Через месяц вымерла вся деревня.
Осталась одна Матрёна.
Дня не вынесла в одиночестве.
Кузовок за спину и скорым ходом – куда глаза глядят.
14
…Идёт мужик горбатый,
Гребёт землю лопатой.
Бьёт землю в грудь с маху,
А крови как не бываху.
Чем мужик проворней, шустрее,
Тем его лопата вострее.
Но этот мужик с лопатой
Никогда не станет богатый.
Не получит ни зерна, ни приварка,
А лишь поминальную чарку.
Ходи, ходи, лопата
По земле от рассвета и до заката.
Пеки пироги из дернины,
Посыпай песочек на домовины.
…Кому песня поётся,
Тому сбудется,
Исполнится, —
Не минется!
Аминь…
15
У Прозора мех с брагой былькал под боком. Только руку протяни – соска тут как тут.
Бахвалился он перед Матрёной всю дорогу, геройствовал. Но как только узрел впереди избы Игны, то не за хмельным потянулся, а за кувшином с дёгтем.
Щепку окунул и ну брызгать на Матрёну. Она закрывалась ладонями, а он говорил:
– От язвы это верное спасенье. Была бы бочка, так я бы тебя с головой кунул.
Перед самым въездом в деревню едкой смоляной вываркой Прозор и кобылку вокруг обмазал.
– Девка, а девка? Ты заговаривать умеешь? – спросил Матрёну.
– Не учила меня мама.
– Ну-ка, слезай тогда. Слышишь? Никак угорцы камлают. К шаманам под благословение пойдём. Это дело верное. Безбородые знают толк. Спокон века тут живут.
На горе завивался дым от двух обширных костров, мужского и женского. Жгли верес. Кидали в огонь пучки сухой крапивы и синего зверобоя – иссопа.
Стояли в очередь для окуривания.
Каждый разувался и по три раза заносил над огнём сначала правую ногу, потом левую.
Опускали голову в дым. Задирали подолы малиц, ровдуг, рубах и кружились в едких облаках.
– Я к мужикам. А ты, Матрёна, иди к бабам. Делай как они.
16
Для баб и шаманила баба. С изумлением и страхом глядела Матрёна на её квадратную шапочку с кистями, на личину из бересты с прорезями для глаз.
На шаманихе колыхалась широченная ягуша из рядна. В руках вместо бубна было по кукле – катье. Одна кукла – дочка Омоля из нижнего царства, набитая камушками. Другая из верхнего царства бога Ен с соломой внутри – лёгонькая.
Можжевеловый дым скоро одурманил Матрёну. Она отупела от пронзительного визга шаманки. Последнее, что увидела, – взлёт куколки Ен.
Идолка кувыркалась в белёсом осеннем небе с розовой натруской заката. Замедленно, в угасающем сознании Матрёны, будто палый лист, снижалась куколка на виду у дальних заречных лесов, песчаных островов Ваги.
А того, как шаманка кинула чёрную дочку Омоля в огонь, Матрёне видеть уже не довелось. Девочка повалилась бесчувственная.
Открыла глаза – ей в лицо тычут чем-то холодным. Тут бы Матрёне впору и опять в обморок унырнуть: собачьей мордой возили по её лицу, мёртвой отрубленной головой.
Она отбивалась, а угорские бабы добротворно наседали, гвалтили.
17
Поехали дальше, вон из чумной Игны, туда, «где смерти нет». Да недалеко уехали. В конце деревни поперёк хода лежала дюжина срубленых деревьев. Вал неодолимый.
И с крыльца ближайшей избы стрелец грозил бердышом.
Кричал служивый, мол, дальше путь закрыт.
А если ночевать негде, так из какой избы покойников перетаскаете в скудельницу, в той и живите.
Они поворотили.
– Ну, девка, выбирай хоромы!
Перед ними проплывали незатейливые избёнки и землянки.
Вожжи натянул Прозор у постоялого двора, судя по воротам с замком.
В избе дворника (хозяина постоялого двора) догнивало всё его семейство. Вонь спёртая – ни дохнуть, будто под воду нырнул.
Ближнего к порогу покойника Прозор забагрил за одёжу и поволок.
Матрёне тоже дело потребовалось.
– Давайте, что ли, лепёшек я вам напеку, дяденька.
– Лепёшки пеки, а меня дяденькой не смей кликать. Какой я тебе дяденька? Я хозяин твой. Мужик. Зови Прозор Петрович.
– Вы, Прозор Петрович, только огонёк мне разожгите.
И пока «дяденька» тягал в яму за деревней тела гиблых хозяев, Матрёна в очажке, на железной лопате, настряпала хрустящих колобков.
Прежде чем сесть во дворе за ужин, бывший подьячий затопил печь в опустошённой избе.
А дымник заткнул.
И дверь затворил.
Чтобы в жилье угаром нечисть заморить.
18
На жердь у коновязи с коваными кольцами Прозор накидал сукна и веретья. Под образовавшийся кров натолкал свежего сена – покойный хозяин заготовил корму в загад, на долгую зимовку, земля ему пухом! И было объявлено Матрёне, что тут, в шалаше, жить им до тех пор, пока в избе вся зараза не заколеет.
А в самом верху, в небе, малиново светил летний остаточный жар.
Ниже, в холодке, краски сгущались.
Цвета настаивались.
Осадок по горизонту разливался лимонно-жёлтый – к заморозку.
– Лепёхи знатные! – молвил Прозор и полез на сено.
В раскрыве полога увидел: Матрёна остаток своего хлебца подаёт кобыле.
Услышал:
– Как звать-то её, Прозор Петрович?
– Улита, – ответил он неожиданно осипшим голосом.
Он увидел, как в свете заката ощеренная морда кобылы потянулась к хлебному куску, мясистая губа схлопнула гостинец и лошадиная голова закачалась благодарно.
И эта тонкая девичья «рука кормящая» в тревожном свете костра, в сиротском одиночестве, в обвале чёрного мора вдруг странным образом смутила Прозора.
Опять его раздвоенные глаза беспокойно забегали по углам палатки. И стало потряхивать мужика, будто в ознобе.
И подумалось ему: «Хорошая баба может подняться».
19
…Хотя тем временем невидимая человеческому глазу возносилась из-за лесов рваным облаком дикая бабища Куга – самодива с распущенными волосами и с красной трепещущей холстиной в руке.
Над всеми бабами возносилась – хорошими и дурными, над всеми мужиками – дельными и шалопутными, над всеми их безгрешными детьми.
Ударит, сука, оземь козьим копытом, махнёт окровавленной холстиной в одну сторону – улица мёртвых лежит.
Махнёт в другую – переулочек…
20
– Сказки на ночь тебе бабка сказывала? – игриво спросил Прозор, когда Матрёна влезла к нему под опашень из волчьих шкур.
– Сказывала.
– Теперь я у тебя за бабку. Слушай… Возвращался, как есть, один мужик домой после долгой отлучки. Просился ночевать. Ответили ему: заходи, коли смерти не боишься.
Зашёл.
А в избе-то, девка, все навзрыд ревут.
Оказалось, в деревне этой смерть по ночам ходит. В какую избу ни заглянет – наутро, как есть, кладут всех жильцов в гробы да и везут на погост.
Нынче очередь этой семье.
Ну, легли хозяева спать. А мужик-то, слышь, глаз не сомкнул!
И вот видит: в самую полночь отворилось окно. Показалась ведьма. Вся, подлюка, в чёрном и плат ниже глаз.
Сунула руку в окошко и хотела уж было мёртвой водой кропить.
А мужик-то не будь плох, извернулся, махнул топором, отсёк ведьме мизинец и спрятал в загашник.
Поутру проснулись хозяева, смотрят – все до единого живы-здоровы. Радуются.
– А где же она, смерть?
– Пойдёмте, – говорит мужик, – я вам вашу смерть, как есть, покажу.
Идут по домам. Всех на улицу кличут. На обозрение.
У дьячковой избы что-то не так. Мужик спрашивает:
– Все ли у вас на виду?
– Нет, родимый! – отвечает дьячок. – Одна дочка больная, на печи лежит.
Мужик выволок девку с печи за волосья, показал людям её руку без пальца. А потом и отрубленный палец в доказательство… Ну, ведьму, как есть, утопили.
Мужика кормили и поили в этой деревне три дня…
Тихо стало под суконным навесом. Страшно.
А Прозор вдруг вскинулся дуриком над Матрёной да как зарычит:
– Показывай пальчики! Показывай мизинчики!..
Игрун на мужика напал.
Затормошил Прозор девчонку.
Защекотал.
Зацеловал.
21
Проснулись от стука в ворота и крика стражника:
– Ложись с курами – вставай с петухами! Живы ли?
– Жизнь на нитке, а думаем о прибытке, – отозвался Прозор из укрытия.
– Держи прибыток!
Над забором на пике поднялся кусок конины, рывком снялся и упал на землю во дворе.
– Слушай наказ, – кричал стражник. – От избы чтобы никуда ни ногой. Ослушника заколю.
– Вишь! Во все колокола ударил! И на задворки за вересом нельзя? Окуривать чем? Тоже через забор кидать стенешь?
– В лес ходи. А на улице увижу – зарублю!
– Воин! Сидит на печи да воет!
– Я тебе! Мало жала – так будет ещё и деревом.
Перепалка закончилась. Первым на карачках задом выполз из-под навеса Прозор. Обчистил конину от мусора. Отдал Матрёне.
– Тебе надолго хватит. А я уезжаю. Живи одна!
Матрёна обречённо поникла.
– Что в землю глядишь? Чему не рада? Вон у тебя какое богатство остаётся. Пятистенок. По углам поскребёшь – золотишко найдёшь. Хозяин не бедный был. Амбар полон зерна. Богатейкой станешь.
Во время этой речи Прозор испытующе глядел на Матрёну. Ждал, вот заревёт, на шею кинется.
Только и сказала Матрёна:
– Тогда прощайте, Прозор Петрович.
«Экая гордячка», – подумал мужик.
И опять переломилась прямизна взгляда у него, беспокойно забегали глаза, да всё мимо девки, тычками по сторонам. Язвительный прищур наполнился слезой. И он заговорил неровным голосом:
– Ты, это… дурёха, и вправду, что ли, поверила, будто я тебя навек одну оставляю?
– В вашей ведь воле, Прозор Петрович.
– Да ты бы пропала без меня!
– Судьба, знать, Прозор Петрович.
Он понял, не пронять эту девку ни смехом, ни страхом. И заговорил серьёзно.
– За приданым я наладился, во как! Сказывай, где что лежит в отцовом дому.
Она будто только того и ждала.
– Соль у тятеньки в тёплом месте, в запечье. Мука в клети. На полатях холстина. Медные ендовы в шомуше.
– А бражка-то, бражка где у него настаивалась?
– В подполе много и оцетьного вина, и осмерьного, и творёного. Какое в кубышках, какое в скляницах.
– Ну, выходит, пир у нас с тобой прогремит на весь мир. Гости бы только не перемерли до тех пор. Конец речам! Оставайся с Богом.
Каурую Улиту вывел Прозор в поводу задками и уехал охлюпкой.
Матрёна как стояла, так и не обернулась на прощание. Поважнее имелась нужда.
Пала на колени перед очажком. Дунула, подняла тучу пепла. Глаза запорошило. Кашель стал душить.
А всё-таки достигла звёздочек в глуби.
Вспыхнули на них берестяные кожурки. Сушняк принялся. Верес затрещал. Здоровым дымом окутало становище.
22
Трухлявая жердина концом на огне стала для Матрёны время отмерять. Увидит она из дальнего угла двора – тускнеет очаг, – прибежит и подтолкнёт жердь на аршин. Потом опять. И так будет до возвращения Прозора с огнивом.
Владения оказались обширны.
Не считая избы в два жила: для хозяев и для постояльцев – с длинным столом и полатями в два ряда; имелась ещё баня.
Колодец с журавлём без бадьи.
Туда для начала и направила свои стопы Матрёна. Глянула в жерло. Вместо собственного отражения увидела комок шкур. То ли собака утопла, то ли овца.
Ни помыться, ни попить.
Река – вон она, видна через щель в заборе. Но вдруг стрелец с секирой нагрянет?
А хотя бы даже если и свободен был путь – в чём воды принесёшь?
А вот в чём – в бурдюке!
Шибануло в нос Матрёны из соска меха винной, тошнотворной кислятиной. Противно, а лучше не найти.
По следу уехавшего Прозора она спустилась в овраг к ручью. Уж было окунула горлышко в воду, да не понравилось ей, – могильник близко.
Опять приникла к щели в заборе.
Река Вага тут текла в три русла, хоть и широкая, но островистая. С песка на песок можно перепрыгнуть, и так от берега до берега.
Не страшная река. Только вот уж очень низко текла. Должно, спуск крутенек.
Матрёна отворила ворота и выглянула.
Череда изб убегала за поворот. Даже засеки было не видать, тем более жилища, в котором стражник на постое.
Матрёна с мехом в руке кинулась через улицу и без раздумий спрыгнула с кручи под уклон.
Съехала в воду. Дно жидкое, ноги засосало. А вода едва сочилась через трубку. Долго ждать. Как бы совсем не увязнуть.
Во дворе конец жерди на костре истаивает и продвинуть некому. Промедлишь – огонь потух…
Тонкой струёй сочится вода в ёмкость. А впереди ещё подъём по крутой осыпи с тяжёлым бурдюком.
Захвачена была девка битвой. С полными лаптями глины отчаянной зверушкой вскарабкалась наверх и юркнула в ворота.
Успела к огню.
Попила. Умылась. Утёрлась подолом.
В телеге у Прозора нашла серп. Накромсала мяса и разложила на углях…
Теперь вознамерилась она обыск устроить по всему владению.
Побрызгала на себя дёгтем из кувшина.
И в клеть проникла решительно через назёмные ворота.
Вот так клеть! Словно светёлка. И потолок, и пол – тёсаные.
Слюда в оконце!
Матрёна вела рукой по кадкам, мешкам на подвесках, по коробам на полках и напевала:
Садил мужик черёмушку,
Садил, поливал:
«Расти, расти, черёмушка,
Не тонка, не высока,
Цвети, цвети, черёмушка,
Как белая заря.
Созрей, моя черёмушка,
Как чёрная грязь.
Незрелую черёмушку
Нельзя срывать.
Молоденькая девушка,
Нельзя её так брать…»
На душе девичье, а в уме бабье. И глаз – востёр.
Отметила Матрёна первые надобности для жизни. Горшочек с заплесневелой сметаной. Это на закваску сгодится.
Дёжа, полная ячменного зерна, – вот тебе и посудина для замеса. И разные горшки.
К мясу да в горшке каши наварить!
А соли-то тятенькиной у неё в кузовке полон туес.
23
Родная деревня Матрёны стояла в яме, а эта Игна высоко на горе.
В Синцовской на небо смотрела она как со дна чаши. И ветер где-то высоко над головой. Здесь же давило изо всей шири окоёма, ветер бил в лицо.
Волнами валило последнее тепло с юга.
Бессонные ночи изнурили Матрёну. Обилие смертей оглушило, притупило страх.
Наевшись каши, уснула девка у костра под попоной.
И приснилась ей ярмарка. Будто папенька в белой рубахе и с длинной седой бородой подвёл её к лавке персиянина. Разные колечки, ожерелья, бусы сияли там, как звёзды в небе.
Выбрал батюшка для дочки золотое колечко из Лиможа с голубой эмалью в выемке.
Стал примерять.
На какой пальчик ни наденет – всё мало. Подошел черёд мизинчику. А его-то, мизинчика, и нету!
Поудивлялся тятенька и, делать нечего, купил Матрёне кольцо височное о семи лучей…
Матрёна проснулась в ужасе. Глянула на мизинчик… Слава Богу, целёхонек!
24
Из-за забора доносились колёсные скрипы.
Вот бы это Прозор Петрович вернулся!
Матрёна вскочила на ноги, прильнула к щели.
Две бабы тащили телегу с мертвецами.
Свешивались на задках голые покойницкие ноги в гноищах, словно обмазанные грязью.
Только скрылась из виду погребальная колесница, как с другой стороны послышались удары бича и человеческие вопли.
Парами потянулись мимо Матрёниного укрытия мужики в одних портках. А шедший сбоку, словно пастух, охаживал стадо плетью.
На костлявых телах оставались синие рубцы и кровавые зарубки.
Боязливых же, и неверных
И чародеев языческих,
И всех лжецов – участь в озере,
Горящем огнём и серою!
Пади ниц передо Мной!..
Лысый пастырь с обожжённой, клочковатой бородой воздел кнутовище над головой. Шествующие как по команде распластались на лужайке у речного обрыва и раскинули руки крестом.
Я Господь Бог твой,
Бог ревнитель,
Наказующий детей
За вину отцов
До третьего и четвёртого рода!
…И всех ненавидящих Меня!
Хлестался теперь каждый лежачий персонально. Прицельно. И видимо, действо подходило к финалу. Кто получал свой удар, – поднимался на ноги и шёл дальше.
Бабы, возвращаясь от скудельницы с порожней телегой, бежали вдогонку за бичующимися, промокали тряпицами кровь на их телах.
Тряпицы прикладывали к губам, словно причащались живой кровью Христа[84]84
Флагелланты – так назывались секты бичующихся в Европе.
[Закрыть].
25
Матрёну стошнило в отаву.
Обессиленная, разживила она огонь в очаге. Забралась под волчью полость.
Чуяла – смерть мимо прошла, и накал сопротивления ослабевал. Дрожью пронизывало.
Защитные удары сердца делались всё слабее, реже.
Заснула в упадке.
…В сентябре сплющивается на закате радужный разлив, выдавливаются тёплые тона.
Сжимается лето до ядовитой зелени и бирюзы.
Как зеленью и бирюзой в мае начинается, так в сентябре и заканчивается.
Зелень – и сочность, и мертвенность.
Звёздная чернь проистекает из ядовитой зелени…
Перебор копытный по холодной земле слышится в такие ночи за версту.
Вот из оврага донеслось:
– Матрёна! Отгадай! Из ушей дым, от земли пыль, из ноздрей пар.
Во мраке толкалось что-то неясное, слышалось хриплое животное дыхание. Измученная Улита с Прозором на хребте подковыляла к огню.
Прозор спрыгнул на землю в доспехах из братин и кубков. В единой связке сверкали в свете костра и хорошо знакомые, родные Матрёне латунные тазики, миски, ступки с пестиками.
Пук железных иголок упал на её ладонь. И радость-то какая! Зеркальце в свинцовой оправе.
Махом сбросил Прозор с плеча весь этот груз. А перемёты с вином снял с кобылы весьма осторожно.
У забора в малиннике выкопал яму, на ощупь спрятал всё привезённое под землю.
Вслепую из лесного уёмища перетаскали они добро с воза. Тарантас закидали ветками. Вытащили чеки из осей. Перекатили колёса в дом. Торопились, как бы с рассветом стражник с Указом не застал.
Спали без задних ног.
Едва докричался до них стрелец на рассвете.
– Обжо! Обжо! – орал он на этот раз. – Часовню рубить! На оборону супротив язвы!
Прозор долго не отвечал.
– Живы? Нет? – взвопил стражник.
– Мёртвого разбудишь! – тихо ответствовал Прозор.
– Обжо! Часовню рубить!
– А что, пищальник, не Сам ли Господь тебе на ухо шепнул – мору конец? Вчера только пикой грозился – на улицу ни шагу?
– Часовню рубить! Грехи замаливать!
Прозор проворчал только для Матрёны:
– Я наперёд отмолился на всю жизнь. Лоб расшиб в Долматове, чтобы Господь свою суку Кугу унял. Да знать, она, блудня, не в его власти.
Ворчал, а на обжо пошёл.
– Мы, девка, попу окладной венец, а он нам – венчальный.
На Руси в те времена летописцы занимались в основном статистикой чумы.
Но в Европе, имеющей более долгий опыт эпидемий, накопился достаточный материал и для обобщений.
Католический священник Поль Морешон в своём трактате «О чуме» писал, что, как только закончились эпидемии первой волны, произошёл демографический взрыв.
Новые семьи оказывались необычайно плодовиты – в таких браках чаще, чем когда-либо, рождались двойни. И новые поколения людей были менее подвержены заболеванию чумой.
Пассионарный накал был настолько высок, что, несмотря на потери от чумы, Англия и Франция, например, почти 100 лет затем вели упорную войну.
26
Собраны были на угорском капище оставшиеся в живых мужики Игны. Да с ними – пришлый Прозор.
Человек десять.
Сидели на брёвнах.
Перед мужиками держал речь босоногий поп Иоанн в подряснике, скуластый, как монгол.
Норовистый был поп, непредсказуемый.
Вот только что говорил про неимоверные людские горести и плакал. А тут вдруг вместо слёз брызнула из него слюна – это отец Иоанн уже гневался на неотзывчивых.
Только что стоял понурый – и вдруг петухом начал наскакивать на паству, потрясая посохом над головой.
– Во смраде и скверне пребывать не позволю! Прокляну – и батогом вдобавок. Сатанинское отродье!..
Уронил плешивую голову на грудь.
Сопит. И снова тихим голосом:
– Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина…
Пропел чин тропаря Ильи на закладку храма. Посохом процарапал на земле крест, где должен быть престол, и убрёл, горестный, восвояси заждавшихся покойников убирать.
Принялись судить мужики, на какое строение хватит лесу. Сошлись на том, что выходит им рубить клецкий храм в две половинки – алтарную и моленную.
А кровля будет двускатная. И на первое время – без главки.
Моленную уговорились рубить в обло, алтарную – в лапу.
Достали «черту» – металлическую вилку для раскроя пазов. Шнурок саженный, в аршин, и вершковый.
Отвес – с камушком на конце.
И в первый же день уместили три венца.
В сердцах православных священников в те времена жили ещё отвага и беззаветность.
Они смело шли в гущу народа утешать и призывать падших к восстанию духа.
В 1540 году зачумлённые псковичи пригласили архиепископа Новгородского Василия приехать к ним для благословления.
Владыка побывал в моровом Пскове, отслужил несколько литургий, а на обратном пути в Новгород 3 июня умер от чумы.
Думается, он знал об опасности и сознательно шёл на риск.
Трагической смертью, но в другом роде, погиб и архиепископ Московский Амвросий. Его растерзала толпа в Донском монастыре за то, что распорядился запечатать короб для приношений Боголюбской иконе Божией Матери, и саму икону убрать во избежание скопления народа и дальнейшего распространения эпидемии чумы…
Деяния знатных церковных иерархов отмечены в летописи.
Надо полагать, не меньше благородства и самопожертвования было явлено и безвестными приходскими священниками…
27
К Покрову полон двор добра навозил Прозор в Игну из зачумлённой Синцовской.
По первопутку на санях доставил Матрёне корыто.
Жили они уже в предбаннике. Каменка калилась загодя, и с мороза в кипятке лопнуло привезённое «мамино» корыто.
Матрёна разревелась. Первую стирку затеяла. Что-то религиозное, обрядовое, древнее поднималось в молодой бабьей душе и вдруг оборвалось. А уж бельё в ручьевине два дня как замочено. Нельзя дальше откладывать, иначе остановится движение домашней жизни.
– Вы бы мне, Прозор Петрович, выкопали канавку в глине, – дрожащим голосом вымолвила Матрёна. – Я бы тогда и без корыта управилась.
Не надо было мужику в те времена долго объяснять, зачем бабе понадобилась канава.
Заступ пошёл в ход. Дернину по краям выложил Прозор для водоотбоя, ещё глины сверху, чтобы выше было. И бельё, сорочки, порты, рубахи – Матрёна смаху да в эту грязь.
И пошла наша Матрёна на белье танец танцевать, вытаптывать из холстины сало, копоть, вшей и блох…
Той порой Прозор на Воронухе в постромках приволок из лесу осиновый комель. И теслом принялся выбирать середину.
Матрёна плясала в канаве.
Прозор постукивал железом по дереву.
– В новом корыте на Масленицу мы с тобой, девка, с горы покатимся!
– Да уж, Прозор Петрович, мне с брюхом как раз в пору по сугробам кувыркаться.
– Не век сосун. Через год стригун. А там и в хомут пора.
– Вы, Прозор Петрович, так говорите, будто я жеребчика под сердцем ношу.
– У ребят, что у жеребят, по два зуба. Много их у меня было. Все на небо ускакали. Без них горе. А с ними, Матрёна, вдвое.
– У нас с вами, Прозор Петрович, хорошие детки будут.
– Дай Бог деток. Дай Бог путных…
Полоскала Матрёна в сизой воде Ваги, на коленях с заберега, с узкой ледяной полочки.
Во всю ширь – бело. Ивняк на другом берегу закуржевел. Только и цветного вокруг, что на голове у Матрёны красный плат, да руки алые. Ломит до локтей, а пальцы и вовсе словно не свои.
Пока тряпицу козонками не перетрёшь, глина из неё не выйдет.
Возила Матрёна холстину под водой – там как будто теплее. А стала выжимать, тут морозцем и охватило.
Скорее опять в ледяную воду на обогрев.
Большими рыбинами ходили в глубине полотнища. Словно вцеплялись в руку Матрёны и норовили на дно уволочь. Однако всё-таки одна за другой оказывались эти рыбины в корзине…
Черепашкой вползла тринадцатилетняя молодка на высокий берег. За верёвку втянула корзину с постирушками.
Теперь белое – по снегу раскидать. Тёмное – по жердям.
Застынет холст на морозе, станет гулким, как барабан.
Оттает и досохнет в бане.
Вальком разгладится на лавке.
Отлежится в сундуке…
28
В даровой избе Матрёна с Прозором ещё не жили (ждали отца Иоанна для освящения), хотя Прозор внутрь заходил, что-то подтёсывал там, подколачивал.
Печь топил.
Прибрёл, наконец, священник, в лаптях, в рясе поверх полушубка, толстый, мордатый.
Потребовал углей в кадило.
Оловянный шар на грубой пеньковой верёвке превратился у него из кадила в жаровню, ибо вместо заморского ладана отец Иоанн натрусил на угли сосновой смолы – живицы.
«Воньё благоуханно» невидимыми лучами пронизало воздух в избе.
Звякнули бубенчики на кадиле.
Мрачным, недобрым голосом прочитал поп на пороге чин о храмине, спасаемой от злых духов.
Сотворил молитву «над пещию».
Грозно прикрикнул на Прозора:
– Воду неси. Кропить буду.
Пока Прозор бегал с горшком к ручью, отец Иоанн всплакнул над Матрёной, погоревал:
– Одна слеза катилась, другая воротилась. Волос у тебя кучерявый, как у блудниц на святых образах. Но коли ты, жёнка, натерпелась горя в младые лета, так, видно, узнала, как по правде жить. Беда вымучит, беда и выучит… А где это твой мужик запропастился? Ехал Прозор за попом, да убился о пень лбом!..
Напевно, жалостливо сказывал, а увидав Прозора, заорал ему в лицо:
– Да воскреснет Бог и расточатся врата Его!
Не иначе, казалось, по уму попа, лукавый в самом Прозоре обитал и из него должен быть изгнан.
Пучком смоченных веток хлестнул отец Иоанн перед лицом Прозора будто розгами, с просвистом.
И вдруг опять мешком пал на лавку, тяжко задумался.
Бормочет:
– Страху много, а плакаться не о чем…
Матрёна кинулась вон, вернулась из бани с горшком сочива. А Прозор выставил перед попом вино в склянице.
И – чудо чудное для Игны – серебряный печенежский кубок с косым срезом.
– Вишь, разбойник! Нагрёб добра. Разживаешься на чужом-то несчастье, – опять взвился отец Иоанн.
Учтиво, без трепета, прямо глядя на попа своими бокастыми глазами, Прозор пояснил, что имущество это – из приданого. Законным обладателем коего является отец жены, то есть покойный тесть, достославный Геласий Никифорович Синцов!
И главное, выразил попу Прозор, никакое счастье не делается на чужом несчастье. А только на своём собственном.
– Речистый шиш! – воскликнул отец Иоанн и вскочил на ноги. – Много знай, да мало бай!
Покинул жилище с громом посоха и бубенцовым бряком кадила.
29
Кибитка мчалась вдоль пологого берега Ваги, в стороне от промоин крутояра.
Из-под кованых копыт в мягком мартовском снегу стреляло кубиками.
Гонец Ямского приказа сидел на облучке боком. Крылом поднятого воротника укрывался от встречного ветра и комьев снега[85]85
Зипун лазоревый астрадинный; шапка вишнёвая с пухом; кушак кожаный с ножнами; кафтан шубной полусуконный подлазоревый, – такова полагалась форма гонцу тех времён по документам Архива древних актов.
[Закрыть].
Вторую неделю как из Москвы.
Вельё, Судрома, Игна… Мутным взглядом гонец обшаривал дали.
Вешки побежали круто в бок, вывели со льда по склону оврага в сосновый бор на высоком берегу.
Конь тяжело дышал. Шагом миновал раздёрганную засеку карантина на въезде в деревню.
Баба с бадейками на коромысле уступила дорогу.
– Есть тут у вас трёхлошадные? – спросил гонец.
– Разве что Прозор этот, пришлый. Как будто не сдох у него ещё мезенец. Вчера по дрова на нём ездил. Да и кобылы ходят.
Кибитка остановилась у ворот с железным замком.
Гонец достал из дальнего угла возка кошель – звенели в нём монеты и весы с гирьками (после мора пошли в обращение кольца, камушки).
Сгрёб в охапку пищаль с бердышом.
Пинком распахнул приворотье.
30
Видит, во дворе мужик верхом на колоде сидит и бьёт теслом меж ног.
Конечно, слышал этот мужик и скрип полозьев, и конские фырки, и властительные шаги, но занятия не оставил. Только дело переменил – инструмент обтёр полой зипуна и повёл точилом по лезвию.
– Ты Прозор?
– Как есть.
– Царёва гонца встречай!
– Милости просим.
– Ночлег! Стол! Перемена!
Гонец для острастки грохнул прикладом пищали.
Подействовало.
– В избу пожалуйте.
Матрёна видела гостя через слюду в окошке. Собралась со всеми силами и понятиями так, что даже ноготки в ладони вонзились. Мыслью окинула владения, оценила возможности. Перина… Солёная щука… Полба пареная… Полкаравая ржаного…
В подполе – квас, склянь с вином…
Есть чем бабоньке оборону держать!
Наелся служивый и полез на лежанку. Оттуда разомлело начал выставлять требования.
– Моего каурого себе ты, Прозор, на откорм поставишь. Свою вороную утром мне запряжёшь. В Ровде переменю. На обратном пути её тебе опять пригоню. На кауром уеду в Судрому…
– Выходит, ты меня в ямского подряжаешь?
– Так, так…
– Это чтобы ваш брат гонец по морде хлестал? Лучше я в извоз пойду. На торги в Важский городок и в Вельё… Тут что в одну, что в другую сторону – два перегона, одинаково. И без мордобоя.
– Ну, те времена прошли, чтобы мы вам в зубы. Теперь запрещено. Теперь обхождение. А баба твоя пускай кашеварит. Гоньба должна быть сыта.
– Объедите вы нас до нитки.
– Сказано – другое время!
– Что же, или на казённый кошт ставите?
– Удумал! Казна одна, а вас таких много. Вот тебе бумага с государевой печатью. Грамотен?
– Подьячим служил у Василия Долматова, Царствие Небесное.
– Ну, тогда у тебя обратного ходу совсем нет! Читай, на ус мотай!
Прозор развернул пергамент.
«…Куда были преж сего дороги, и ныне бы те дороги были чисты, и через реки перевозы по государевым, а через ручьи мосты вново добрые. А по лесам дорогу чистить поперек полторы сажени, и выскиди (бурелом) и поперечный лес высекати. А на ручьях мосты мостити поперек полторы сажени. А где на проезжей дороге косогоры, тут бы были выемки… По тракту ставить вехи… Если на худом мосту седок изувечится или лошадь ногу изломит, то весь убыток взять с местника…»
Гонец достал из кошеля гудок из бычьего рога с клеймом Ямского приказа в виде короны и кинул Прозору.
– Вот держи царёв дар! Дуй!
Сиплый нехороший звук вырвался из раструба.
– Зубами возьмись и пуще! Пуще!
Боркнуло из рожка так, что Прозор испугался.
Неслыханно сильно загудело.
А Матрёна от такого звука улыбнулась и на носки приподнялась, воспарила на миг – для неё показалось напевно.
– Во брат! Как глухарь на токовище! – хохотал гонец.
Оглядывая чудо-рог, Прозор не забывал и о деле.
– Воронуха-то у меня не кована…
– Снимай с моего каурого подковы, ставь на свою кобылу! – приказал гонец и затих.
Сморило его[86]86
Ямскую гоньбу организовали на Руси монголо-татары. Нравы при них были жестокими. Кто не давал лошадей, не клал гати и мосты, тех принуждали силой, избивали, убивали в устрашение. Затем из Москвы почти в таком же стиле управляла дорогами Казна княжеская. Нравы смягчились только к середине XVI века, когда появился Ямской приказ. Началось «финансирование» ямов из Москвы, и на станциях предписывалась «оплата всех услуг» постоялого двора (кормление людей, лошадей, ковка, ремонт экипажей).
[Закрыть].
31
И обрушилась на Матрёну самистая трудовая жизнь. Поспать бы беременной бабо-девке, ублажить себя на утреннем, полётном, сладком часу… Нет! До свету встала, коль хозяин уже на ногах, кресалом сыпал искры на припечек.
Вспышки в сплошном мраке высвечивали его бородатое лицо, ленточку бересты, вьющуюся на огоньке, как червяк на острие крючка.
Тёплыми онучами, выдернутыми из-под себя, обернула Матрёна ноги, сунула в ледяные лапти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































