Текст книги "Красный закат в конце июня"
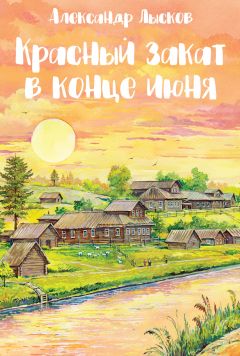
Автор книги: Александр Лысков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Поверх рубахи накрутила на выпяченный живот понёву распашную да ещё влезла в понёву глухую.
Меховой шугай застегнула на груди. И наконец, повойник по-замужнему нахлобучила на голову.
Прозор ушёл коней поить – Матрёна встала на перехват к огню в печи.
Хлынула гарь змеёй из топки к потолку и через дымник на мороз. Глаза не побережёшь – укусит, слезами умоешься.
У батюшки-то Матрёна этот дым только в чёрной бане нюхивала. В избе жили с трубой, по-белому. А здесь чернолапотницей стала: выйдет из дому на снег – чёрные следы за ней.
Пока печь набирала жару, самое время было корову обрядить. Приблудная пеструха впору пришлась. Назвали Чумкой.
И первый горшок тёплой воды с помоями – ей.
Подоила, сама парного молока попила с черствой краюхой. И за корчагу. Ибо квасной день нынче у Матрёны!
Этих самых «кислых щей» в кадке осталось на дне. Постояльцы нагрянут – чем потчевать? Коли нынче никто не ночевал, так, значит, слава Богу, до вечера время есть. До темна не жди гостей – они только ещё где-то в Судроме или в Ровдине запрягали, и волок у них впереди был в тридцать верст.
Но день короток, с воробьиный скок. Давай шевелись!
Уж схвачена была Матрёна общим замыслом.
Что ни шаг её в доме – то шаг коня по тракту к ней с мужиками на постой, на горячий ужин и мягкую лежанку.
Держала ритм.
Ступистые лошадки задавали хозяйке счёт времени. Неумолимо приближались едоки.
И она едва ли не бегом впереди них…
Два ведёрных горшка с водой влезали в печь. Их глиняные стенки такой толщины, что по ним тепло не разбегалось вокруг, один бок горячий, другой холодный. Требовалось постоянно поворачивать. Долго грелись. А в кадку на закваску нужно шесть таких горшков. Хоть до вечера в печи кали – не успеешь: одни кипят, другие стынут.
Вот тут-то Матрёна на подмогу и выкатила трёхведёрную корчагу из шомуши. С ней на брюхе сделалась она вдвойне беременной, и такой чудовищной бабой прошествовала по двору к каменному очагу в снегах.
Сначала сыпанула углей, накидала головней из печи. Потом – поленьев. И как наседку в серёдку – корчагу с водой. Пустила машину в ход. Теперь только смогла Матрёна разогнуться, на небо посмотреть – что там творится, во вселенской-то кухне?…
Мартовское утро к тому времени высветлилось. Туман проредился. Весна внутриутробно шевелилась в снегах. Была подругой Матрёны по несчастью. Тоже творилось что-то в этих туманах -
повсе-дневно,
повсе – часно,
по-минутно,
пошагово,
по-сердца-ударно…
Женщина, мне кажется, чувствует это космическое животворное движение, называемое природой, острее мужчины.
В измельчённости бытия каждый удар сердца женщины проживается деятельнее, детальнее, глубже и желаннее мужского. (Хотя есть и мужчины с «бабьим» сердцем, хлопотуны, чистоплюи, гнездовинные такие существа, семейственные. И в то же время могут быть они боксёрами, политическими бойцами, полковниками. Отцы-командиры – это про них.)
Не путать с мужиками.
Ибо мужик если повалился в сани и поехал по дрова, то в этом скрюченном состоянии может долго-долго пребывать. Или сидеть на завалинке и чесаться. На печи лежать. Я уже не говорю о мужицком пьянстве – вот где биение сердца вовсе не связано с повседневностью бытия – оба процесса происходят в разных системах координат.
А женщина, истинная, если и уселась, то обязательно прядёт, шьёт, вяжет. И что ни миг – новое из её рук лезет.
Так же как и в её утробе, ежели там плод, – что ни качок сердца, то волосик чуть-чуть прибавляется в младенческой головке. Клеточка, ноготок у будущего ребёночка…
Каким-то неведомым образом женщина сполна изживает себя в днях своей жизни, до конца реализуется в данном ей отрезке земного времени.
И кроме истории повседневности ничего не ценит.
Другой истории ей как бы и не надо. (Если, конечно, у неё не мужское сердце.)
И уходить в мир иной предпочитает женщина тихо, незаметно.
К старости сжигает письма, дневники (до которых, впрочем, она и вовсе не охотница).
Не очень-то интересуется она тем, что было до неё и будет после. Напротив, мужчины с «бабьим» сердцем падки на древность и будущность протяжённостью в сотни, тысячи лет. Всю жизнь хлопочут о посмертной славе, погребальных почестях и памятниках себе. Они целиком в официальной, политической истории.
Женщина – в повседневной.
А мужик…
Мужик – он весь у Бога за пазухой.
Поехал по дрова – скатертью дорога! Млечным путём!..
Тем более что мы в этой части истории деревни Синцовской жёнку обхаживаем, Матрёну.
32
Первой поспела в печи каша молодильная – из пшеничного помола молочной спелости.
Для самых взыскательных.
А гороховая каша осталась допревать в печи у Матрёны до вечера. Это блюдо без затей – для обозных.
В третьем горшке – каша из заплесневелого зерна, проросшего. С кислинкой. Самая дешёвая.
Закупам по карману.
…Каждой каше – своя цена.
Матрёна счёту была научена ещё при живом тятюшке.
Да уже и через Прозора, через застольные разговоры гостей ей много чего на ум пало.
На днях привезли обозные важную весть: цены на зерно не поднялись в мор!
Да, меньше сеялось.
Ну, так и едоков тоже убывало.
Значит, за блюдо молодильной каши выходило положить Матрёне ездокам не более двух копеек.
А если кому-то востребуется в эту кашу ложка льняного масла из папенькиных запасов – с того в добавок до алтына (З копейки).
В такой же деревянной посудине гороховую кашу отпускала Матрёна по одной копейке.
С маслом, опять же, по две.
А пророщенная стоила у неё полушку.
Ели её люди без достатка, не сдабривали.
Щей (овоЩей) Матрёна не варила. Не нашлось в новых владеньях ни корешка капустного, морковного, редечного. Должно, вся посадка сгнила в мор не убранная.
Уху бы затеять, так до ловли рыбы Прозор не охоч.
Надо сказать, его и со стрелой в лес не манило. И тенёта силков раскидывать меж деревьев ему было в тягость.
Расслабила мужика писарская служба, пригасила в нём добычливое начало.
Из писарской да в ямскую – вот это у него гладко вышло!
Уже и лошадей у Прозора было полдюжины. На перемену гонцам всегда пожалуй – ста.
И сам он, когда запрягал в тарантасную коробуху на санях, да кушаком тестиным (Геласьевым) подпоясывался, да в казённый рожок задувал, то доставлял тороватого человека на забористой Воронухе – в Судрому – одним махом.
«Но!» – в Игне.
«Тпрру!» – через тридцать вёрст – уже в Судроме.
33
Чудесным образом и в Матрёне вдруг тоже открылась эта удаль скоростная. Маменькино, что ли, огневое начало выплеснулось?
По двору от крыльца к корчаге пробегала она с прискоком. Обратно – с песенкой.
Зима и горе девичье остались позади.
Приёмная деревня Игна утопла в солнечной мге. Вдоль стен дома Матрёны зелёные проталины легли лентами. Бедоносица (мать-и-мачеха) проклюнулась. Как тут в пляс не пойти?
В горнице действовала Матрёна как на поле боя – с кочергой в руках, с ухватом.
Ежели одна хозяйничала в хоромах – было где ей, маховитой, безоглядно размахнуться, разлететься, душу отвести.
Стол секачом скоблила. Пестиком в ступе перебивала на толокно жареный овёс. Скрежетала, стучала. Просторная изба – это по ней!
Но и при людях часто забывалась, прытью своей обуреваемая.
Только успевали уворачиваться от неё.
Опасливо косились постояльцы:
– Эй, рукоятью в лоб заедешь – уймись…
– Кипятком окатишь – не так бы скоро, девка!
(Всё никак, даже с пузом, бабу в ней не видели.)
– Ты, Прозор Петрович, взнуздай её да в трензеля, иначе зашибёт.
А она на краснобая да с рогачом наперевес – воительница!
– А вот я вас сейчас навилю! Заколю!..
– Чумовая ты у меня, Матрёна! – томным, не своим голосом гундосил потом косоглазый наедине с жёнкой.
Сморкался в тёмном углу, чтобы слабости не обнаружить…
Лихостью своей и прозвище она себе накликала. Мол, да уж! Веретено! Потому и от чумы-болезни увильнула.
По весям разнеслось – Мотря Чумовая…
…Жалко ей дня!
Тепло вместе со светом утягивалось за леса.
Снега обдавали холодом.
Вызревали в небе искорки морозные…
В сумерках порожнюю корчагу со двора, из костра, уволокла Матрёна в шомушу.
Две горсти квасных одонков вместе с солодом брошены были в корчагу. Ещё, для брожения, сухарей.
Затем, и главное, – пробка ударом девичьего кулачка вбита была в крышку…
Теперь, человече жаждущий, жди, пока эту пробку оттуда кислым духом не вышибет…
34
Матрёна с лучиной сидела в полудрёме за прялкой, когда на дворе послышался скрип полозьев, конское фырканье и гомон мужиков.
– Поклон Матрёне Геласьевне! – донёсся от порога звонкий голос дьяка Большого прихода, статного молодца с медным килтом на груди. Опять руки станет распускать, коли Прозор нынче в Важском городке. Носит этого дьяка, окаянного.
Вслед за налоговым дьяком стали выныривать из-под низкой колоды один за другим: – посланец боярина Бельского – подьячий в медвежьем тулупе в пол-избы, ехавший в северные владения с вестью о созыве земского собора; затем из насильного поклона при пороге вознёсся во весь рост дьяк Удельного приказа, землемер. Подавай молодому царю арифметику владений! Тоже гость необъятный – в трёх суконных и меховых оболочках; потом повалили в избу обозные с Вычегодских солеварниц. Эти в обтёрханных кафтанах, драных заячьих шубейках – люди лёгкие, необременительные.
Последними явились на постой ямщики приказных – забитые ножнами и пинками невзрачные мужичонки в зипунах и шерстяных платках, перекрещенных на груди.
Шубы, кафтаны, зипуны покидали мужики в угол у печи.
Расселись по чину.
Дьяки с подьячими – в светлом углу у кованого светца. Промышляющие солью – в серёдке. У самых дверей в слабых бликах горящей лучины – ямской люд.
Всем будет горячее. Хотя хозяйка так молода, что по первой ходке гостям не верилось в её умение и расторопность. Брюхатая. Смешная. Бегает – утицей переваливается. Но оказалась поворотливой. Бойкой на язык и скорой на расправу. Этому, с медным-то килтом на груди, как даст локтем по шее, так он, охальник, долго потом шею трёт под общий хохот.
…Теснились на лавках вплотную единой мужской многортовой громадой. Ублажали утробы горячим хлёбовом, согревали живительной пищей прозябшие телеса. Каша из печи да в брюхо – ох и томительно!
Разговор был общим, без различия чинов.
В верхнем конце стола речь пошла о пахотной новинке – о трёхзубой сохе. И уши навострил самый последний ямщичёнко у порога. Подал слово:
– Так ведь и конь тогда нужен трёхжильный!
В общем суждении сошлись на том, что и пара утянет.
А когда Матрёна поднесла состоятельным по стакану мёду, то, пригубляя из оловянной посудины, они разговор на мёд перевели. Невиданное дело, стали обсказывать бывалые, мол, бортничество повсюду глохнет. А поднимается пасечный сбор. Приручают пчёлок. Избушки им строят. Не надо теперь за гнёздами по лесу бегать. Только руку протяни – тут тебе и сладкое.
– Ну, муху залучить – это уразуметь просто, – сомневались мужики. – Муха сама в избу летит. А пчелу как?
Тоже – на приманку, на мёд.
Смеялись как над шутником. Потом внимательно слушали рассказ этого умелого. Выходило, что когда найдёшь дикую соту, то надо брать её двумя лучинами.
Но главное, матку поймать! Из рядна мешок сшить, и соту с маткой в этот мешок, да завязать как можно быстрее. Потом эту соту в улей сунешь, так уж матка никуда оттуда не денется. Обдомашнеет. На зиму заснёт.
И этот человеческий улей в путевой избе Матрёны понемногу затихал. Валились на нары, по углам.
Только и места Матрёне оставалось, что возле печи.
Здесь в лохани перебывали все её горшки и чаши, ставцы и ставчики, черпаки и ложки. Мутилась водичка добрым питьём для коровы… От жары и духоты у Матрёны перед глазами совсем померкло.
Очухиваться вышла на поветь, взялась за вилы – просветлело в голове.
Раз мужа нет, надо коням приезжих сена задать. Три навильника – полушка.
Чужим рукам в этом деле нет у Матрёны доверия. Чужой, без присмотра, и все четыре навильника бросит своему коню…
Доспала она урывками среди мужичья. А утром не то для неё стало главное, чтобы опять кашу из печи достать да раскидать посуду по столу, – это пустое, – а то главное, чтобы плату с постояльцев получить сполна. Есть такие, что ни гроша за душой. Хотя уж на копейку наели. Что с ними делать?
Не могла Матрёна, как Прозор: ворота на замок – и не выехать неплательщику (тюрьма). Шапку или рукавицы оставляй в залог.
А у молодой хозяйки слабинка имеется.
Матрёна Геласьевна в долг кормит!
А мы для неё за то огнива не пожалеем. Затеплим поутру огонёк в печи.
Несподручно бабоньке кресалом-то по кремню выщёлкивать…
35
Возки, кибитки, сани вереницей утекали в сторону Вологды.
И всякий из отъезжающих, кроме разве что самого зашнюканного, болезненного погонялы, оглядывался на хозяйку у гостевых ворот. Бросал в память о ней, может быть, и непристойности. Но даже у грубиянов в глазах мерцало светло.
С большим животом под двумя понёвами, в шали, накинутой на повойник, колобком, катышиком выглядела Матрёна издали, с седалищ и лежбищ отъезжающих постояльцев.
И хорошо им, бродням, было знать, что есть такой двор на тысячевёрстом пути, на бескрайних просторах, где малолетняя бабёнка властвует над их оглоязычной мужицкой ватагой, блюдёт их и правит ими.
Думой дороги, песней нескончаемого пути были наполнены души сытых, здоровых мужиков на тракте после ночлега в Игне у Матрёны в этот мартовский день 1540 года.
Скрип завёрток, визг полозьев удалялся.
Концевая горка товара, покрытого дерюгой, внедрилась в снежную даль, и всё замерло.
36
На столе стояла угловатая корзина – лотошница с двумя крышками, сплетённая из прутьев, отбелённых в зольном щёлоке, будто из кости вырезанная.
В корзине лежали разноцветные шерстяные яблоки – клубки крашеной пряжи, намотанные на пучках пижмы (от моли).
Матрёна выкладывала клубки на выскобленную столешницу. Соединяла в соцветия, загадывала узор для варежек Прозору Петровичу, для чулочков будущему младенчику, для себя – на поясок.
По столу перекатывала клубки, будто на Крещенье гадала.
К лазурному кафтану хозяина рукавицы представлялись ей амарантовые, а узор по ним – буланый.
А чтобы в масть пришлось и мальчику, и девочке (Бог знает, кто родится), чулочки бы она связала для них наполовину фрязовые (малиновые) и зекерные (тёмно-синие).
И по будущему пояску было где разыграться воображению Матрёны – переливались цвета в волшебной корзине от вороньего глаза (чёрный) и до иудина дерева (ярко-розовый).
Каждая ниточка перебывала в руках покойного тяти. Протянута батюшкой в красильном чане и высушена на вешалах.
Касаясь шерстяных клубков, Матрёна будто по бороде батюшку гладила. Спасибо за труды земные, унаследованные Матрёной.
«Оно, конечно, в гробу карманов нет, как внушал поп Иоанн, мол, с собой добро не унесёшь. Но разве для того богатство копится, чтобы с собой в гроб уносить? – думала Матрёна. – А детки-то на что? Деткам всё остаётся. И через это тоже человек бессмертен становится».
37
Земля подо льдом, ни одно зёрнышко ещё не проткнулось, а в тепле бабьих рук вьюнок ожил.
По спице из тальника змеилась петелька за петелькой.
Матрёна улыбалась.
Представилось ей, будто в одно и то же время как бы и коза траву ест, и шерстинки на ней растут, и над козой тата склонился с ножницами, кованными еще прадедушкой Иваном.
А коза-то всё травку щиплет!
И кажется, из самой матушки земли тянется через козу нить, дальше через веретено в клубок и – юрк! – под остриё вязального прутика Матрёны.
Уже манжета у рукавички была готова. И теперь второй земной росточек (этот буланого цвета) лез в сплетения нитей: то прятался под основу, то игриво выныривал.
И получался – Узор!..
Велик, переливчат цветной мир Божий.
Глянешь вокруг, – ну, что сказать? Не иначе как замысел Создателя весь и состоял из художеств.
Но вот остыл Творец. Выразил, что хотел, – и призадумался. Не загнуть ли, мол, новые пяльца и не зажать ли в них свежий холст? И не начать ли новую вышивку, теперь уже крестиком?
А если получились на старом полотне какие огрехи, небрежности, так это дело учеников – доводить, подрисовывать.
И на кого же оставил Он доводку подробностей, кому передоверил прорисовку мелкостей своего земного произведения?
Ну, не блаженному же недотёпистому Адаму.
Со времён Евы, может быть, даже с момента мысли её о листке смоковницы, человеческая рука продолжила грандиозный замысел. Более того, покусился человек на создание параллельной красоты мира Божьего.
Она, Ева, первой вняла смущению Адама и первой произвела художническое действие.
Адам-то (после всего случившегося), конечно, находился в ступоре. А она – богоподобная (её ведь идея – будем как Бог! Будем создавать людей из плоти своей, как прародитель из глины!), она, Ева, сорвала листок со смоковницы (инжира, фиги) и дала Адаму, чтобы прикрылся, очумелый.
Прибавила нечто к созданию Божию! Да и не остановилась на том. А ещё и возлюбила украшаемое любовью смертной, земной, думается мне, ничуть не ниже Божественной. Может быть, даже в более милосердном её варианте.
И в сердце самого Христа не она ли, Ева, заронила эту свою любовь? Право!
Иисусова-то любовь не женскую ли природу имеет?
На это трудно ответить с твёрдостью неоспоримой.
Любовь Божья и любовь женщины – одного ли они духа?…
Зато во второй-то своей ипостаси – красоте – Ева, несомненно, наследница Создателя по прямой линии. Ибо сама она и есть первородная красота.
Потому и вокруг себя не может не распространять всякие изящества.
Матрёна не исключение.
Мужчины (в том числе и тятенька Геласий, красильщик, тоже в своей сути Адам) потворствовали Матрёне и вечно будут потворствовать женщине в этом её светлом украшательском устремлении. Исполнять её волю.
Освобождать от тягот грубого труда.
Или сами, уподобившись ей, будут становиться художниками, дополняющими изыск Творца.
Тишина… Тычутся спицы друг в дружку. Пульсирует огонь в печи.
И вдруг – под сердцем толчок. Возня, не сказать чтобы внутри Матрёны, а где-то очень близко с ней. Словно зайчонок за пазухой. Или язык за щекой.
Ишь ты, только на четвёртый месяц дал о себе знать. До этого словно его там и не было!
Полсрока легко носила, значит, мальчик будет. Теперь вязанье в сторону, иначе все ходы ребёнку завяжутся, – таково поверье.
Корзине-лотошнице с начатыми варежками до лета в клети стоять.
И за кросна Матрёне нельзя теперь садиться. Только и можно, что из старого перекраивать для младенчика.
За что же взяться?… Тут кстати солнце со стола спрыгнуло на пол, указало Матрёне путь к двери, к коромыслу с бадейками…
38
…Прошло тридцать лет.
В жаркое утро травеня 1570 года, на Лукерью-комарницу, со скрипом раскрылись ворота глухого забора постоялого двора в Игне.
Конюх отступил в сторону от ворот и крикнул:
– Покупай, Геласьевна, не скупись! Поезжай – веселись!
Пара лошадей рванула повозку. Копыта разом взбили влажный песок.
Смазанные колёса не скрипнули, тяжёлые дроги стали мягко вдавливаться в улицу Игны, выгороженную пряслами с обеих сторон.
Дроги были доверху нагружены одёжными тюками и коробами с посудой. А сзади, тоже будто поклажа, мостился ветхий старик в войлочном кафтане и тёплом колпаке.
Тощие ноги седока в больших лаптях болтались между задних колёс как неживые.

– Хозяин! Никола тебе в путь! – крикнул ему вдогонку конюх.
Старик в ответ только прослезился.
За околицей отсчёт путешествию повели верстовые столбы – островерхие брусья в два человеческих роста с цифирью на вытесях.
В гору бабе пришлось толкать дроги сзади в помощь тяглу. Выходило, что и старика, словно дитя в люльке, толкала.
– Как вам, Прозор Петрович, не твёрдо ли? Может, сена подложить?
Старик глуховат был. Глядел на её губы. И вместо ответа опять заслезились у него мутные, на стороны вывернутые глаза. Изъездился по земле человек, устал и усох. А давно ли на этой дороге девчонку захватил он лихим, молодецким увозом, самовольно обженил под собой ночью, сонную… Матрёна для тепла подоткнула ему полы кафтана и забралась на передок.
39
Ехала баба на дрогах верста за верстою,
Тёк по Руси незаметный шестнадцатый век.
Баба – не курица. Баба с обычной судьбою:
Возчица. И плодоносица. И – человек.
Ехала баба по жизни своей безоглядно.
Смысла в оглядке не виделось, как ни крути:
Что позади не останется в час предзакатный,
То же и поутру встанет пред ней на пути.
В свете печи, у скотины, над стиральным чаном,
Уповод с люлькой, за прялкой. А в праздничный час —
С песней протяжной и выходом в пляс величавым.
В Преображение – светлый на убрусе Спас.
Кажется, нету бесславнее доли на свете:
Нищенство духа… Глухая тщета бытия…
Баба, во-первых. Жена, во-вторых. Ну а в-третьих,
Словом обмолвлюсь об этом предмете и я.
Царь на Москве испокон похваляется войском.
Веет над толпами рекрутов смерти тоска…
Русскую бабу сравню я с зарядным устройством,
И в расточительстве вольт обвиню мужика.
Богу – пятак да в кабак – четвертак. Жизнь – копейка!..
Баба корову и в рай за собой поведёт.
Он молодец – без овец. Была бы жалейка.
Скупо – не глупо, – такой у хозяйки расчёт.
У мужиков испокон бабий ум не в почёте.
С ярмарки зеркальце ей да вязан калачей.
Думы у бабы без шуму, в работе, в заботе.
Добрая баба умна и без умных речей.
Город без баб не стоит. И изба пропадает.
Думку хоронит за прялкой при свете лучин.
Год наперёд передумает, на печь влезая.
Семьдесят дум перемыслит, сползая с печи.
В память царей – мавзолеи, скульптуры, медали.
Книги, парсуны, архивы и колокола.
Память о бабе – у Бога в небесных скрижалях.
Вот упокоилась – будто бы и не жила.
Пусто в дому. Позабыт заведённый порядок.
Чахнет скотина. Тесто не дышит в квашнях.
Благо ещё, коль невестка подхватит упадок,
Так же бесследно промаявшись в этих стенах.
Скажете – дети! Не лучшая ль память о бабах!
Плоть унаследуют, облик и нрав не они ль?
…Едет Матрёна. Дроги гремят на ухабах.
Лошади мерно взбивают дорожную пыль…
Старший ушёл за ватагой хотячих из Вятки
В войско царёво, на Астрахань, лиха избыть.
Дом – полной чашей. Женись, обживайся в достатке…
Видно, взыграла в нём бабки цыганская прыть.
Сгинул на воле… Едва улетучилось горе,
Средний – красавец, любимец, на гуслях игрец —
В драку полез с безбородыми. Ловкий угорец
В сердце ножом – и навеки уснул молодец.
Младший (не в братьев) – домашней, хозяйственной стати.
Мать у огня. Постояльцы и кони – на нём.
Хворому тяте отрадно с печи наблюдать:
Сын обходителен, вдумчив и скор на подъём…
Кроткую брал… Оказалась змеёй подколодной.
Норов собачий, чуть что – за ухват и в оскал.
Мать костерит самоходкой, воровкой безродной.
Брату отцову, мол, двор этот принадлежал!
Сыну бы встать на защиту родительской правды,
Власть показать. Укротить молодицы разгул.
Видно, сробел. На крылечко лишь вышел на проводы.
Выйти-то вышел, но даже рукой не взмахнул.
Едет Матрёна, солёные вёрсты считая.
Солнце на небе, в судьбе – непроглядный туман.
Мимо Матрёны промчалась чума моровая,
А домовая под корень срубила чума.
40
Матрёна стала поворачивать, а кони заупрямились, словно просили возницу ещё раз подумать, туда ли правит.
Кнутом получили умники. Ринулись по заброшенной дороге. Крушили копытами сушняк. Молодняк обламывали вальком.
Вот впереди молодая майская листва осветилась ягелем.
Последний рывок – и запалённая пара вылетела на просторы соснового бора.
Матрёна ослабила черезседельник, кинула под морды лошадей по клоку сена. Успокоила Прозора Петровича:
– Комариков тут вовсе нет. Благодать. Отдохни. Я недолго.
И пошла с гребком в руке между соснами в ту сторону, где на подъёме, казалось, лес вовсе кончался.
Вдруг словно на невидимое препятствие наткнулась – отшатнуло её от могучей сосны с затесью в гроздьях смолы.
Она пала перед ней на колени:
– Мама, благослови!
С одного маху гребок легко вошел в мох.
Со второго вонзился в песок.
Углубилась по пах.
Присела в яме, скрылась с головой и опять гребком из-под ствола стала выпархивать влажный песок.
И тут обрушился свод её пещеры и сверху вывалился фамильный ставец – прямо в руки Матрёны, будто сам батюшка Геласий Никифорович подал с небес.
Ставец был как новенький, даже просмолённые веревочки на крышке, крест-накрест, не сгнили.
Лезвием гребка Матрёна перепилила завязку и подняла крышку.
И вдруг стало светло на дне ямы – опять незабываемым сном обволокло Матрёну: будто её, девочку, тятенька на торжище в Важском городке подвёл к лавке персиянина. Звёздами блистали там украшения.
И тятенька предлагал выбрать колечко по душе…
Здесь же, в ставце, всклень было и колечек с камушками, и браслетов из витой золотой проволоки.
Сверкали хрустальные бусы и височные кольца из бронзы. Дорогим яйцом жар-птицы сиял золотой колт с расплавленной эмалью в перегородках.
А запусти руку поглубже, и вычерпнешь горсть монет.
Тут и гривны слитками, будто крохотные веретёнца, и серебреники со златниками ценой в куну (сорок шкурок куниц). И чеканные грошики.
Тридцать лет Матрёна в памяти держала маменькины слова про зарубку на этой сосне в бору на Заболотье.
Не растратчицей жила, – работницей.
Помнила про чёрный день.
Вот он и настал.
День дождливый к вечеру, ветреный.
Всю дорогу тянулась, гналась за Матрёной сизая туча, а когда здесь настигла, то будто и силу свою потеряла, и желание увязить повозку в хлябях лесных.
Встал морок, постоял и повалил в сторону.
Засветилось всё кругом.
Словно искры от каменьев из ставца в яме разбежались по миру Божьему.
И будто от этого запала вспыхнуло солнце, взрывно разнесло жаркий свет по неоглядным далям, рассыпало по мокрым листьям и травам, по речным перекатам.
На возу Матрёна уложила ставец в корзину с бельём.
Прикрутила верёвкой к козлам.
И опять сена под бока мужа наподтыкала.
– Сейчас Ржавое болото будет, Прозор Петрович, потом перелесок. А там и деревенька моя родная. Оттуда уж нас с тобой никто не выгонит…
Можно с уверенностью сказать, что второе пришествие в деревне Синцовской или, вернее, на то место, где до разгула чумы стояла эта деревня, произошло в 1570 году.
В Архиве древних актов хранятся растрёпанные листы твёрдой, когда-то, видимо, синей бумаги. Эту историческую труху даже в руки не дают. Только в фотокопии. Страницы не нумерованы. Начала и конца фолиант не имеет. От одной из записей вдруг повеяло теплом:
«…важский писец Никита Зарубин со товарищи лета 7070 осьмаго (то есть в 1572 году от Рождества Христова) узрел в дер. Синцовской на реке Пуе дворы пусты язвою. А пашут те дворы наездом из деревни Кремлихи Николка Ошурок и Василий Брага. Пашни 17 четвертей без полуосьмины. Сена 130 копен… Там же двор вдовы Матрёны Ласьковой. Пашни 23 четверти. Сена 180 копен…»
Значит, Прозор Петрович к тому времени уже помер, иначе бы женщину не упомянули писцы. Женщина в те времена вполне могла распоряжаться только своим приданым.
И, как видно, распорядилась – дом построила, распахала залежи. Сена наготовила. Лошадям на прокорм хватало. Ещё и корове оставалось. Одной ей, конечно, за два года не одолеть было столько работы. Наймиты, закупы были пущены в дело.
А денежки тятеньки и дальше продолжали «работать».
Из оброчной описи в «Данской книге» Важского уезда за 1580 год находим следующую запись: «…Мельниц на оброке… На реке Пуе – одна нижнебойная в д. Синцовской у Василия Браги…»
Это ли не свидетельство хозяйской разворотливости Матрёны (а кто же кроме неё мог раскошелиться в «чумовой» деревне на постройку мельницы?). Не угорец же Василий Браго. Хозяином «мукомольного производства» его записали как мужчину. Но инвестором-то выступила, конечно, Матрёна, ставшая к тому времени мужней женой.
Так и попал счастливчик Браго в историю.
Ну, и сказать остаётся, что мельницы на реках строили тогда двух видов – верхнебойные и нижнебойные. В зависимости от того, сверху или снизу лился поток воды на лопатки колеса.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































