Читать книгу "Суицидология: прошлое и настоящее: проблема самоубиства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах"
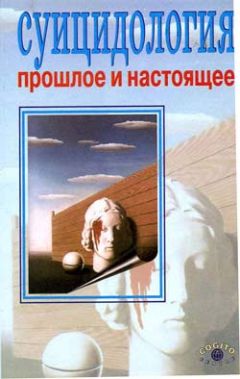
Автор книги: Александр Моховиков
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Прежде всего потому, что мы руководствуемся жаждой жизни, не задавая себе никаких вопросов. Даже если мы задались вопросом, если всякая трансценденция исчезает от нас и все становится объективно бессмысленным, мы все же продолжаем дальше жить изо дня в день в тупой неясности благодаря нашей жизненной силе (Vitalitat), возможно, презирая при этом самих себя. Поскольку мы в течение долгих периодов жизни ведем такое основанное на жизненной силе эмпирическое существование, мы питаем уважение к самоубийце, который, опираясь на свободу, сопротивляется абсолютности основанного на жизненной силе наличного бытия. Правда, мы, руководствуясь жизненной силой, испытываем страх перед самоубийцей. Мы говорим, например, что опасно следовать подобным душевным порывам и мыслям, что нужно придерживаться того, что считается нормальным и здравым. Но такой ход является сокрытием, если таким образом мы препятствуем тому, чтобы поставить под сомнение нашу слепую жизненную силу. Мы хотели бы избежать пограничных ситуаций, но не можем успокоится, потому что жизнь отдана в распоряжение жизненной силе, которая однажды покинет нас.
Или мы живем, не только руководствуясь жизненной силой, но и подлинно существуя (existierend). Однако в силу самодостоверности наших свободных действий наличное бытие получает свой символический характер. В жизни удерживает нас не какой—то смысл, который мы сознательно рассматриваем в качестве конечной цели жизни в этом мире, а присутствие трансценденции в тех жизненных целях, которые нас наполняют. Эта жизненная воля представляет для нас концентрированное выражение того, что в настоящий момент является для нас действительным. Бесконечность возможного и абсолютные критерии общего плана привели бы к отрицанию наличного бытия, если бы они уничтожили сознание историчности. Если поэтому перед лицом самоубийства, осознавая серьезность ситуации и находясь в состоянии кризиса, мы воспринимаем жизнь, не только руководствуясь жизненной силой, но и подлинно существуя, то такой жизненный выбор является одновременно ограничением самим по себе. Поскольку такое ограничение означает исключение возможностей, то отрицание, вместо того чтобы распространиться на все наличное бытие, поглощается этим наличным бытием. Отказать себе в чем—то, согласиться с утратой возможностей, потерпеть крах, выдержать взгляд, проникающий во все уничтожающее наличное бытие, – все это заставляет наличное бытие измениться. Оно потеряло бы свою абсолютность, которой оно обладает ради жизненной силы. Если бы этот мир был всем, то с экзистенциальной точки зрения оставалось бы только самоубийство. Только символический характер наличного бытия позволяет нам, не обманываясь гармонией бытия, сказать, oсознавая его относительность: «Какова бы ни была жизнь, она хороша». Собственно, это слово может быть истинным только во взгляде, обращенном назад, но его возможности достаточны для того, чтобы ухватиться за жизнь.
На вопрос «Почему мы остаемся жить?» можно в конечном счете ответить так: решение жить существенно отличается от решения покончить с собой. В то время как самоубийство в качестве активного действия касается жизни в целом, всякая активность этой жизни является частичной и решение остаться жить по сравнению с возможностью самоубийства является упущением. Так как я не дал себе эту жизнь, то я только решаю, позволить ли существовать тому, что уже есть. Нет соответствующего тотального действия, посредством которого я лишаю себя жизни. Поэтому существует только страх самоубийства, который переходит некоторую границу, за пределы которой не проникает никакое знание.
Утверждение, что жизнь хороша, не является абсолютно истинным, иначе оно должно было бы считать хорошим и самоубийство. Для подлинного существования жизнь может стать невыносимой из—за ситуаций, в которые мы попадаем, и изменения нашей собственной жизненной силы. Самоубийство могло бы стать действием, не обусловленным этими условиями, но не действием, с абсолютным убеждением направленным на наличное бытие вообще, а личной судьбой, которую следовало бы понимать в ее специфических обстоятельствах. Возможной является следующая конструкция.
Для одинокого человека, находящегося в состоянии полной покинутости и осознающего небытие, свободный выбор смерти подобен возвращению к себе домой. Измученный жизнью в этом мире, не имея больше сил продолжать борьбу с самим собой и с этим миром, находясь в состоянии отчаяния из—за болезни или старости, оказавшись перед угрозой скатиться ниже собственного уровня, человек хватается за утешительную мысль, что можно лишить себя жизни, поскольку смерть кажется ему спасением. Где в этом мире соединяются неизлечимое телесное заболевание, недостаток средств и полная изоляция, там совершенно осознанно и без всякого нигилизма может быть отвергнуто не собственное наличное бытие вообще, а то, которое еще могло бы теперь остаться. Это граница жизни, где продолжение жизни уже не может быть обязанностью: если процесс самостановления уже невозможен, то физическое страдание и требования этого мира становятся настолько губительными, что я не могу больше оставаться тем, кем я был. Правда, это происходит в том случае, если меня не покидает храбрость, а вместе с силой исчезает физическая возможность и если нет никого в мире, кто своей любовью мог бы поддержать мое наличное бытие. Самому сильному страданию может быть положен конец, несмотря на то и потому, что готовность жить и поддерживать коммуникацию является наивысшей.
Совершенно одинокий человек, которому люди, составляющие его ближайшее окружение в этом мире, к тому же разъясняют, что они живут в иных мирах, и для которого осуществление любого дела чревато потерями, который сам по себе не способен достичь чистоты сознания бытия, который видит, как он скатывается вниз, если он затем, не упорствуя, спокойно и зрело все взвесив, лишает себя жизни после того, как он привел в порядок свои дела, то он может, пожалуй, сделать это таким образом, как если бы он принес себя в жертву. Самоубийство становится последним свободным актом этой жизни. Оно сохраняет доверие, спасает чистоту и веру, не ранит ни одного из живущих людей, не прерывает коммуникации и не совершает предательства. Оно стоит на границе невозможности осуществления (Nichtverwirklichenkоnnens), и никто ничего не теряет.
Но и эта конструкция самоубийства в ситуации невыносимости жизни не является подлинным пониманием проблемы. На ее основе можно только высветить способность вынести глубочайшую нищету нашей жизни и ее возможного еще в любом случае опыта, исходя из неисследованности трансценденции:
Гл о с т е р:
Я понял все. Отныне покоряюсь
Своей судьбе безропотно покамест
Она сама не скажет: «Уходи».
О, всеблагие боги! Вас молю:
Возьмите жизнь мою, чтоб нрав мой слабый
Мне вновь самодовольства не внушил.
Э д г а р:
Опять дурные мысли? Человек
Не властен в часе своего ухода
И срока своего прихода в мир.
Но надо лишь всегда быть наготове.
(Перевод Б. Пастернака)
Наконец, можно сконструировать такую возможность самоубийства, которая не является необусловленным действием в пограничной ситуации, а совершается при определенном стечении обстоятельств. Руководствуясь конечными мотивами и не обладая ясным экзистенциальным сознанием, человек в неопределенном и неясном бегстве отказывается от жизни под влиянием таких аффектов, как упрямство, страх и чувство мести. Это имеет место в случае экономического краха, осознания совершенного преступления, обморочного состояния из—за нанесенного оскорбления, а также тогда, когда уязвлено мелкое самолюбие. Самоубийство становится психологически понятным на основе предпосылки наличия такого стечения обстоятельств, которое самосознание не способно ни осознать ни распутать. Человек действительно не знает, что он делает. В данном случае психологическое понимание означает одновременно и оценку, ибо оно видит выход из данной запутанной ситуации.
Примеры. Самоубийство – это обольщение в состоянии отчаяния, возникающего при осознании ничтожности и сопровождаемого ненавистью к самому себе и другим. Как имеется обыкновенная ярость в случае получения телесной травмы, так имеется и простое упрямство в случае отклонения требования с другой стороны. Затем гордость, которая в противном случае породила бы тенденцию упрекать другого человека, как только окажется раздутой, может искать вину в себе и в смущении идти путем, ведущим к прерыванию коммуникации. Но далее возникает опасность растратить себя в лишенном экзистенциальных основ (existenzlosen) самоубийстве и решить с его помощью те проблемы, которые можно было бы решить в наличном бытии. Или другой пример. Спрашивают о самоубийстве, и мысль привыкает к этой возможности. Она используется в качестве угрозы в борьбе с самим собой как утешение, которое мы находим в чувстве собственной ничтожности. Делаются приготовления, они даже еще необязательны. Ситуации развиваются так, что в конце концов кажется, будто нельзя уже более вернуться назад. Хотя воли к самоубийству уже совершенно нет, оно все же совершается в полном отчаянии вследствие стыда и неясного чувства неотвратимости.
Если кажется, что кому—то угрожает самоубийство, то доверительное спасение может происходить следующим образом: при психозах единственным средством спасения считается надзор за больным в течении всего времени опасности. В случае конечных коллизий, которые можно понять, задача состоит в том, чтобы разрешить данный конфликт. В случае, когда предполагают безнадежную болезнь или другую угрозу жизни, то убедительное сообщение о возможном благоприятном исходе является тем способом, который помогает отсрочить самоубийство. Эти способы оказания помощи касаются самоубийства как действия, обусловленного причинами, которые можно понять. Но действию, совершенному необусловленно, ничто не поможет. Решительность, которая есть нечто большее, чем любой аффект, и которая как таковая уже вышла за пределы наличного бытия, обладает совершенным молчанием.
В случае неясного осознания бытия помощь, направленная на то, чтобы прояснить пограничную ситуацию, является путем, хотя и пробуждающим жизнь, но все же опасным. В качестве пробуждающего пути он вырывает человека из конфликта конечных интересов, а в качестве опасного он может как раз привести к ясному осознанию необусловленности небытия, выраженному в воле самоубийцы. Если затем непостижимая необусловленность становится действительной в качестве возможности абсолютного отрицания, то, по—видимому, нет никакого спасения. Самоубийца ни с кем не говорит необусловленно, и для оставшихся в живых его конец покрыт мраком. Именно в абсолютном одиночестве никто не может помочь.
В пограничных ситуациях все действия по своему смыслу настолько непосредственно касаются нас самих, что никто не может помочь нам принять решение. Ведь даже в одной и той же пограничной ситуации, касающейся одного и того же действия, двое людей, находящихся в коммуникации, не всегда могут достаточно ясно выразить свои чувства, подобно тому, как этого не могут сделать двое влюбленных, совершающих одновременно самоубийство. Нельзя кому—либо советовать или кого—либо уговаривать, обращаясь к его безусловному истоку. Никто не может необусловленно спросить другого, должен ли он делать это. В среде рассуждений, предназначенных для сознания вообще, перестает существовать необусловленность.
Абсолютное одиночество остается без помощи. Необусловленное отрицание как источник самоубийства означает изоляцию. Поэтом у, если коммуникация удается, то это означает спасение. Высказывания планирующего самоубийство – это уже поиск, если они являются выражением любви к тому, кто имеет на него право. Это шанс, ибо приоткрыта тайна. Поэтому главное состоит в том, отвечает ли экзистенция тому, кто находится в пограничной ситуации. Его ответ должен был бы проникнуть в душу так же глубоко, как это раньше делало сознание, ибо наше Я и наличное бытие ничего не стоят. Однако не является главным то, что совершается на основе аргументации, опирающейся на разумные основания, не дружеское расположение и уговоры, а только такая любовь, поведение которой не обсуждается, ведет нас, не руководствуясь каким—либо планом, хотя она повсюду необусловленно стремится к рациональной ясности. Такая любовь в своей наивысшей раскованности и прозорливости позволяет все и требует всего. Однако любовь, основанная на энтузиазме, невозможна по отношению к каждому человеку и всем его близким. Ее нельзя желать. Она является не человеколюбием исповедника и невропатолога или же мудростью философа, а тем единичным актом любви, в котором начинается подлинное существование человека, когда включаются все его резервы и он не имеет никаких скрытых мыслей. Поэтому только она вместе с влюбленным, которому угрожает опасность, вступает в пограничную ситуацию. Для него помощью в конечном счете является только то, что он любим. Эта помощь неповторима, неподражаема и несводима ни к каким правилам.
Если тот, кому угрожает опасность, говорил о самоубийстве, то он мог просто искать помощи. Это не следует смешивать с тем случаем, который нельзя объективно отличить от данного, когда намерение совершить самоубийство высказывается с целью оказать влияние на другого человека и тем самым придать cебе значение. Характеризовать необусловленные действия как преднамеренные означает лишить их необусловенности. Они становятся предметом обсуждения с его аргументацией «за» и «против», становятся средством для другого.
Когда мои мысли необусловлены, я не могу сказать: я лишу себя жизни. Эти слова не являются истинными, как и вообще попытка распространить данные суждение на все случаи, как мы это делаем, например, когда говорим: «Все это обман», «Я все это себе только внушил», «Мне все безразлично». С помощью такого рода суждений я впадаю в самообман, вводя в заблуждение другого. Эти суждения, исходя из обусловленных аффектов, высказываются о необусловленном. Такое высказывание является пустым, потому что оно невыполнимо. В таких случаях самообман только возрастает; он уже не является необусловленным действием, а обуславливает при неясном стечении обстоятельств. Действительно совершаемое действие как действительное еще не является экзистенциальным. Такие движения души, как отчаяние и ярость, ослепляют. Эти слова, несмотря на то, что они выражены в несколько темной форме, могут быть неясным выражением некоторой истины, а именно выражением инстинктивного желания найти таким образом помощь и вернуться к самому себе.
Но по отношению к мертвому самоубийце такая позиция сразу становится иной. Правда, возможную экзистенцию охватывает ужас перед самоубийцей: перед безверием, прерыванием коммуникации, одиночеством. То, что казалось только возможным в качестве границы, здесь является действительностью. Однако суверенный произвол свободы добивается не только внимания. Этот произвол, находясь выше всякой пропасти безверия, которое самоубийца в пограничной ситуации выразил посредством своего самоуничтожения, в раскалывающейся трансценденции сам связывает любящего человека с самоубийцей. В его поступке бытие говорит еще через посредство необусловленного отрицания. Если кажется, что все упреки нигилистически настроенного самоубийцы справедливы, то своим поступком и своей экзистенцией самоубийца словно бы опровергает их. По отношению к мертвому такая оценка преждевременна. Его называли трусом и защищали самих себя, затемняя ситуацию, ведущую в бездну. Таким образом, ни один путь не ведет к пониманию его подлинного существования. Если говорят, что он отбросил Бога, то нужно ответить: это касается самого человека и его Бога, мы ему не судьи. Если говорят, что он нарушил обязательста по отношению к живым, то нужно ответить: это касается только тех, кто с ним общался. Самоубийство означает, пожалуй, прерывание коммуникации. Коммуникация является действительной только в той мере, в какой я верю другому, что он не покинет меня. Если он угрожает самоубийством, то он тем самым ограничивает коммуникацию условиями, то есть он намерен прервать ее в корне. Самоубийство тогда становится чем—то вроде заблуждения другого человека, с которым солидарная жизнь в коммуникации была настоящей только в единстве судеб: позиция, которую я занял, состояла в том, чтобы быть в присутствии другого и вступить в коммуникацию, а я словно бы убегаю. В случае осуществленной коммуникации самоубийство является чем—то вроде предательства. И, несмотря на все это, если участники коммуникации осознают факт предательства и чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, то они должны спросить себя, в какой мере они сами из—за отсутствия коммуникации и недостатка любви были виноваты в случившемся, и тогда они, возможно, увидят бездну трансценденции, в которой невозможность общения упраздняет всякое суждение. Наконец, если говорят, что самоубийца нарушает обязательство по отношению к самому себе, которое требует от него реализовать себя в наличном бытии, то снова следует ответить, что это – тайна самого человека, как и в каком смысле он в действительности «существует». Общий ответ на вопрос, можно ли лишать себя жизни, не был бы безразличен с точки зрения возможности разрешения конфликтных ситуаций. Если в этих ситуациях человек не знает, что он собственно делает, он испугался бы, если бы самоубийство было подвергнуто проклятью, но еще более смущает прославление самоубийства и перспектива посмертной славы. Но такой ответ был бы безразличен для того, кто в полной изоляции, руководствуясь негативной свободой, совершает свой поступок, исходя из безусловности. История самоубийства и его оценки показывают, какие страсти разгорались в споре «за» и «против» самоубийства. Как осуждение самоубийства, так и восхищение им, характеризуют экзистенцию того, кто выносит суждение. Самоубийство может быть актом высшего своеволия, полной самостоятельности. Где в этом мире имеется воля господству над другими, там самоубийство является актом, посредством которого человек может уйти от этого господства. Оно является единственным оружием, которое еще остается у побежденного, чтобы утвердить себя в качестве непобежденного перед лицом победителя подобно тому, как это сделал Катон по отношению к Цезарю. Поэтому самоубийство осуждает тот, кто в глубине души обладает господством. Кто господствует над людьми благодаря тому, что они находят в нем духовную опору и помощь, тот теряет это господство, если человек опирается на свою собственную свободу и ни в ком не нуждается. Самоубийство как обвинение и выпад против превосходящей силы, а также как выход из губительной ситуации может быть выражением самой решительной самостоятельности. Поэтому там, где имело место сознание собственной ответственности перед самим собой, самоубийство не только допускалось философами, но при определенных условиях прославлялось. Нельзя отрицать того, что человек, который совершенно сознательно лишает себя жизни, представляется нашему взору совершенно независимым, полностью опирающимся на самого себя, человеком, который сопротивляется всякому наличному бытию мира, поскольку оно полагается абсолютным или хочет представить себя в качестве приносящего себя в жертву абсолюту и отдает победу своему врагу и победителю. Однако остается наш экзистенциальный ужас.
Николай Бердяев
О САМОУБИЙСТВЕ (Психологический этюд)
IВопрос о самоубийстве – один из самых беспокойных и мучительных в русской эмиграции. Очень много русских кончает жизнь самоубийством. Многие, если еще и не решались убить себя, то носят в себе мысль о самоубийстве. Потеря всякого смысла жизни, оторванность от родины, крушение надежд, одиночество, нужда, болезни, резкое изменение социального положения, когда человек, принадлежавший к высшим классам, делается простым рабочим, и неверие в возможность улучшить свое положение в будущем – все это очень благоприятствует эпидемии самоубийств. Самоубийство как явление индивидуальное существовало во все времена, но иногда оно становится явлением социальным, и таким оно является в наше время в русской эмиграции, где создается для него очень благоприятная коллективная атмосфера. Самоубийство бывает заразительно, и человек, убивающий себя, совершает социальный акт, толкает других на тот же путь, создает психическую атмосферу разложения и упадка. Самоубийца имеет дело не только с самим собой, и насильственное уничтожение собственной жизни имеет значение не только для него одного. Самоубийца вызывает роковую решимость и в других, он сеет смерть. Самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, которые вызывают к себе двойственное отношение. С одной стороны, сам человек, покончивший с собой, вызывает к себе глубокую жалость, сострадание к пережитой им муке. Но самый факт самоубийства вызывает ужас, осуждение как грех и даже как преступление. Близкие часто хотят скрыть этот страшный факт. Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству. Церковь отказывает самоубийце в христианском погребении, на него смотрят как на обреченного на вечную гибель. Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны, и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство как нарушение божьих и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью.
Самоубийство русских в атмосфере эмиграции имеет не только психологический, но и исторический смысл. Оно означает ослабление и разложение русской силы, оно говорит о том, что русские не выдерживают исторического испытания. И бороться с ним нужно прежде всего повышением чувства и сознания своего достоинства, своего призвания. Русский, ощутивший сейчас роковую склонность к самоубийству, не может вызывать к себе слишком строгого и беспощадного отношения. При строгом и беспощадном к нему отношении он всегда вам ответит, что вы находитесь в более привилегированном и счастливом положении и потому не понимаете мучительности и безнадежности его жизни. И нужно прежде всего понять человека, понять сочувственно, поставив себя в его положение. И вот что нужно понять прежде всего. Трудно, очень трудно жить человеку изолированно, одиноко, оторванным от питавшей его родной почвы, чувствовать себя выброшенным в необъятный темный океан чужой ему и страшной жизни. И когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непереносимой. Самое страшное для человека, когда весь окружающий мир – чужой, враждебный, холодный, безучастный к нужде и горю. Не может жить человек в ледяном холоде, он нуждается в тепле. Русская молодежь, рассеянная по всему свету, нередко чувствует себя покинутой на произвол судьбы, беспризорной, предоставленной своим ограниченным силам. Она бьется, пытается отстоять свою жизнь, но иногда изнемогает, теряет силу сопротивления, не выдерживает слишком тяжких испытаний. Причиной склонности к самоубийству в эмиграции является не только материальная нужда, необеспеченность будущего, болезнь, но еще более ужас, что всегда, до конца дней, придется жить в чужом и холодном мире и что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна. Человек может выносить страдания, сил у него больше, чем он сам думает, это достаточно доказано войной и революцией. Но трудно человеку вынести бессмысленность страданий. Ницше говорит, что человек не столько не может вынести страдание, сколько бессмысленности страдания. Страдание, смысл и цель которого сознаны, есть совсем уже иное страдание, чем страдание бесцельное и бессмысленное. Героическое переживание самых тяжких испытаний предполагает сознание смысла испытываемого.
Русская революция принесла людям неисчислимое количество страданий, она есть великое испытание духа. И вот для того, чтобы выдержать это испытание, перенести эти страдания, нужно сознать, что происходящее имеет какой—то смысл, что оно не есть чистая бессмыслица и потеря. Неверное отношение к революции как к чистой бессмыслице, как к совершенно внешнему несчастью, ударившему по жизни людей, как к случайному порождению кучки злодеев приводит к духовно упадочным настроениям в эмиграции, к ощущению совершенной бессмысленности жизни и толкает к насильственному прекращению жизни. Но такой взгляд на несчастья революции совершенно внешний, не духовный, не религиозный, материалистический, обывательский. В действительности революция есть очень серьезный и трагический внутренний момент в судьбе народов, в судьбе каждого из нас. Революция есть историческое событие, происходящее в нас и с нами, как бы мы к ней ни относились, как бы ни возмущались ее злой стороной, она совсем не есть что—то внешнее для нас и совершенно бессмысленное для нашей жизни. Бессмысленно то, что остается совершенно внешним для нас, никак не связанным внутренне с нашей жизнью. Ведь и к несчастьям и испытаниям в личной жизни – смерти близких людей, болезням, бедности, разочарованию в людях, которые казались друзьями и нам изменили, нужно относиться как к имеющим смысл для личной судьбы, как к внутренним, а не внешним событиям, то есть относиться духовно. Это и есть религиозное отношение к жизни. То же нужно сказать и о несчастьях исторических, войнах, революциях, потери отечества, социальной деградации. Революция есть возмездие за грехи прошлого и искупление. Она говорит об общей вине. Никто не может чувствовать себя изъятым из общей вины, из общей судьбы. И только переживание вины делает революцию переносимой. Революция всегда значит, что силы добра не раскрыли себя творчески в жизни, что накопилось много зла и яда, что необходимо обновление через катастрофу и действие злых сил, если не совершается обновление через благую духовную силу. Человек может находиться в эмиграции, быть непримиримым врагом зла большевизма, но и он должен чувствовать и сознавать, что революция есть внутреннее событие, происходящее и в нем, и с ним и что смысл ее может быть огромным для исторической судьбы народа, хотя и совершенно несоизмеримым с тем, в чем его видят сами деятели революции. Душевная подавленность и утеря смысла жизни будут преодолены, если будет сознано, что мы живем в эпоху великого исторического кризиса и перелома, что наступает новый период истории, что старый мир рушится и создается новый, неведомый еще мир. И каждый человек призван быть деятелем в этом процессе. От проявленной им духовной силы зависит будущее. Но такие эпохи всегда порождают большое количество страданий. Страдания же эти не бессмысленны и не бесцельны. Во что бы то ни стало нужно преодолеть упадочное, разлагающее настроение в русской эмиграции, особенно в молодежи. Эти упадочные настроения вырастают от ложного взгляда на испытания революции, от разочарования в старых способах борьбы против большевизма, от ошибочных идей, мешающих духовно пережить революцию. Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений.









































