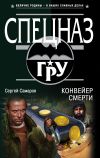Текст книги "Учитель поэзии (сборник)"

Автор книги: Александр Образцов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
6.
Когда-нибудь мне не удастся сохранить брезгливое бесчувствие – ведь Елизавета, подплывающая ко мне мягкой грудью, бесстыжими пальца ми, ярким, как семга, языком, была красивой женщиной. Когда-нибудь она догадается погасить свет и все будет кончено.
– Вредный какой! – говорила Елизавета, в очередной раз обкусав мои губы и отомкнув меня от пуговиц и молний. Я лежал под нею как Чехия под Гитлером – покорно, но суверенно.
Но от одной мысли о том, что мне придется сосуществовать с Елизаветой долгие годы, мороз пробегал по коже.
И выхода я не видел.
7.
Что у меня от мамы – так это голос. Низкий звучный голос с интонациями «чего изволите?». Причем я знаю людей, которые используют эти интонации для маскировки, для того, чтобы не отпугнуть проплывающую мимо рыбешку, а мы… Мы с мамой – два красивых и глупых карася. Нас все время путают по телефону.
– Мария Петровна, это вы? Это Екатерина. Можно Святослава?
– Это я.
– Голос у тебя – женский!
– Это я…кгм… кгм… не прокашлялся…
Высшие силы, которые постоянно и бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь, делая ее запутанной и беспросветной, иногда как будто вспоминают о чувстве меры. Мне звонила моя двоюродная сестра, Екатерина. Это еще то существо. Ей девятнадцать лет, но она уже три года не общается с родственниками. С тех пор, как она заняла второе место на городском конкурсе «Мисс Вселенная», она успела купить однокомнатную квартиру, раз двадцать слетать за границу и пару раз побывать замужем. Мы с ней никогда не дружили. И вот она позвонила.
– Приве-ет! – сказала она лживым оживленным голосом. – Чего не звонишь, птенчик?
(Это я не звоню?! Да посмел бы я…)
– Слушай, – сказала Екатерина без всяких предварительных предложений, – я тут улетаю в Штаты на полгода…
– Поздравляю…
– Не перебивай! Что за привычка! Ты ведь с женщиной разговариваешь! Какие-то вы здесь хамы в этой стране!
И она бросила трубку.
8.
Через десять секунд раздался новый звонок.
– Я же тебе забыла сказать: я улетаю в Штаты на полгода и мне не кому доверить квартиру. Давай переезжай прямо вечером. Но смотри мне – всяких грязнуль чтобы ты сюда не таскал, ясно? Самолет у меня в двадцать три пятьдесят. Чтобы к шести часам был как штык.
9.
Я оставил маме записку следующего содержания:
«Мама!
Если бы я был один, я убежал бы в Хабаровск или куда-нибудь по дальше. Но у меня есть ты. Поэтому я остаюсь в этом городе и буду посылать тебе деньги. Когда этот динозавр перестанет появляться, сообщи мне на Центральный почтамт до востребования. Не плачь. Мне еще хуже».
И ушел.
10.
Екатерина встретила меня с полотенцем на голове. Бесцеремонность ее, казавшаяся хамством, была на самом деле большой степенью свободы. Она непринужденно посвящала меня в тонкости квартировладения, одновременно подкрашиваясь, причесываясь, переодеваясь. Причем она натяги вала колготки, ничуть меня не стесняясь, и поразительно было то, что я смотрел на это спокойно! Что значит – тайный умысел. У нее не было его никогда. Поэтому она летела в Штаты для богатой и радостной жизни, а всевозможные авантюристки обречены были на предательства, измены, разочарования. Так, во всяком случае, она объясняла мне, вползая в облегающее темно серое платье, свои жизненные позиции.
– Ну а ты, птенчик, уже завел себе постоянную девочку? – спросила она рассеянно, завершая окраску лица губами и проминая их одна о другую.
Здесь я не сдержался и стал рассказывать о Елизавете.
11.
Екатерина смеялась, как дитя. Она упала на кровать и билась голо вой. Она подпрыгивала на животе и била себя пятками по попке. Она махала руками, как будто ей не хватала воздуха. Когда я закончил, она была растрепана, грим сбился, но глаза ее блестели, губы смеялись и она была удивительно хороша! Тем более что она тут же решила, как мне жить дальше.
– Она тебя достанет из-под земли. Я бы, во всяком случае, сделала это в элементе… Как? А ты что же думаешь, сведения о человеке уже ничего не стоят?.. Вот! Если сведения о человеке были в нашей стране основным товаром, то уж сегодня-то за баксы тебя привезут хоть в маринаде!.. Не плачь, птенчик, не хмурься. У меня есть для тебя хорошая новость. Вот.
И она бросила мне свой паспорт.
– Что? – не понял я.
– Посмотри на фотографию.
– Ну? И что?
– А то! А теперь посмотри на себя в зеркало! Ничего не находишь?
Как я раньше не замечал! У нас с нею было одно лицо! Вот почему она с детства меня терпеть не могла!
– С сегодняшнего дня будешь называться Екатериной Викторовной Гусевой. Жить будешь в этой уютной квартирке. Носить будешь… – она снова упала, хохоча, и задрыгала ногами, – носить будешь мои… мои лифчики, мои трусики и пользоваться… пользоваться моими памперсами!
12.
Мне было совсем не смешно. О чем я тут же ей сказал в довольно резкой форме. Она нахмурилась.
– Ну и дурак, – сказала она. – Можешь катиться к своему фельдфебелю. И я посмотрю через полгода, когда прилечу из Штатов, как она об тебя ноги вытрет. Ему предлагают такой выход, что другой ради этого вывернулся бы наизнанку, а он, видите ли, не хочет быть клоуном. Это же приключение, ты понимаешь или нет? Это для тебя праздник на полгода!
– Ну, хорошо, – сказал я, – допустим, что это… необычно. Но, во-первых, у меня сорок первый размер обуви…
– Я тебе оставлю две тысячи баксов, не волнуйся. И даже без отдачи, такая я добрая. А сейчас обучу краситься, подкладываться для рельефа под всякие места, пользоваться контрацептивами…
Здесь она снова упала от хохота. У меня задрожали губы.
– Ты можешь надо мной посмеяться, а потом улететь. И там рассказывать эту историю… в лицах… Какие вы злые, женщины.
– Ну что ты, Кать, – сказала она, обнимая меня за плечи, – я ведь любя. Ты знаешь, как мне хочется остаться, чтобы только посмотреть на твои приключения?
– Да, и основное! Самое неприятное, – сказал я, отстраняясь. Все-таки она хотя и была моей двоюродной сестрой, но когда так вот прижималась… – Самое неприятное! – повторил я. – Если ко мне начнут приставать твои знакомые? Или просто какие-то… мордовороты?
13.
Екатерина на этот раз не смеялась. Она задумчиво и печально посмотрела на меня.
– Да, птенчик, – сказала она. – Это действительно неприятно, когда им отвечаешь отказом. Даже не то слово – «неприятно». Тут такое начинается, что хочется взять в руки Калашников. И здесь я могу посоветовать тебе одно: найди фирму, где хозяйка – женщина. Желательно не замужняя.
Остаток вечера прошел у нас в учебе. Я с удивлением убедился в том, что женщина тратит на себя раз в десять больше времени, чем муж чина. Видимо, поэтому она и живет дольше. Ногти, ресницы, брови, кремы, пудры, тени, маски, чулки, колготки, перчатки, сумочка с ее содержимым, духи, прическа, губы, сережки, кольца, и еще сотни каких-то брошек, бус, браслетов, лаков и помад!
Мы решили, что несколько дней я не буду выходить на улицу, а нач ну таскать всю эту амуницию по квартире, привыкая к ней. На первое время Екатерина подпилила мне ногти, покрыла их светло красным лаком, проколола мочки ушей и подровняла прическу. Когда я начну выходить, сказала она, то первое, что я должен сделать, это пойти в парикмахерскую. Здесь, сказала она, денег жалеть не надо. Затем она внимательно, вблизи осмотрела мое лицо и с удовлетворением заметила, что усы мои пока не темнеют, что это пушок, а не усы, что этот пушок на самом деле таит для меня главную опасность, потому что половина активных мужиков падки именно на пушок… Словом, когда прибыло такси, что бы везти ее в Шереметьево, она обняла меня за шею и крепко, совсем не по-родственному поцеловала в губы на прощанье. Я списал это на вполне понятное возбуждение: известно ведь, что женщина возбуждается от ситуации, а не от первого встречного…
14.
Стоит рассказать, как я в пятницу вышел в го род в шубке и сапогах. Раньше этого я сделать не смог, потому что целыми днями решал одну проблему – не сошел ли я с ума? И действительно: то я напяливал не себя кружевные трусики, лифчик, чулки, платье и туфли на высоких каблуках, то срывал с себя всю эту нелепую амуницию. Надо было прыгать в новую жизнь, как в холодную воду.
И я прыгнул. После того, как увидел в окно Елизавету! Она внимательно осматривала мой новый дом с бульвара, сверяясь с картой «боевых действий».
«Ах, так! – решил я. – Ну, так получи!»
15.
И я вышел в шубке из шиншиллы, которая рядом с ее норковой была как «мерс» рядом с «копейкой», и сапоги у меня были английские, не ее пиренеи.
Я вышел из парадной, снег сверкал на Чистых прудах алмазными горами, и пошел к метро.
Я прошел мимо Елизаветы, стоящей столбом, презрительно оглядев ее коренастую фигуру. Не зря я вторую неделю зарывался в каталоги. Теперь я видел, что Елизавета была одета случайно и вряд ли могла произвести впечатление на действительно богатых людей.
Больше того, я вдруг освободился от зависимости. Мне ничего не стоило подойти сейчас к ней и ошеломить признанием маскарада.
Но меня ждали другие горизонты…
Брандахлыст
Брандахлыст начинался со змееобразного отростка.
В нем долгое время не обнаруживалось никаких особых талантов. Ну – ползал, потом слонялся из угла в угол. Растапливал печь и сидел на корточках, устремляясь за огненными змеями, за треском пожираемых сучьев.
Брандахлыст – Брандахлыст и есть.
Озарен был мгновенно, поздней осенью. Стучал дождь. Трещали сучья. На когда-то крашеном полу суетились красные мыши – вестники поддувала.
«А ведь ничего не надо, – подумал Брандахлыст. – Ничего.»
И прошептал:
– Ни-че-го.
Брандахлыстиха принесла очередную охапку сучьев, грохнула их на жестяную покрышку. Заплакал сын Брандахлыста, – проснулся.
Наутро Брандахлыст был уже в районном центре. Агитировал он на железнодорожном вокзале. Встречал поезда с востока и с запада – стоянка здесь для всех была одинакова, шесть минут – он успевал пройти по земле от первого вагона до четвертого, затем подтягивался на руках на бетонную платформу, шел до одиннадцатого, спрыгивал в гарь и заканчивал шестнадцатым вагоном, повторяя открывшуюся ему истину:
– Ведь ничего нам больше не надо. Ничего!
Озадаченные пассажиры провожали его приближающимися к истине глаза ми и возбужденно пересказывали услышанное в купе и тамбурах.
– Действительно! Что нам еще надо?.. Ничего! Куда мы, прости господи, рвемся?..
Так пошла гулять по земле брандахлыстова ересь.
Власти издавали указы, постановления, конституцию меняли, пытаясь расшевелить население областей – все тщетно. Тот, у кого была печка, садился у нее на корточки, задумчиво следил за игрой огня. У кого печки не было (а таких оказалось большинство) собирались у костров на окраинах, в заброшенных парках, а то и в кочегарках, не переведенных по ка на газовое топливо, и смотрели, как одна стихия переходит в другую. Могучая сила людей возвращалась к ним.
Брандахлыста же власти все-таки вычислили, привезли в столицу, и он, как это всегда случается, начал проповедовать в различных закрытых компаниях. И камины были для этого сооружены из особого краснощекого кирпича, и люди собирались в очках, с блестящими волосами – а все было как-то не взаправду.
Брандахлыст скучал.
И называл он эти свои сегодняшние дела одним словом – грустнопупие. Или разнопопие. Смотря по настроению.
Возвращение
На юге жили бабка с дедом – единственная его родня. Лев Алексеевич помнил, как до войны, пятилетним мальчиком, вместе с родителями гостил у них. Помнил большой дом – пять окон на улицу, в котором в каждой комнате пахло по-своему: нафталином, луком, какими-то травами, яблока ми, примусом, но везде пахло одинаково – старостью, хотя тогда-то, до войны, и деду и бабке было всего под пятьдесят. Во дворе, за загородкой, жили утки, и всегда, когда он вспоминал детство, то видел со стороны себя, заспанного и обиженного ускользнувшим сном, выходящего из темных сеней под как бы навес двора, в шумное кряканье уток, видел бабку, с досадой отгоняющую их от корыта с пойлом. А двор был как бы под навесом из-за того, что с двух сторон над ним поднимались крыши дома и сарая, а с третьей начинался сад, который сиял от солнца. Двор же был в тени, и в эту тень входил дед и шел к Леве от рукомойника, держа на ладони грушу. И вкус этой груши, и мельканье утиных крыльев и шей, лицо деда под соломенной шляпой, сидящего перед ним на корточках, оставались в нем самым четким воспоминанием раннего детства.
И почему все это вспомнилось в жаркий полдень в Новороссийске, на вокзале, в ожидании поезда на Москву? Лев Алексеевич точно знал, когда он подумал об этом. Жена пила газированную воду, а он, сидя на скамье, оглянулся, отыскивая ее глазами, и тогда заметил этого старика. Старик был в посеревшей от старости кепке, серой дешевой рубахе, застегнутой на все три пуговицы, так что ворот ее вреза́лся в дряблую шею с редкой седой щетиной. Сухожилия собирали старую кожу в мешочек, и со своими выпученными глазами старик походил на индюка. Он сидел, расставив ко лени и упираясь в них разведенными в локтях руками. Было что-то жалкое и одновременно наглое в его позе. Как будто жизнь учила и била его очень долго, а теперь отступилась, но он никак не мог этому поверить и ждал, поводя своими выпученными глазами, новых ударов.
Разве таким был его дед? Каким он был? И жив ли он сейчас? В пяти десятом он был жив-здоров. Единственная телеграмма, которую Лева получил после смерти отца, была телеграмма от бабки с дедом.
Потом он уехал и никогда больше не возвращался на железнодорожную станцию, где остались могилы отца и матери.
Какие это были веселые, лихие и жуткие времена! До двадцати лет Лева благополучно избегал зоны, мотался по городам от Прибалтики до Урала, знал вокзалы, как свой дом. Они и были его домом. Как он был удач лив в вагонных и вокзальных кражах! Однажды в Москве он сидел в ресторане «Центральный» за одним столиком с Эдди Рознером и украл у него портсигар. Эта история принесла ему такое уважение у блатных, что он начал сомневаться в относительной и абсолютной ценности подвигов вообще.
Что его заставило завязать? Ерунда, один разговор. Собственно, Лева и не студента этого имел ввиду, а супружескую пару, приискателей, в том купе. Он играл обычно роль генеральского сына, навещавшего отца. Странно, он перепробовал много ролей – и юного геолога, и сына академика, и бедного студента, но ни одна из них не вызывала особого доверия. Генеральский же сын вызывал не только доверие – раболепие. Стоило ему сказать впопад или невпопад «мой отец, генерал-лейтенант…», как женщины бледнели от волнения, а мужчины порывались вставать. Вот и тогда после этих слов приискатель в полосатой пижаме, с брюзгливым ртом, висячими бровями мгновенно выпрямил спину и положил руки на ко лени.
– Вы не представляете, как я вам завидую, – сказал вдруг студент.
– Да? – Лева свысока посмотрел на него.
– Вы меня не так поняли, – улыбнулся студент. – У вашего отца, видимо, отличная библиотека. Мечта моего детства – иметь богатую библиотеку.
– У отца в основном военная литература, – сказал Лева.
– Все равно, – ответил студент. – Там, где есть книги, много книг, они притягивают другие книги, не обязательно специальные. Наверняка в вашей библиотеке есть Тацит и Плутарх. А если есть они, как же обойтись без Светония. А там и Апулей недалеко. Да! – засмеялся студент и глубоко вздохнул от наслаждения. – Какая радость – читать книгу! Ведь это подумать только: человек всю жизнь по крупице собирал мудрость, исследовал историю, характеры и писал книгу. Всю жизнь! Ты берешь и читаешь ее. И как бы ты медленно и вдумчиво ни читал, а больше двух недель чтение не продлится. Две недели – и вся жизнь. А?
– А ваш отец, извините, – сказал приискатель, обращаясь к Леве, – корпусом, а? Это, – командует?
– Об этом не говорят, – отрезал Лева.
– Да-да, – совершенно стушевался приискатель.
– Танкист, – бросил Лева и обернулся к студенту: – Что толку от этого чтения? Все равно, что в замочную скважину смотреть.
– Не знаю, – сказал студент. – Я так не думаю. Люди одинаковы. И жизни их, в принципе, одни и те же. И уроки те же, и мораль.
– Ну вот, – сказал Лева. – Тем более.
– Это я по поводу замочной скважины. Да, люди одинаковы, но как умны некоторые из них, какие у них богатые чувства, какие красивые поступки! И если он пишет – значит, доверяет тебе, доверяет самое ценное в своей жизни и не боится, что ты над ним посмеешься. Нет, это не замочная скважина…
Ночью, выходя с чемоданом приискателя, Лева не забыл прихватить ба ул студента. Он настолько привык воровать, что раскаяние ощутил лишь года через четыре, сам будучи студентом.
Так и сейчас, увидев этого старика и вспомнив деда, Лев Алексеевич впервые почувствовал – нет, не раскаяние, – а печаль, как будто прокатился по своим сорока шести годам, как по ступеням. Так быстро пролетело время! И неужели все эти годы были живы его единственные кровные родные?
Жена, вернувшись, тяжело села рядом. Жару она переносила плохо, но каждый год рвалась на юг.
– Что такое? – спросила она.
– Знаешь, – сказал Лев Алексеевич, – я вспомнил. У меня ведь здесь недалеко дед с бабкой жили.
– Жили или живут?
– Не знаю, – сказал Лев Алексеевич, помолчав. – Откуда мне знать. Я их сорок лет… в упор не видел.
– Заедем? – спросила жена.
Всегда она соглашалась заранее. Такая у нее была тактика. Если они вместе проходили мимо ресторана, она тут же говорила: «Зайдем?» И ему, конечно, этот ресторан становился безразличен. Вот и сейчас она хочет отвадить его от поездки. Она ждет, что он будет говорить о жаре, о том, что времени нет. Ждет, что он сам откажется. А может, она действительно для него старается? Двадцать с лишним лет прожили вместе, а никак ее не раскусить. И ведь проверял не раз – и в рестораны заходил, и по незнакомым компаниям таскал. Все проверки выдержала. А знает же, знает, вычислила, что так ей выгоднее. Лев Алексеевич чувствовал это, а доказать не мог. И это его бесило и придавало интерес к семейной жизни.
– Поехали, – сказал он.
– Будем билеты сдавать? – деловито сказала жена.
– Не надо. Сделаем остановку в Тихорецке.
– Хорошо, – согласилась жена.
Лев Алексеевич внимательно посмотрел на нее.
– Не хочешь ехать? – спросил он.
– Что значит – не хочешь? Надо, – ответила она.
– Если не хочешь, не поедем, – сказал он.
– Мы же решили.
– Это я решил. А ты сама хочешь ехать?
– Но мы же решили!
Она смотрела ему прямо в глаза.
– Хорошо, – сказал он и не удержался: – Смотри, без нытья.
– Разве я когда-нибудь ною?
– Вот и подозрительно, что не ноешь.
Жена пожала плечами и ничего не ответила.
В станицу они приехали ночью. Вокзал был новый. И он, и маленькая площадь с крытым павильоном на автобусной остановке были чужими. Вот только пирамидальные тополя что-то напоминали Льву Алексеевичу. Когда же он отошел от вокзала метров на двести, то остановился и принюхался. Знакомый сладкий запах также вспомнился. Пахло степью, какими-то травами, чем еще? Запах взволновал его.
«А что? – подумал он. – Может, живы».
До этой минуты он не верил во встречу.
Было два часа ночи. Лев Алексеевич вернулся на вокзал. Жена сидела на скамье, положив голову на свернутый плащ.
– Нет такси? – спросила она, не открывая глаз.
– Какое тут такси? Свет только на центральной улице… Это у них «порядки» называются, – вдруг вспомнил Лев Алексеевич.
– Да уж, порядки.
– Улицы у них называются «порядками». Или не улицы, а кварталы. Не помню… А ты знаешь, здесь они долго живут. Лет до девяноста.
– На фруктах.
– Вот. Еще вспомнил – жердёла. Это абрикос. Муляка. Это… тина, что ли?
Жена промолчала.
– Что, Лида, тяжело? – спросил Лев Алексеевич. Он растрогался от воспоминаний и пристально посмотрел в ее лицо.
– Нет, ничего, – она открыла глаза. – Ты и адреса не знаешь?
– Недалеко от рынка. Между мостом и рынком. Там такая низинка, в луже утки плавали и горячая-горячая пыль на дороге… между пальцев обволакивала…
– Что ты ей скажешь?
– Ей?.. Нет, Лида, одинокие старики друг без друга не живут…
Лев Алексеевич встал и глубоко вздохнул.
– Что же это мы так все растеряли? – сказал он. – В пятьдесят лет начинаешь родственников искать… А в газетах? «Ищу брата. В сорок первом получили последнее письмо». Понимаешь? Почему никто не напишет «ищу брата с сорок первого года»?.. Закопошились.
– Перед концом света.
– Конец света уже был, Лидок, – Лев Алексеевич сел. – А может, последняя репетиция. Достань-ка арбуз.
Они съели целый арбуз. Потом Лев Алексеевич снова дышал запахом степи. Он стоял за переездом, закрыв глаза, и дышал, но на этот раз ничего не вспоминалось. Лев Алексеевич представил себя со стороны, плюнул и решил спать.
Он несколько раз просыпался. На жесткой скамье отнимались то рука, то нога, а под утро затекла шея, и он с страхом почувствовал себя обезглавленным. И еще он понял, что никому все это не нужно – ни ему, ни старикам, если они живы, ни тем более жене. Блажь какая-то, глупость. Через три дня на завод, в цех – вот это нужно, это его жизнь. А то, что прошло, то отвалилось. Что он скажет старикам? «Здравствуйте, я – Лева». – «Какой Лева?» – «Сын вашей дочери, Анны». – «Ани? Это какой же сын…» – и начнутся выяснения, потом вздохи, слезы, какие-то старые, плохо мытые тарелки возникнут, спать положат на кисло пахнущем, сыром матраце, заявятся родственники со всей станицы, будут приглядываться, перешептываться, уезжать придется тоже с нервами, уже навсегда… Нет.
Лев Алексеевич посмотрел на жену. Вот кто измучился, вот перед кем он виноват.
– Ничего, Лида, считай, что была нелетная погода. Сейчас поедем дальше.
– Как дальше? – не поняла она.
– А так. Закомпостируем билеты и поедем. Зря я это затеял.
– Почему зря? Не зря, – сказала она, помолчав. – Вот я всю ночь не спала, все думала – ты ведь совсем один всю жизнь. Поэтому и к своей семье не привык.
– Я? – возмутился Лев Алексеевич. – К семье? К пацанам? Да ты…
– Да не про то я… Как-то ты… не прирос. Ходишь вокруг, смотришь, а войти не можешь.
– О-о! – пророкотал Лев Алексеевич и встал. – О-о! Бунт на корабле!
– Ты ведь знаешь, я никогда не бунтую. Но для тебя что цех, что дом – одно и то же. Ты и там и там начальник.
– Вот что, Лидия, ты хотя и педагог, а дура! Тьфу!
Лев Алексеевич вышел из вокзала, сердито огляделся. Асфальт, почти засыпанный пылью с обочин, был в выбоинах, трещинах. Автобусный павильон перемазан грязью, краской, надписями. Даже тополя напоминали фикусы в затрапезной столовой, белые от пыли. Ехал старик на велосипеде, с каким-то веником на багажнике. У павильона толпились тетки в платочках на брови и в сапогах. И болела шея.
– Поехали, – бросил он жене, вернувшись.
– Поезд через три часа, – сказала она, как ни в чем не бывало.
– Ты… извини, – сказал Лев Алексеевич, не глядя на нее.
– Может быть, пока… на рынок сходим?
– Давай, – согласился он.
«Нет, – подумал Лев Алексеевич, шагая следом за ней, – все-таки она рыбина, ох и рыбина!»
Но было приятно, что эта умная, непонятно для него думающая женщина – его жена.
Они не стали дожидаться автобуса и побрели вдоль садов, непривычно частых домов к центру. Иногда останавливались, спрашивали дорогу к рынку. Им отвечали по-деревенски обстоятельно, чисто по-русски. Его это удивляло.
– Перевелись казаки, – сказал он. – Я один только и остался. «Ка-аким ты был, таким остался…» – негромко затянул он. – Да вот эта старушка, – показал он в глубь двора за серым низким забором, где старушка в зеленой кофте, наклонившись над корытом, выливала туда из ведра пойло, а утки вытягивали шеи, били крыльями, неуклюже топтались вокруг, крякая и поднимая пыль…
– Бабушка, – сказал Лев Алексеевич и заплакал.