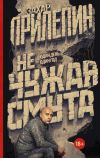Текст книги "День, когда я стал настоящим мужчиной (сборник)"

Автор книги: Александр Терехов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В один из последующих дней (а скорее всего, наутро) вот что я должен был узнать: дембеля не подозревали, что прорвались на журфак именно в то трагическое двадцатилетие, когда он получил звание «факультета спорта с небольшим журналистским уклоном» – верховодил на факультете не тихий декан Засурский, а заведующая кафедрой физического воспитания Светлана Михайловна Гришина (многие хронисты именуют ее «Гестаповна» – я этого не запомнил, но согласен полностью), сосредоточившая в своих руках колоссальную и бесконтрольную…
Света установила зверские порядки.
Вы, молодое поколение, счастливые выпускники других факультетов и высших заведений, не сможете в это поверить, но я пересказываю не чьи-то басни, всё это происходило не просто на моих глазах, а со мной – живой свидетель! – в последние пять лет советского века, рукой подать; в сердце Москвы, напротив Кремля существовала самая настоящая каторга: Света ставила зачет по физкультуре (вдумайтесь в то, что прочтете следом, именно так!) только тем, кто не имел ни одного прогула (тридцать два занятия в семестр!) и сдал все положенные нормативы! И ни разу! За двадцать лет своего правления! Света не отступила от этого противоречащего самой человеческой природе правила, особенно невыносимого на факультете журналистики (сборище отъявленных лодырей и проныр) и особенно невыносимого в стране, где ни одна досточка к тому времени не прилегала плотно в заборе к другой, где не выполнялся ни один закон, ни одна буква присяги, где не делалось ничего из того, что говорилось, – и часто я думаю, что главной и последней скрепой русской жизни в конце двадцатого века было не КГБ, а Света с кафедры физвоспитания, и не «всего лишь», а – Света!
И я, серьезный мужик (на курсе попадались и женатые, и отцы), только что снявший погоны, должен буду купить трусы с лампасами, бежать за трамваем вместе с недавними школьниками, «строиться по росту», «равняться», «разминаться» и бросать в кольцо по свистку, если не загремлю прямо на дно ада – «на лыжи», где даже на лавочке в тепле не посидишь, где всё время бегают на время – под дождиком и в любой мороз!
Я слушал и не верил, я, можно сказать (извините за крепкое словцо), тихо изумлялся, но думал обычное русское (неправду говорят, что мы непредприимчивая нация!): ладно, ладно, ну не может быть такого, чтобы ничего нельзя было сделать, все сдались, впряглись, а я – хрен. Начну как все, присмотрюсь, потерплю, а потом откошу тихонечко и буду припухать, не по зубам я Свете – так думал каждый на первом курсе, и на втором, и так далее, пока проклятое «физвосп» наконец-то не становилось «факультативным».
Во владения Светы на первом этаже – в конце большого коридора маленький коридор и каморка направо, возле мужской раздевалки, – я пришел записываться и сделать всё, чтобы не попасть «на лыжи», – а что я мог сделать? Да ничего. По-про-сить! Тетенька, не ставьте меня, пожалуйста, «на лыжи». Мне не хочется. Ага.
Света оказалась седой – волосы прямые и довольно длинные; тонкие и сварливые черты лица, хрипловатый голос, готовый перекричать любой шум-гам, всегда одинаковая – спортивный синий костюм, кроссовки и свисток на груди, глаза казались мне голубыми, или это так костюм ее и утреннее солнце в спортзале так сейчас отсвечивают в мою память. Чуть задранные плечи. Света не выглядела злодеем, хотя ее лицо казалось промерзшим и заснеженным, и могла посмеяться, но сама по себе, отдельно; в ее облике и поступках я ни разу не чувствовал тепла, того, что бы я предпочел назвать человечностью. Никогда я не слышал от нее ни одного слова, не связанного с «темой нашего сегодняшнего занятия».
Записывал и вычеркивал: сказать? нет? Но скажу: мне Света показалась старухой, ну, или основательно пожилой, что ли; только много позже, при обстоятельствах необычных я понял, насколько ошибался.
– Вот, – протянул я свои бумажки, – восстановлен на дневное после армии.
Свету всегда заслоняли плачущие прогульщики и любимчики-спортсмены, всегда я говорил с ней из-за чужих плеч.
– Сентябрь, октябрь где-то слонялся, пузо наедал, а теперь он пришел! – заголосила, накаляясь, Света, она сразу начинала кричать. – Приступает он к обучению. А мне что прикажешь? Куда я теперь тебя дену?
– На баскетбол, – подсказал я, и лицо мое жалостливо искривилось.
– На какой баскетбол?! Ребята уже два месяца играют, освоили основные приемы, отработали технику… На лыжи пойдешь! – И Света злорадно расхохоталась.
– Хорошо, – дыхание мне перехватило бешенство, но я тоже рассмеялся – со злостью; ну и хрен с тобой! Я и оттуда откошу!
– А что так веселишься? – Света кольнула меня взглядом и зачеркнула что-то в своих списках. – Тогда – на баскетбол. Чтобы поменьше веселился. Веселится он. На баскетбол!
Так началась эта война, раны которой и по сей день дают о себе знать.
Каждый дрался со Светой один на один, царапал бетон, перевертывался и налегал спиной на сосновые доски гроба. Единственное общее восстание (на первом же курсе) беспощадно подавили.
…Той страшной осенью Света сама плеснула горючих и подбросила взрывчатых веществ, объявила: курс идет в турпоход.
Кто не пойдет, останется без зачета.
Турпоход. Да еще в воскресенье – в законный выходной!
Да еще (впивалась игла за иглой) в половине седьмого утра «встречаемся у пригородных касс на Белорусском»!
«Возьмите с собой бутерброды и термосы с горячим чаем», да еще «оденьтесь по погоде, резиновые сапоги на шерстяной носок обязательно» – это не садизм, это не изуверство?!
«Не забудьте волейбольный мячик и гитару!»
И гитару?! Знаешь, куда ее себе засунь?!
Восьмой этаж второго корпуса дома девятнадцать на Шверника показал наконец-то клыки и поднялся на дыбы – все как один. Никого не надо было уговаривать, с походом Света перегнула палку и шагнула за край, она забыла, с кем имеет дело. Учебные дни – да, баскетбол, лыжи – согласны, это положенное насилие, но турпоход в воскресенье – это беспредел, ни один уважающий себя мужик не встанет в половине шестого и не побежит за первым трамваем – какое это имеет отношение к учебному процессу?! – заседали нетрезвые комитеты, никто больше не боялся, никто, так сказать, не мочеиспускал, и решили так: в понедельник идем скопом к декану, выставляем требования: прекратите издевательства – всех не отчислят, а в воскресенье – спим, в поход не идем, кто пойдет – тот педераст! – и за полчаса до назначенной половины седьмого утра все дембеля, включая больных, собрались у пригородных касс Белорусского вокзала. Нет, никто не струсил, и ни один не изменил мужскому слову. Вышло так, что в ночи одновременно в каждую непрерывно думающую голову вошло озарение: не надо идти в поход, достаточно приехать, отметиться, что «был» (кто там уследит в такой толпе, в поход выступало два или три факультета), тихонько отползти, затеряться в человеческой массе и вернуться в общагу досыпать; и любой скажет – ну, ты мастер.
Света равнодушно переводила взгляд с расписания пригородных поездов на зеленую карту Подмосковья, соединившую ее руки, словно не замечая грозной толпы ветеранов, хотя мне казалось, что иногда дьявольская усмешка чуть трогала ее губы. Мы старались для соблюдения естественности хода событий равномерно распределиться среди возбужденной массы непонятно чему радующихся психологов и филологов, нагруженных рюкзаками, но они почему-то пугались и таяли вокруг нас как снег, на который швырнули раскаленные угли, и мы заново оказывались едины и одиноки в своем пламени и чаде. Следует признать, что по нашему виду никто бы не догадался, что мы туристы и что вот этим промозглым ноябрьским утром нам предстоит длительная пешеходная прогулка, – мы походили на жильцов внезапно загоревшегося дома: выскочили из окон среди ночи кто в чем успел, кто в чем спал, и теперь, всклокоченные, сонные и хмурые, стоят они плечом к плечу, наблюдая за действиями пожарных. Никаких сумок, головных уборов, теплых курток и сапог – один приехал даже в домашних шлепках на черные носки, – хлипкие ветровки, спортивные костюмы, домашние штаны, высоко открывающие волосатые голени; все эти бывалые, частично усатые и взрослые люди, кое-где украшенные татуировками, умирали от желания спать и курить, переминались, зевали, почесывались и то и дело (договорились: для сохранения естественности хода событий и чтобы Свету не злить – скажет один, но не договорились, кто именно, поэтому брался каждый) выкрикивали: «Да, давайте отмечаться!», «Светлана Михална, да запишите уже, кто пришел! Холодно стоять», «Пометьте, что я был!», «Проверимся по списку!», «Да все уже собрались, давайте перекличку!», «Скоро уже электричка, поставьте “галочку”, кто пришел! Чего мы ждем!» – я и то что-то пытался просипеть, хотя в своей байковой рубашке, позорно заправленной в штаны, так замерз, что не мог даже сложить губы, чтобы подышать на ладони… Вдруг Света подняла карту над головой и потрясла ей трижды, по количеству криков:
– Турпоход МГУ! Электричка на шесть сорок восемь! До Тучково! – и утонула в радостно загоготавших и подхватившихся грузиться походниках – ковбойские шляпы, котелки, топорики, гитары, перчатки и вязаные шапочки.
Часто меня спрашивают (собеседников, которых я выдумываю, всегда чрезвычайно интересует мое мнение по важнейшим вопросам!): каковы особенности русского национального характера? Я не могу объяснить умными словами, обобщив; могу лишь наглядным примером. Одна из удивительных особенностей р.н.х. в том, что, как только Светлана Михайловна прокричала именно те слова, что я только что занес на экран монитора, и ни звука больше, сразу два закаленных невзгодами ветерана, ближе других стоявших к Свете, обернулись к собратьям, отлично слышавшим то же самое, и сказали: «Пообещала отметить всех в электричке». И я сам, трясясь от холода, на трезвую голову повторил за ними: «Сказала: как поедем, сразу отметит». Второй особенностью р.н.х. является, что в это безумное мгновение я не только сказал это, а сразу же сам и поверил, и понесся вперед всех покупать билет, чтобы сесть к Свете поближе, чтобы, как только она меня отметит, сразу уйти в тамбур под предлогом «курить» и выпрыгнуть на первой же остановке!
Но я опоздал – еще не закрылись двери электропоезда, как к Свете подкосолапил Кавказ (хвастался, что грабит туристов возле ЦУМа, но был всего лишь сыном первого секретаря Хабаровского крайкома): давайте запишем присутствующих. Света что-то неразборчиво и грубо ответила, я, например, явственно разобрал «вы что, дебилы?», но Кавказ, вернувшись в тамбур, пожал плечами:
– Невнятно сказала. Вроде бы: на станции, как приедем на место.
Я целиком понял всё, прошел в вагон, втиснулся меж двух дачниц и застегнул все пуговицы на рубашке. Надо согреться и дать ногам отдых. Я понял: главная цель сегодняшнего дня – не получение зачета, а сохранение жизни. Я смотрел на свои кеды: полчаса – вот самое большее – останутся мои ноги сухими на грунтовой дороге, по мокрой траве – пять минут. На месте своих ног я сквозь навернувшиеся слезы увидел протезы. Окно уже косо исцарапали дождевые капли; я хотел, чтобы мы ехали долго, еще дольше. Чем больше пройдет времени, тем теплее станет на улице. Разница в два-три градуса, едва различимая в обычный день, сегодня может спасти жизнь. Не паниковать. Не опускать руки. Всё время двигаться. В ту минуту возвращение в общагу стало таким далеким, что я понимал: вернусь я другим, такое не проходит бесследно. С каждой станцией в нашем вагоне становилось всё тише, а когда все вдруг повскакивали и повалили за Светой на безымянную платформу какого-то «км», молчание ветеранов стало поистине страшным.
Дождь прекратился, чтобы через полчасика зарядить уже как следует, стеной. Огромное серое и местами черное небо простиралось над великой русской равниной. Куда ни глянь, тянулись пологие холмы и подмышечные черные заросли в ямах и оврагах – ни строения, ни дороги, ни линии электропередач с колокольчиком фонаря, ни ларька с пивом и сигаретами (вру, это же доларечная эпоха, но пусть останется как лучший символ Абсолютной Безжизненности). Открылась пустота земли, готовая нас поглотить, и, пока жалкие трусы с других факультетов и наши однокурсники-«школьники» веселым потоком стекали с платформы на тропу, мы цепенели в предвкушении трагического Пути, как Белая армия накануне Ледового похода, или как Белая армия, в последний раз обращающая свой взор на крымский берег с борта английского парохода. В одну минуту я понял, что если сейчас же, сию же минуту (в которую понял) я (даже если один!) не перейду рельсы, не поднимусь на платформу со стрелочкой «На Москву» и не уеду первой же электричкой, то навсегда останусь дрожащей от жизненного холода тварью, ничтожеством, недостойным никакого высокого предназначения и даже судьбы с большой буквы «Сэ», я невероятно отчетливо и достоверно понял это и, словно меня кто-то подпихнул в плечо, бросился догонять наших, пристраиваясь в хвост колонны и пряча руки в карманы.
Поначалу шли бодро, тропа уходила вниз, и еще вниз, но я не радовался: значит, потом придется подниматься и подниматься. Не оглашая, каждый молчком уже решил, что «присутствующих» отметят на привале – в турпоходе обязательно бывает привал! – и на всякий случай запоминал дорогу: с привала уйдем; нет, Свете нас не одолеть! В низине хоть не задувал ветер, но хлюпала грязь, и несло сыростью от близкой воды, правая нога промокла первой и начала застывать, мы шли, шли, шли еще, но не похоже, чтобы привал приближался, с каждым шагом мы отдалялись от станции, я ждал дождя, но что-то тронуло мою щеку – снег!
Пошел снег!!!
Мне стало в два раза холодней. Надо двигаться. Но какой-то небритый краевед в панамке устраивал «А теперь – внимание! Остановимся здесь. Всем хорошо видно? Задние ряды – слышно?» то у каменной глыбы, притащенной ледником, то на повороте, с которого открывался потрясающий вид на три сосны с раздвоенными стволами, то над поляной, где кучно произрастали редчайшие. Когда он, протерев очки, подвешенные на шнурках к шее, пообещал, что на следующей остановке не ограничится кратким сообщением, а прочтет целую лекцию о гидрологии суши по маршруту следования нашего похода, морпех из наших (или моряк? короче, хрен знает, в общаге его звали Море) задержал за рукав краеведа, обрадованного тем, что его сообщения вызывают сверхплановый интерес любознательной молодежи, и еле выговорил заледеневшими губами: «Если т-ты с-с-с… – Хоть еще раз с-с-с…», – больше Море говорить не мог, по его лицу стекал растаявший снег, посиневшие губы вздрагивали; то, что не смог сказать, Море показал: вот его обе огромные руки ловят что-то мелкое, тщедушное и слабо отбивающееся, медленно душат это мелкое до полного прекращения сопротивления и отрывают на хрен с мясом какую-то важнейшую часть этого тщедушного… Ты понял?
Дальше мы двигались без задержек, краевед не отходил от Светланы Михайловны, изредка оглядывался (достигая, видимо, какой-то выдающейся точки маршрута) и всякий раз встречался взглядом с изнеможденным Морем, и тот ему со страшным значением кивал.
По правую руку наросли сивые камыши, в них обозначился и ширился ручей, я, чуя, как чавкают носки в кедах и немеют стопы, рассчитывал, что отряд возьмет чуть левее, а еще лучше – перпендикулярно и выше, чтобы упасть и сдохнуть хотя бы на твердой земле, в елках, но Света подвела авангард к поваленным через ручей соснам и особенно противным голосом прокричала:
– Этап: переправа! – указала на горный кряж за ручьем. – Затем этап: подъем. И привал.
Услыхав «привал», ветераны растолкали детей и, пьяно шатаясь и оскальзываясь, полезли на тот берег, царапая руки о сосновые ветки и черпая ногами ледяной воды; тот берег оказался болотом, в спину кричали: «Берите левее!», «Вот же тропа!», но спасать уже было нечего – мокрые насквозь, мы толпой перли в гору, изрыгая проклятия (эти страшные возгласы моих товарищей, многих из которых нет уже не только в живых, но даже и в фейсбуке, и по сей день стоят в моих ушах, когда пивная или арбузная му́ка под руку с простатитом ведут меня глухой ночью скорбною дорогой через комнаты!), – иностранец так бы перевел эти крики из русского фильма ужасов для западного зрителя: «Я изнемогаю совсем», «Света вконец потеряла голову», «Всё эта старая и недостойная женщина», «Конец моим ногам. И новым кроссовкам», «У меня отмерзли и сейчас отпадут части тела», «Бог мой, как же мне плохо», «Как же я устал», «Как же я угодил в эту неприятную ситуацию», «Когда же кончится этот неприятный поднадоевший подъем», «Что за недоразумение!». Когда Света вывела поход к привалу, ветераны, сбившись вместе, тряслись «бы-бы-бы…» над кучкой дымящейся бересты, содранной когтями с ближайших берез, зажав ладони под коленями, и не замечали уже ничего – ни разведенных костров, ни веселого чаепития, ни песен под гитару, чуть не избили какого-то первокурсника с психфака за вопрос: «Не составите мне компанию в бадминтон?» – лучшие сыны России (в который раз!) были вырваны из домашних постелей и обречены на смерть в ледяной пустыне!
Света наградила участников «галочкой» только на платформе Белорусского вокзала. Каждого второго падающего от усталости ветерана, облепленного хвоей, ошметками паутины и ржавыми березовыми листами, в черных по колено, заледеневших штанах, она подозрительно допрашивала: «А что, разве ты ходил с нами? Что-то я тебя не помню… Может, ты только сейчас подошел?»
Мертвецы брели с трамвайной остановки в общагу и букетиками несли в руках бутылки водки. Попарив ноги и нажравшись, я сутки спал, или лежал лицом к холодной стене, и не встал, даже когда баскетболистки-пятикурсницы со второго этажа приглашали на макароны с мясом. Думал я одно: не сдамся.
Первое занятие далось легко – стучи себе мячиком; я даже удивился, когда Света после «Закончили!» спросила: «Ну, как ты?» «Да нормально», – и потерял сознание. Когда очнулся, Света стояла надо мной, уперев руки в боки: «И так каждый, кто приходит из армии. Чем они там занимаются?»
А вот первый зачет, и последующие все… Мало посещать – еще и сдай нормативы: пробеги по диагонали – попади в кольцо, пробеги по кругу – попади, пробеги в паре, правильно прими мяч и попади, пробеги назад – правильно отдай, попади с точки штрафного – шесть из десяти, справа с угла – шесть из десяти, с левого угла – шесть из десяти, с трехочковой линии – шесть из десяти, – я бросал целыми днями, умываясь потом, ну, не попадаю я шесть из десяти, и что теперь – вон из журфака?! «Перебрасывай», – командовала Света, а потом: «Завтра продолжим», – мне! – члену Союза журналистов с семнадцати лет, чье имя огромными буквами печаталось в газете «Московский железнодорожник», – бросал мяч каждый день, бросал, бросал дотемна, две недели подряд, пока не забросил шестой из десяти, а потом и седьмой, и… Света заорала: «Да хватит!» – и с того попадания каждый семестр разломился на солнечную половину и кромешную тьму.
На свету мы спали, наслаждались и чудили, и в какой-нибудь особенно беззаботный день, пообедав в пельменной напротив «Боровицкой», лениво брели к факультету, и, расположившись на завалинке под сенью, если память не изменяет мне, лип, рассматривали проходящих красавиц с вечернего отделения, и поддразнивали возмущенно отводивших взоры отличников… Света всякий раз появлялась непонятно откуда, возникала сама собой на самом видном месте со своим свистком, как потерянная и возвращенная домовым вещь, с такой неожиданностью, что я невольно подскакивал с криком отчаяния.
– Отдыха-аем. – Света словно любовалась. – А я что-то не вижу тебя на занятиях.
– Всё отработаю, – уверенно ни разу не получилось, я сипел.
– Тридцать два занятия? – что-то радовало Свету, улыбка растекалась, и черты лица утрачивали резкость.
– Все тридцать два.
И солнце гасло.
Наутро я ехал на «Беговую» на станцию переливания крови – прогулы смывались кровью по «450 мл – два занятия»; чтобы закрыть семестр, хватило бы восьми литров, но у меня за полтора месяца до сессии столько не набиралось. Приходилось отрабатывать, но только по одному занятию в день – Света заботилась о нашем здоровье: вам нельзя перенапрягаться!
Счастливы те, в ком фраза «студенческие годы» воскрешает в памяти ветки сирени, пытливые лица сотоварищей на заседании Научного общества факультета и твой крепнувший голос, провозглашающий открытие, которое, как тебе казалось, перевернет мир, мудрые слова Учителя, извергающиеся в аудитории, где в воздухе плавает золотистая пыльца, восторг высокого знания, обретенного упорным трудом, усталые вечерние шаги к метро и сожаление: зачем же не позволяют учиться и ночью?! – белый локон подруги на лабораторной работе и ночные, сперва стыдливые, а затем всё более неистовые мечты о госэкзамене… Мне же выпала горькая доля – в памяти лишь одно: вот я уже женатый, отец маленькой дочери, да я уже прописался в Москве, а всё так же бреду на кафедру физвоспитания с тяжелой сумкой и облачаюсь в не успевающие сохнуть майку и трусы…
В Лондоне, на книжной ярмарке, где как нигде, верней, нигде как здесь, как нигде… Херня какая-то получается! Короче, как всякий русский автор, я чувствовал себя здесь особенно одиноким и уязвимым в тот миг, когда, застыв в толпе, размышлял: а не нагрел ли меня индус в кассе при обмене евро на фунты (забыл в отеле паспорт, а в ублюдочном «Марксе и Спенсере» на Оксфорд-стрит, где рекомендует менять Интернет, обмен по паспорту!); правой рукой я крепко сжимал и слегка разжимал две пачки по десять фунтов, пытаясь прикинуть их толщину, левой – две пачки по двадцать, когда рядом остановился солидный англичанин и с достоинством произнес:
– Я немец. Но давно здесь живу, – и представился, фамилия на «х».
Его имя мне ни о чем не говорило, я размышлял: где пересчитать деньги? Постелить на пол газетку… Как-то неудобно опускаться на колени прямо на русском стенде. С другой стороны, Россия – почетный гость.
– Я работал с вами в журнале «Огонек».
Когда это было, толща времени закрыла от меня четвертый и пятый этажи на Бумажном проезде, отдел морали и писем… По какому же курсу наменял мне урод в чалме?
Обиженный немец сделал шаг, чтобы удалиться, но обернулся с последним:
– Я учился на журфаке тремя курсами младше. Мы с вами играли в баскетбол.
Слезы хлынули из моих глаз, и мы обнялись. Брат, брат!
Конечно, удача и редкость: он, блин, играл со мной в баскетбол…
Да за пять лет на журфаке не осталось студента или студентки, с которыми бы я не играл в баскетбол, – да я, блин, с каждым успел сыграть!!! – я жил в спортзале!
Да я состарился на той лавочке!!!
За этими решетками на окнах!
Хоть клялся: уйду по весне, по-тихому, как вскроется лед, с началом навигации, залягу в люлю (так в общаге именовали кровать), и до сессии меня никто не поднимет!
И побежал: Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота написало декану: гласностью и демократизацией совершенствуется, как вы знаете, социализм, подуло обновлением, но авторитет армии, святыни патриотизма должны остаться незыблемыми и защищенными от злопыхателей и шавок – как в этом деле обойтись без главного орудия (так и написал) журнала «Советский воин», вашего студента Т.? Так не опутывайте его формализмом бездушных установлений (да кто вы такие перед величием Главпура?), дайте Т. «свободное посещение» по «физвосп», чтобы он, не отвлекаясь, стоял на страже! Мы не просим, это ваш долг. Генерал-полковник, подпись похожа на настоящую.
Света ответила: не надейся, ты у меня каждый пропуск отработаешь.
Но я не из тех, гибких, скользких и переменчивых, лишенных достоинства и принципов, легко отступающих от убеждений, поэтому через пару месяцев я побежал опять: уже звезда гласности и перестройки, главный редактор «Огонька», усилившись двумя народными депутатами, обратился к декану: мы разгребаем грязь, сокрушаем косность и ложь армейского мышления и тюремные нравы, воцарившиеся в казармах, а наше главнейшее стенобитное орудие, студент Т., блестяще успевая по первостепенным предметам, вынужден отвлекаться на какую-то… Вместо того чтобы еще больше, еще сильнее, еще жарче… И даже с выездом в командировки! Да предоставьте ему «свободное посещение» по «физвосп», не стойте на пути многопартийности и нового Союзного договора!
Света сказала: запомни, мне никто не сможет приказать. Ты у меня еще поплаваешь «четыре по сто», я тебя еще на коньки поставлю, и в эстафете побежишь, и в длину прыгнешь, и – отработаешь каждый пропуск! И последним получишь зачет.
Как бы не так! – и ты запомни, ты просто меня еще не знаешь, я не как все (рычал я про себя), я тебе… Заболеть, подумал я. Вот что нужно: немеет рука, нервное истощение, чешусь, болят суставы – заболеть и перевестись на лечебную физкультуру (этим бредили все). Я взялся почитывать медицинскую литературу (лучше, конечно, дерматологию какую расчесать, чтобы три года лечиться) и перед зеркалом отрабатывал плаксивый вид, но выяснилось, что в поликлинике МГУ, неведомо почему считая студентов журфака склонными к симуляциям и жульничеству, в кабинет «Терапевт факультета журналистики» посадили старуху (до сих пор сомневаюсь, что она имела медицинское образование), которую часто видишь в страшных фильмах: посреди ночи тихо вплывает в спальню героя и, дурашливо хихикая и потрясая седыми космами, душит его шелковым шнурком.
После того как к «терапевту» сходили профессиональные эпилептики и люди с переломами позвоночника и вместо направления на лечебную физкультуру получили богомерзкий смешок: «От картошки, значит, решил откосить? К мамочке захотелось съездить? Прекрати обманывать врача!» – я даже не стал пытаться, но придумал новое: тепло. Вот.
Все пытаются Свету обмануть, все ее ненавидят, а вдруг она ранима и одинока? Вдруг она нуждается в участии и способна пожалеть небогатого и честного провинциального парня? Надо стать понятным ей, открыться душой. На баскетболе я начал стараться, заводил разговоры о бедном детстве, и скудности быта в общаге (а вдруг я недоедаю!), и как мне трудно писать, – вмещая в сердце всю мировую скорбь! – а вдруг меня ждет трагическая судьба? – и тут же я спрашивал: а как у вас, Светлана Михайловна, дела? Мне показалось, или чем-то огорчены сегодня? Трудно вам с нами, как же я вас понимаю… Вырывал из ее рук сетку с мячами и нес сам, тушил свет в зале, оставался после занятий, чтобы проветрить. И чего же я добился?
Почти ничего. Светлана Михайловна заметила мое старание лишь однажды. Когда сдавали кросс, когда на отметке «один километр», едва не теряя сознание, я обошел двух мастеров спорта с юридического факультета и несся, топал впереди всех, а когда увидел на повороте Свету с громкоговорителем в руках, прибавил еще: сейчас! Невозможно не заметить! Вот так я здорово бегаю!
Я летел, пыхтел, хрипел, подымая колени, сдувая капли пота с губ, с любовью косясь на Свету, а ее (так удачно получилось) окружали мои по-весеннему голоногие однокурсницы, готовясь к забегу, – наступила удивленная тишина: кто же это возглавляет гонку, да кто же этот герой? – Света наконец подняла громкоговоритель и на весь стадион объявила:
– Терехов, зад подними!
И я потопал дальше.
Что придумать еще, я не знал. К середине второго курса я уперся лбом в невозможность так существовать далее. Свету я, как и все, конечно, боялся. Однажды я чуть не угодил под железнодорожный вагон – страшно вспомнить. Но этот ужас несравним с тем, что я испытал, когда один из наших случайно (хоть и не прямым ударом, а навесным) засадил Светлане Михайловне мячом по голове.
Когда Света оглушенно обернулась – разрывающее душу мгновение! – я, как и все спортсмены в зале, с учтивостью показывал вытянутой рукой на зажмурившегося виновника – не я!!!
Но во мне оказалось еще что-то, что пересиливало страх, я не мог допустить, чтобы между мной и университетской святыней – люлей в общаге – стояли унижающие бессмертную душу отработки тридцати двух занятий.
Всю свою жизнь (на закате так можно сказать) я пытался быть настоящим, и тогда, на дне моего отчаяния, я уразумел, что настоящих выходов у меня осталось два: или жениться на дочери Светы (училась какая-то черненькая курсом младше, и все показывали: «ее дочь»), или удалиться на заочное. Я выбрал второй путь по единственной причине: я сомневался, что женитьба закроет мне больше прогулов, чем сдача 450 мл или даже литра крови.
Прощай, студенческое братство и мечта моей мамы «сын закончил МГУ» – в советской провинции заочников презирали. Не скрою… Нет, все-таки скрою. Скажу, что слёз я не лил.
Спасло меня чудо – так я намеревался написать, – но, попросив у официантки чай с облепихой (в этом месяце меня обслуживали Шергазиева Акыла, Марсалиев Омар, Мамашакир Айназ, Жолон Айдана, Раимбердиева Уулкан, Полотова Айчурок, Исламбек Динара, чеки я сохраняю), я вдруг понял: нет, меня спасла вера в предначертанный лицензионный Путь противления кафедре физвоспитания, и в тот самый миг, когда я дизель-поездом прибыл в пустыню, чтобы принести в жертву самое дорогое (стипендию, бесплатное проживание в Москве и покой родителей – попробуй докажи соседям, что не отчислили за пьянку и неуспеваемость), Небо разверзлось над Тульской областью, чтобы сказать: не надо жертвы, храни верность себе, припухай помаленьку и дальше, и мы тебя не оставим; меня окликнул ангел («Как звать? Саня, встань коленочками на край кушетки, прогнись-ка»); чтоб не смущать меня, ангел принял облик хирурга железнодорожной больницы в г. Узловая, а тот, в свой черед, походил на сантехника из тех, кто никогда не снимает зимней шапки и не разувает зимних сапог, но засучивает рукава, возясь и сопя вокруг сочащихся сочленений:
– Спину мы чакнем на рентгене. Эротическое значение у тебя имеют шестой и седьмой позвонки. Лекарств много не назначаю, они цену имеют. Чтобы денег не выщелачивать. Совет такой: когда стоишь – стой так, обтекай, – хирург страшно изогнулся, словно пытаясь изобразить шлагбаум платной парковки, – а ноги подворачивай, – ноги его согнулись и затряслись, словно он вот-вот повалится на пол, – а когда сидишь, – хирург перебрался на рабочее место, – вот так, как я перед тобой, – он сильно откинулся назад, едва не опрокинув кресло, съехал под стол так глубоко, что над столешницей осталась видна только его голова, а ноги, как раздвижные, вытянулись из-под стола до середины кабинета. – Так, а что это на животе? – подкрался и пощупал. – Не растет, не болит? Тогда можно не трогать.
– Но можно вырезать?
– Зачем? Если только из соображений косметики, так это ж никто не видит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?