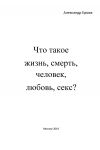Текст книги "Выстрел по солнцу. Часть вторая"

Автор книги: Александр Тихорецкий
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
С такой вот безрадостной картинкой и ассоциировался у Женьки город Ленинград. И еще с мамиными сборами. Она уезжала туда на сессию дважды в год, и каждый отъезд ее сопровождался недовольным ворчанием бабушки по поводу «заоблачных» амбиций дочки и хмурым молчанием отца, курящего на кухне одну сигарету за другой.
И Женьке тоже становилось тягостно и неуютно, и невольно, поддаваясь общему настроению, он начинал хныкать и хныкал до тех пор, пока бабушка со словами: «ах ты, моя сиротинушка» не подхватывала его на руки, а отец, хлопнув дверью, не выбегал на улицу. Тогда мама, как-то особенно беспомощно всплеснув ладонями, прижимала их к лицу, и Женька, почему-то испугавшись, начинал громко плакать.
Он не понимал из-за чего весь сыр-бор, однако, в глубине души чувствовал непреодолимую необходимость покапризничать, хотя бы, из солидарности. Конечно, и ему не хотелось, чтобы мама уезжала в этот далекий, чужой и неприветливый город, но, ведь, это ненадолго. И потом, каждый раз она привозила оттуда много сладостей, интересные игрушки, которые и не снились соседским ребятишкам.
Впрочем, приезды мамы сопровождались не только приятными сюрпризами, каждый раз с отцом снова происходили непонятные и странные вещи. Неожиданно, прямо посреди церемонии вручения гостинцев, он вскакивал, зачем-то выбегал из дома, и лицо его в эти минуты было таким страшным, что Женька боялся заглядывать в него. Бабушка всплескивала руками, глядя на маму, а та, покрасневшая, готовая вот-вот расплакаться, отворачивалась, громко шептала ей в ответ: «Не пойду! Не пойду, и все! Я ни в чем не виновата!»
Женька наблюдал за происходящим, насупившись, приберегая свои слезы к драматической развязке. Он уже знал, что такая обязательно наступит и безошибочно угадывал ее, улавливая неуловимый переход от острого напряжения к безвольному, почти обморочному состоянию безразличия.
Какая-то невидимая масса, будто капля дождя на ветке, наполняясь и набухая прозрачной тяжестью, вдруг обрывалась вниз, унося с собой бремя медлительных секунд, словно ветку, отпуская на свободу замершие в ожидании события.
И тогда бабушка подхватывала его на руки, шепча что-то про «упрямых ревнивцев» и «полоумных психов», выносила в соседнюю комнату, с грохотом затворив за собой дверь. И мама тоже начинала громко плакать, и выбегала из дома, и шла искать папу, который, впрочем, никуда и не отходил и все это время ожидал где-то неподалеку, гордо и независимо покуривая свои мятые, франтоватые сигаретки.
Никогда, ни за что, не будут они близки с этим человеком, никогда Женька не простит ему мамины слезы. Непреодолимой пропастью пролегли они между ними, и даже теперь, когда все позади, и ненасытная бездна поглотила, и маму, и отца, и бабушку, чуткая, цепко хранящая все, память не позволяет затянуться этой ране, очагом неутоленной печали зияющей на ее теле.
И изнуряющая ревность, и мужское самолюбие, и даже любовь, даже все это вместе, скрутившееся в тяжелый узел запоздалых оправданий – все тонет в одной только слезинке, в одном кванте боли, до сих пор терзающей душу горечью воспоминаний.
Мама… Мамочка… Единственная, последняя его надежда, спасительная лазейка в мир тепла и счастья. Не раз Женька представлял, что вот-вот она очнется и бросит отца, бросит вместе со всей этой его проклятой, позорной ношей, одним словом перечеркнет весь этот растянувшийся на годы цикл предательства.
Мама, мама! Ты же видела, ты же понимала все! Почему же ты не позволила себе ни одного восстания, ни единого, даже самого невинного возмущения? Почему терпела эту унизительную роль, роль ничтожества в театре абсурда?
Ответов нет, как не было и тогда, и только стылая боль отзовется в сердце, в который раз воскрешая жалкие потуги вернуть невозвратное, исправить непоправимое, оживить отжившее.
Спустя много лет Ленский вдруг понял, что не помнит лица матери, не может вспомнить ее взгляд, ее голос. Ее взгляд всегда был взглядом отца, ее голос – его голосом, и картинки пожелтевших фотографий только фиксировали эту данность, обрекая его на позорное беспамятство. Даже здесь отец лишил его мамы, сквозь время и расстояние вновь окружил ее глухой оградой своей власти. Что она думает, что она должна думать, что она должна делать, что должна чувствовать, кто ее друг, кто враг – всюду расставлены вешки, всюду очерчены границы, убогие горизонты убогой свободы.
Тогда, в детстве, чтобы, хоть, чем-то заполнить эту пустоту, Женька представлял себе, что мама околдована злым волшебником, что у нее ледяная иголка в сердце, и только поэтому она так рассеяна и безразлична, только поэтому ничего не замечает. Иногда ему страстно, до спазм в горле, хотелось оборвать этот нелепый фарс, заглянуть маме в глаза, произнести те самые, магические слова, которые разрушат этот проклятый морок, сокрушат и изменят все.
Ему казалось, что стоит только поступить так, и чары волшебника падут, игла растает, и мама покинет свой глупый плен, вновь сделавшись доброй и ласковой, нежной и веселой.
Но, увы, действительность не предусматривает чудес, и переживания все дальше и дальше увлекали Женькину фантазию, унося в сказочные дебри, в которых его ждали страшные и увлекательные приключения, самые разнообразные ловушки и опасности, преодолев которые он, в конце концов, сможет освободить маму.
Вот только Женька был совсем не похож на юного принца. Словно в отместку за побег, действительность предлагала образ бледного, рыхлого мальчика с невыразительным, веснушчатым лицом и жесткими рыжеватыми волосами. Нет, принц из него явно был никакой. Впрочем, и отец мало походил на сказочных персонажей.
Будто кадры из ненавистного, заезженного фильма, вновь и вновь, видел Ленский в дверной просвет искаженное отчаянием лицо мамы, слышал бабушкин голос, тайком, «чтобы не услышал ребенок», шепчущей: «Доча, да померещилось тебе! Может, и не помада вовсе, а краска какая…»
Шепот тонул в маминых всхлипываниях, терялся в лабиринтах пространства, но тончайший слух внука, вьюном пробираясь сквозь препятствия и расстояния, все равно, нащупывал, угадывал эти обрывки, осколки страшных слов, сложенных в экстракт позорного смысла: «Мамочка, я так больше не могу, он изменяет мне, изменяет…»
Слова вылетали бледными, усталыми хлопьями, соприкоснувшись со сбивчивой бабушкиной скороговоркой, тихо опадали лепестками сна, склеивая веки, туманя разум, и маленький Женя засыпал, не в силах одолеть неразрешимую загадку. Измена – это предательство, во время войны предателей расстреливали. Но, как папа мог предать маму? Ведь, сейчас – не война.
И еще одна томительная ноша добавлялась в бремя неопределенности, еще одной мучительной занозой застряв в детском сердце. Их много было, этих заноз, каплями боли сливающихся в одну неторопливую пытку, тупую и монотонную, так что вскоре Женька даже перестал замечать ее.
И тягостная карусель неопределенности продолжала разматываться вереницей дней и ночей, прятавших за глянцевой оберткой благополучия тягостную атмосферу страха и неуверенности, и жизнь с ее радостями и огорчениями, с ее заботами и удовольствиями, была будто бы фоном для этой бесконечной, изнурительной драмы.
Время от времени наступало прозрение, отца охватывала паника и отчаяние, и, балансируя на неверной грани самообмана, он разыгрывал что-то вроде трагикомедий, картоном притворства пытаясь драпировать дыры на теле семейного благополучия.
В такие дни отец был чисто выбрит, подтянут и бодр. С загадочным видом, на цыпочках, чтобы не разбудить маму, он тихонько уходил и возвращался с громадным букетом бордовых, только что срезанных роз, и Ленский до сих пор помнит их яркие бутоны с застывшими каплями росы, аромат свежести, чуть приправленной сладостью розового масла.
Потом отец варил кофе, относил маме в постель, и из комнаты слышался ее веселый щебет, перемежающийся густым баритоном отца. Время разматывалось неспешным клубком, и Женька чувствовал себя шутом, скоморохом, ожидающим хозяйского оклика. Наконец, ожидание обрывалось требовательным голосом отца, и он заходил в родительскую спальню, испытывая спазмы горечи и отвращения.
Мама, нежная, томная, с повлажневшими глазами, старалась приласкать его, отец преувеличенно весело смеялся, то и дело, норовя похлопать по плечу или взъерошить волосы, что считалось у него признаком благоволения и хорошего настроения.
Он даже расспрашивал Женьку о жизни, о планах на будущее, в заключение, с неуклюжим юмором, с подмигиваниями и нелепыми ужимками – об отношениях с девочками, и в такие минуты Женька чувствовал одновременно жалость и презрение к нему.
Словно поставленный под беспощадный свет рампы, в такие минуты он был каким-то особенно ненастоящим, будто бы насквозь искусственным, и напоминал неумелого артиста, бездарно исполняющего свою роль.
Женька знал – темным облаком уже зреет где-то вдалеке гроза, в любую минуту готовая разразиться потоками ненастья, и нужен лишь миг, лишь капля, чтобы обрушить все это жеманное благолепие.
Капля падала, запуская механизм цепной реакции, и вот уже голос мамы вибрирует интонациями оправдания, а отцовский, еще недавно бодрый и веселый, полон возмущения.
Иногда Женька чувствовал страшную усталость. В такие минуты он представлялся себе обнаженным и беззащитным, замерзающим на пронизывающем ветру, под безразличными взглядами окружающих.
Казалось, вот-вот оборвется что-то важное, главное, и лопнет радужная материя притворства, и вылезет наружу правда, та, которая прячется за красивую оболочку обтекаемых слов, правда настоящая, страшная, без прикрас.
Женька почему-то этого очень боялся, при одной мысли об этом сердце его заходилось от страха и стыда, он старался вспомнить что-нибудь веселое, приятное, какой-нибудь анекдот или смешной эпизод из мультика, и понемногу отчаяние отступало.
И что он так распереживался? Ну, бывают у папы вспышки ревности, ну, любит он, чтобы все было так, как он хочет. Так что же? Зато он добрый и заботливый, дарит ему дорогущие подарки. На Новый Год вон, железную дорогу подарил. И пусть его дома почти не бывает, наверно, так и нужно. У взрослых – свои игры, в них все гораздо серьезнее. Детям там нечего делать.
Бабушка говорит, что папа зарабатывает деньги, и при одной только мысли об этом Женьку охватывали тревога и подавленность – он совсем не умел зарабатывать деньги. Просто не представлял себе, что это такое. И, вообще, он старался не думать об этом. Лучше придумывать жизнь родителей, их мысли, чувства, поступки. Так значительно интересней и приятней – совсем не остается горького осадка, как после размышлений об изменах или о способах добывания денег.
Женька и не заметил, как втянулся в эту игру, придумывая отговорки и оправдания для родителей, изобретая все новые и новые сюжеты об их прекрасных поступках, будто в школьных сочинениях описывая свою счастливую жизнь.
Постепенно он почти поверил в это. Фантазия его была неистощима, и стоило только действительности ощетиниться какой-нибудь неприятностью, он тут же отвечал очередной историей, полной житейской мудрости и имевшей вполне предсказуемый хэппи-энд. В ней было все значительно красивее и лучше, чем в жизни. И разве имеет значение, что все это понарошку?
Женя уже знал – все вокруг совсем не такое, как на самом деле. Человек с хорошим зрением видит иначе, чем тот, у кого оно плохое, точно так же и люди – притворяются все, просто кто-то более удачно, кто-то – менее. И он, Женька, тоже будет носить маску, и постарается делать это как можно лучше, так, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что он – другой. Так надо для родителей, так надо для Женьки. У него все хорошо. Дела его идут блестяще, он абсолютно всем доволен, даже счастлив. Таким он будет для всех, и для родителей в том числе. Для них даже в первую очередь.
И только оставшись наедине с самим собой, он чувствовал, как маска, словно лед, растопленный горечью обиды, тает на его лице. Он глотал ее жгучие, соленые капли и давал себе слово, что никогда и никому не позволит обижать себя. Никогда и никому. Потом, когда вырастет. А пока…
Что-то затаенное, коварное, спрятавшееся глубоко в сознании, черной змеей шипело ему из темноты, что он обречен, что, окунувшись однажды в мир лжи, измазавшись ею, никогда не сможет выбраться наружу. И он закрывался от этого голоса, бежал от него в свои фантазии, в глянцевом мире призраков находя то, чего ему так не хватало в холодной и неприветливо реальности. Ласки, тепла, любви… Любви…
А любили ли родители его?
Ленский задавал себе этот вопрос, мучительно копаясь в воспоминаниях, выуживая из будничного потока наблюдения и ощущения, словно недостающими фрагментами, пытаясь заполнить ими мозаику своего мировосприятия.
Воспоминания неуловимо играли зыбкими гранями, готовые предстать доказательствами самых непримиримых противоположностей, сплетая Женькины сомнения и надежды в немыслимо сложный, запутанный узел. И напрасно он ждал какой-нибудь подсказки или откровения, тогда еще он не знал, что покер – излюбленная игра судьбы, ради своей забавы наполняющей нашу жизнь тысячами и тысячами ложных посылов, намеков и интерпретаций.
Не было дня, чтобы он не думал об этом тогда, немало времени он потратил на это впоследствии. Однако, мысль его, обычно живая и гибкая, на этот раз отказывалась исполнять приказ. Видимо, угадывая в глубине души горький ответ, он берег себя. Берег то немногое, светлое и нежное, что осталось у него от далекого детства, от его безмятежных радостей и неожиданных открытий, от наивных чудачеств и нечаянных откровений, от первых ошибок и затаенных надежд.
Все равно, никто уже не в силах что-либо изменить. Ставки сделаны, жизнь прожита, и лишь воспоминания, отыгранными фишками пылящиеся на полках памяти, оживляют в сознании лица мамы, отца, бабушки, их глаза, улыбки, голоса.
Словно видения, раз за разом, проходят они мимо, снова и снова не замечая Женьку, оставляя его за гранью своей загадочной, недоступной яви.
– Женя! Э-эй! – перед глазами появилось лицо Кэти, ее встревоженные глаза. – Ты будто улетел куда-то.
– Прости… – Ленский обвел глазами осиротевшую комнату, встряхнул головой.
Одинокой, жалобной льдинкой таяла память, бледными хлопьями качались перед глазами ее угасающие картинки. Мама, мамочка!
Ленский прикоснулся кончиками пальцев к пылающему лбу. Так и есть – снова эти видения, снова эта его проклятая слабость! Чертов психопат! И что о нем подумает Кэти?
Он притянул девушку к себе, зашептал в теплый пробор:
– Прости, прости меня, Солнышко. Что-то я совсем устал. Вот закончу дела, и уедем с тобой куда-нибудь. Куда-нибудь далеко-далеко, туда, где море и вечное лето, куда не дотянутся никакие метели, никакие воспоминания. – он замолчал, снова почувствовав в сердце тяжелую тревогу.
– Все будет хорошо, милый, – Кэти обняла его, прижалась, – поезжай и делай свои дела. Я уверена – ты справишься. А я буду здесь ждать тебя. Только приезжай поскорее, пожалуйста. И ни о чем не волнуйся. Теперь я стану заботиться о тебе, и ты не будешь больше уставать. Только приезжай поскорее.
Ленский вышел из дома, будто из райского сада, понемногу высвобождаясь от нежных пут счастья. Внезапно он почувствовал легкую досаду, кое-где по краям, на изломах, переходящую в раздражение, и невольно усмехнулся, плеснув сарказмом на раскаленные камни чувств.
Какая неприятная, и, самое главное, несвоевременная неожиданность! И, действительно, с чего бы это ему расстраиваться? Подумаешь, он уходит! Уходит, всего-то покидая любимую, бросая свою мечту, оставляя долгожданный оазис тепла и любви. И куда, зачем? Что ждет его там, снаружи?
Сверхзанимательное, увлекательнейшее занятие! Суматошное скольжение по циферблату дня, однообразное дребезжание житейской синусоиды, брызги будничной грязи. Бесконечная, изнуряющая гонка за призраком. Гонка, ни разу еще не вернувшая его в начальную точку счастливым, ни разу не подарившая безмятежного, ничем не омраченного покоя. Пусть даже мифического, пусть даже трижды, четырежды обманчивого. И, в самом деле, чего огорчаться?
И, ведь, не объяснишь никому, зачем он это делает. И, пожалуй, самое главное – как объяснить это самому себе? Сейчас, наверно, только надеждой. Кто знает, может быть, сегодняшний день станет первым исключением?
Ленский прислушался к себе: что там наколдовало ему сознание? Он уже давно практиковал свой, фирменный способ разгадки головоломок, на первый взгляд сомнительный, однако, на самом деле, вполне реальный и довольно эффективный. Он попросту оставлял вопрос сознанию, оставлял, будто охотник – дичь, отдавая мясо искусной и проверенной кухарке.
И никогда мозг не подводил его, неизменно выдавая ответ, иногда казавшийся просто немыслимым, однако, ни разу не заставившим пожалеть о принятом на вооружение методе.
Ленский не мог и даже не старался, хоть, как-нибудь объяснить себе подобный феномен – столько всего необычного и необъяснимого было в его жизни. Где-то там, в нейронной глубине, в реторте мутировавшего чудом разума просчитывались вероятности, оценивались риски, фиксировались результаты, ситом сотен и тысяч формул сортировалось нагромождение мыслей, воспоминаний, ощущений, будто неизвестными в уравнении, уложенными в строгие матрицы непостижимых тождеств.
Вот и сейчас, словно белье в стирку, забросив в память все, что случилось за последние несколько суток, Ленский ждал ответа на вопрос, мучивший его последние сутки, вопрос, который так и не смог сформулировать. Вернее, он был, этот вопрос, но его было много, что сознание не вмещало его, он рассыпался многократным эхом, и его повторения никак не могли собраться воедино, не покрывая, хоть, сколько-нибудь значительного пространства поиска.
Но, что, что его так волновало? Что не давало покоя, портило аппетит, мешало спать? Ленский и сам не знал. Просто одно неясное ощущение беспокойства, каких-то гнетущих предчувствий навалилось на него предательской слабостью, будто разрушительным вирусом, сковав бессилием и апатией.
Поэтому и бросал он в разверстый зев сознания все, что только приходило в голову. Все и всех. Силича, Журова, двоих «гостей», неизвестных «доброжелателей», Кэти, Павла, Князева.
Но даже такой поиск, сумбурный, скоропалительный, все равно, словно стрелка компаса – четко и предсказуемо указывал на человека по фамилии Князев. Все коридоры лабиринта вели к нему, кольца всех до единой комбинаций замыкались на нем.
Да, да, с каждой минутой сомнений становилось все меньше. Одно только то, что именно с появлением Князева и начались все неприятности, все нестыковки и проколы, говорило о многом. И этот его навязчивый, довольно грубо закамуфлированный интерес к их разработкам, его косвенная причастность ко всему, происшедшему в последние дни, его поразительная осведомленность!
А те двое молодчиков в приемной! Почему-то именно с ними коррелирует появление жучка в лаборатории Журова. И в самом деле – не заокеанские же коллеги зачем-то проникли туда. Проникли, при этом ухитрившись остаться незамеченными, и, опять-таки, неизвестно для чего, оставив один-единственный, допотопный жучок. Наверно, в качестве презента или неопровержимого доказательства своего существования.
А вот, если это – продукт деятельности ребят из приемной, дело приобретает совсем другой характер. Тогда – налицо спецоперация, деградировавшая, впрочем, в хрестоматийный фарс с элементами примитивного блефа.
Слишком уж топорно действует противник, и прием избитый, и намерения – яснее не придумаешь: отвлечь внимание, пустить по ложному следу. И опять-таки – зачем? И почему так срочно?
Предположить то, что Князев что-то узнал – еще допустимо, что он знает все – невозможно. Этого просто не может быть, потому что, быть не может. И потом, будь это так, вряд ли бы он ходил вокруг да около. С порога зарядил бы в лоб – колитесь, господа, что там у вас!
Впрочем, и это – не факт. Чтобы так рассуждать, чтобы, вообще, рассуждать, надо быть, хоть, в чем-то уверенным. Не на сто процентов, конечно, но, хоть, как-то. А где она, эта уверенность?
Ясно одно – ведется какая-то игра, и пока они, Ленский, Журов и Силич в ней – догоняющие. Противник на шаг впереди, держит в постоянном напряжении. И, даже, если это не Князев, в любом случае, здесь явно чувствуется лапа кого-то влиятельного и информированного. Может быть, даже чересчур информированного. Сверхъестественно информированного.
А, может быть, все-таки, ошибка? Недоразумение, шутка, провокация, на худой конец?
Нет, черт побери! И – Князев, все равно – Князев! Словно линиями магнитного поля, тянущимися к полюсам, непреодолимое кружение вновь и вновь возвращало мысли к нему.
С другой стороны, а что конкретно можно ему предъявить? Чутье? Бессвязный набор невнятных предчувствий? Не сделал их новоиспеченный шеф еще ничего такого, за что можно было бы взять его в железобетонное кольцо недоверия. Пока все это – домыслы и фантазии, и тянут они лишь на хилую изгородь подозрения, и то, если принять на веру их аутентичность.
Конечно, он вторгся, может быть, даже чересчур резко и безапелляционно, на чужую территорию, однако, это лишь изобличает в нем въедливого и требовательного руководителя, стремящегося быть в курсе дел своих подчиненных. Поведение, достойное уважения и всяческих похвал. Почему же его персона вызывает такую неприязнь?
Чем больше Ленский думал об этом, тем сильнее и настойчивее оформлялось у него желание наказать Князева, хоть, чем-нибудь поколебать его лицемерное спокойствие. Небось, притаился где-то в темноте, как паук, и наблюдает, как барахтаются они в его паутине.
Нет, конечно, и речи идти не может о какой-нибудь полномасштабной акции, здесь требуется что-то легкое, деликатное, что вполне уместилось бы в термин «острастка». Что-нибудь, вроде розыгрыша, этакого щелчка по носу, призванного с одной стороны проучить выскочку, а с другой – показать собственную силу и независимость.
План созрел молниеносно, пробежав по сердцу горячей дрожью азарта. Ничего страшного и непоправимого, но при этом довольно болезненно и обидно. То, что надо. В таких случаях тяжеловесные, сангвинические Голиафы наливаются кровью, теряют над собой контроль, что позволяет легким и проворным Давидам получше прицелиться. Только бы «сладкая парочка» была на месте.
Итак, что там у него есть о них? Головорезы? Та-ак. Старательные и исполнительные? Тоже в точку. Однако, картинка, все-таки, неполная. Чего-то в ней не хватает. Должна, должна быть еще одна деталь, еще одно качество, словно последний взмах кисти, довершающий портрет. Что же это такое? Тупость. Точно, тупость! Нет, слишком грубо, не толерантно. Нельзя так с челядью начальства. Лучше – недалекость, пусть будет недалекость.
Конечно, невозможно быть абсолютно уверенным в таком диагнозе, однако, набор всех перечисленных выше качеств, предполагает, да что там, предполагает – просто обусловливает наличие подобной характеристики, это – просто закономерность, отличительная особенность подобного психотипа.
Ленский спустился в подземную автостоянку, прошел чуть вперед от своей машины. Через несколько рядов его внимание привлек темно-зеленый джип, облитый чернилами тонированных стекол. Он был еще довольно далеко от него, но уже ясно чувствовал чье-то присутствие за панцирем из лакированных доспехов.
Кажется, в одном из телевизионных шоу было что-то похожее. А что, из него бы получился неплохой экстрасенс!
Он пробарабанил пальцами по левому окну и ответом ему был всплеск нервозности внутри.
– Да открывайте же! – внезапное раздражение лишило его возможности отступления.
Стекло стало опускаться, открывая хмурые, настороженные лица. Так и есть, это те самые молодчики из приемной. Смущены и явно не готовы к встрече. Кроме того, явно не знают, насколько он посвящен в тонкости операции, не знают, как вести себя с ним, застряв где-то между неприязнью и вынужденной вежливостью. Нет, он не ошибся в диагнозе.
– Что вы здесь до сих пор делаете? – Ленский подпустил металла в голос. – Вы что, совсем охренели?
– А что? Что такое? – глаза агентов метнулись в сторону, наполнились тревогой.
– Нет, ничего! – Ленский довольно развязно хохотнул. Грубовато, конечно, но – ничего, с этими – сойдет. – Только то, что шеф уже час, как дожидается вас для проведения дополнительного инструктажа.
– Но мы ничего не знаем. Никаких вводных не поступало… – водитель растерянно развел руками. Он повернулся к товарищу, словно призывая того в свидетели: – Верно, Толик?
Хмурый и настороженный Толик подозрительно смерил Ленского взглядом, осклабился, но в глазах его мелькнула тень все той же растерянности.
Ленский рассеянно пожал плечами, отвернулся, якобы собираясь уходить.
– Короче, я вас предупредил, а дальше сами решайте. Меня просто Наденька попросила вам передать, говорит, что шеф беснуется просто.
С видом полнейшего безразличия он сделал шаг в сторону.
– Подождите! Эй, постойте! – водитель неловко (отсидел ноги, бедняга!) выпрыгнул из машины, заковылял за ним. – Вы это… серьезно? У нас же связь… – сомнение на его лице боролось со страхом. – А что, Сергей Васильевич сильно? Или, как?
Ленский изобразил самую ехидную из всех своих улыбок
– А вы свяжитесь с ним сами, – его голос не оставлял никаких сомнений в ожидаемом результате, – спросите, как он. Короче, ребята, я вам передал, дальше – не мои проблемы.
Он отвернулся, зашагал к выходу, спинным мозгом ощущая сзади жестокую внутреннюю борьбу. Интересно, чем же, в конце концов, все это закончится?
Внезапно что-то похожее на жалость шевельнулось в душе, и он пожалел, что затеял все это.
Впрочем, еще не поздно все остановить. Вот сейчас, сейчас он обернется, подойдет к их навороченному, вусмерть тюнингованному джипу, признается, что пошутил. И потом, они могут и не клюнуть на его авантюру. Конечно, он был довольно убедителен, но у них есть приказ, в конце концов, они могут…
Звук заводящегося двигателя за спиной прервал его размышления. Ну, значит, так тому и быть! Он быстро сел в свой «BMW» и повернул ключ зажигания.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?