Читать книгу "Лев в Москве. Толстовские места столицы"
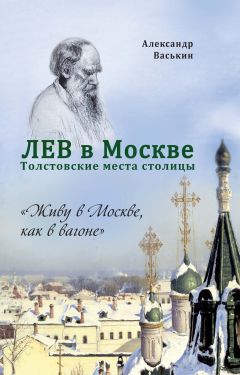
Автор книги: Александр Васькин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Лев Николаевич конкой охотно пользовался, хотя распространено мнение, что он по Москве передвигался исключительно пешком. Журналист Николай Никольский в «Новостях дня» за 9 января 1900 года рассказывал: «Мы находились на Пречистенке. Скоро подошла конка, на которую намеревался сесть Л.Н.: “Вот поднимусь в горку – там и сяду!”. Казалось, он жалел лошадей, не желая садиться ранее, чем они поднимутся в гору. Когда конка была близка, мы расстались. Я смотрел с удивлением и радостью, как Л.Н. проворно, “по-молодому”, на полном ходу вскочил на подножку вагона, несмотря на то что в руках его была корзиночка с только что купленными куриными яйцами, а в кармане находилась бутылка с виноградным соком. На площадке вагона была масса народу, так что Л.Н. долго пришлось стоять на подножке, пока пассажиры не потеснились и не дали ему места.
Узнали ли они нового пассажира, одетого в пальто с меховым воротником, в валеные калоши, в серую войлочную шапку, с лицом, украшающим теперь многочисленные витрины?». Пассажиры конки вряд ли узнали Толстого – иначе, конечно же, они уступили бы ему место.
Во время прогулки по городу с Львом Николаевичем Никольский наблюдал за тем, узнают ли прохожие писателя: «За редким исключением, публика не узнавала писателя, или по рассеянности, или по незнанию. Только около университета какой-то господин забежал вперед и особенно значительно всматривался в лицо писателя, очевидно, обрадовавшись такой встрече. Напротив, когда мы проходили по тротуару вдоль стены манежа, шедшая нам навстречу публика с окончившегося дневного гулянья положительно не узнавала Толстого. Что касается самого Л.Н. то он, проходя по улицам, насколько это я мог заметить, зорким взглядом следил за всем, что делалось вокруг, и, кажется, он не пропустил ни одного лица, не оглядев его. Между разговором он вдруг, как бы про себя, делал замечания по адресу прохожих, извозчика и пр. Видно, что уличная жизнь не ускользает во всех мелочах от взгляда писателя. Во время прогулки Л.Н. не пропустил ни одного нищего без того, чтобы не подать ему. Когда мы проходили мимо Охотного ряда, Л.Н. зашел в лавку купить яиц: “Единственно, что разрешаю себе теперь после болезни”. В заключение добавлю, что ходит Лев Николаевич бодрой, легкой походкой, как молодой, ходит быстро и, очевидно, почти не устает». А было Толстому уже за семьдесят лет. Молодец, Лев Николаевич!
Интересно, что Лев Николаевич любил ездить на конке на втором этаже вагона (двухуровневые вагоны назывались империалами), где стоимость проезда составляла 3 копейки – что было дешевле, чем на «пятикопеечном» первом этаже.[6]6
Империал – это открытый второй этаж, надстроенный над вагоном. Если вагон был простой, без империала, то с ним вполне справлялась и одна лошадь. А вагон с империалом везли уже две лошади, но в некоторых местах Москвы и двух было маловато. Особенно трудно было лошаденкам при езде в гору, вот почему их и жалел Толстой. Например, на Страстной площади местность была ровная, гладкая, для лошадей удобная, а вот у Трубы или на Таганском холме – тут пиши пропало, слишком крутой подъем. В подобных местах держали пару лошадей, чтобы подпрячь их в экипаж (часто этим занимались специальные мальчики-форейторы). После подъема лошадей отпрягали в ожидании следующего вагона. Винтовые лестницы, ведущие на империал, отличались особой крутизной (чтобы отнимать как можно меньше места). Из-за этой вот крутизны для женщин считалось неприличным ехать в империале. Так было, пока винтовые лестницы не заменили более пологими. Возможность курить на империале также влекла наверх пассажиров-мужчин, а не женщин.
[Закрыть] Однажды они вместе с Ильей Репиным ехали в империале и любовались вечерним городом: «В сумерках Москва зажигалась огнями; с нашей вышки интересно было наблюдать кипучий город в эти часы особенного движения и торопливости обывателей. Кишел муравейник и тонул в темневшей глубине улиц, во мраке». Расходы на конку Лев Николаевич тщательно записывал в дневнике (через запятую, между извозчиками и нищими).
Богатую пищу для размышлений давали Толстому попутчики, например, 18 марта 1883 года ими оказались старик-балалаечник, распевавший: «Огненной паутиной всю землю опутают, крестьяне отойдут, и земле матушке покоя не дадут», и купчик с разговорами о золоте и электричестве. 8 апреля 1889 года Лев Николаевич отметил: «Жив, в Москве, но не совсем. Встал очень рано, уложился, простился с Урусовым и поехал. На станции и дорогой пропагандировал общество трезвости. Только со станции пришел пешком и то пользовался конками». Как-то раз, 26 апреля 1884 года, Толстому пришлось сойти раньше времени по весьма прозаической причине: «Пошел в книжные лавки, но не доехал, никто в конке не разменял 10 р. Все считают меня плутом». Получается, что Толстого опять не узнали в лицо. Мы даже не будем сомневаться: если бы Толстой оказался узнанным, его провезли бы бесплатно как великого русского писателя!
И все же значение конки в жизни и творчестве писателя огромно: «Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, проезжих, прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленного количества возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую мне кажется, что я прохожу во времени». Трудно не согласиться.
Так что спасибо Долгорукову за конку, а еще за электрификацию. Ведь как раньше освещалась Москва? В лучшем случае – газовыми и керосиновыми фонарями, да и то в центре. А в переулках и по окраинам горели масляные фонари, ставшие к 1870-м годам анахронизмом. К тому же, нередко конопляное масло попадало не туда, куда ему положено, а в кашу. Не удивительно, что по вечерам большая часть Москвы погружалась во тьму: «Освещение было примитивное, причем тускло горевшие фонари стояли на большом друг от друга расстоянии. В Москве по ночам было решительно темно, площади же с вечера окутывались непроницаемым мраком», жаловались москвичи. Электрический свет в Москву пришел в 1883 году, когда на Берсеневской набережной была открыта первая электростанция. Несмотря на то, что мощности ее хватило лишь на освещение Кремля, Храма Христа Спасителя и Большого Каменного моста, это стало переломной вехой в истории Москвы. Через пять лет дала ток электростанция на Большой Дмитровке, позволившая электрифицировать городской центр. А в 1886 году была пущена в строй электростанция на Софийской набережной, дошедшая до нашего времени (МОГЭС). Вряд ли нужно пояснять, какой заряд для своего дальнейшего подъема получила московская промышленность.
Долгорукова называли «князюшкой», «московским красным солнышком», «хозяином» или «барином», говорили, что Москвою он правит «по-отцовски». Все верно, и естественно, как хороший хозяин он любил побаловать москвичей. Градоначальник часто устраивал в Москве праздники, пышно отмечал их, так, чтобы это было радостью для всех городских сословий. Он сам имел привычку появляться среди горожан в праздные дни. Таким он остался в памяти современников: «Его можно было встретить прогуливавшимся по Тверской в белой фуражке конногвардейского полка, форму которого он носил. На Масленице, на Вербе и на Пасхе он выезжал в экипаже на устраивавшиеся тогда народные гуляния и показывал себя широкой московской публике, сочувственно и приветливо к нему относившейся. Он отличался широким гостеприимством: кроме обязательного официального раута или бала 2 января, на который приглашалось все московское общество, все должностные лица, он давал еще в течение сезона несколько балов более частного характера для своего круга. Конечно, очень обширного. Он принимал у себя царей Александра II и Александра III во время их приезда в Москву, угощал и увеселял приезжавших в Москву молодых великих князей и иностранных принцев. Такое широкое представительство обходилось дорого, превышало его жалованье, и он был, как и всякий добрый барин старого времени, в больших долгах», – вспоминал академик М.М. Богословский.
«Широкое гостеприимство» князя, о котором свидетельствует академик Богословский, иногда обходилось Долгорукову действительно слишком дорого. Если верить Владимиру Гиляровскому, на торжественных приемах и блестящих балах в генерал-губернаторском особняке на Тверской улице появлялись не только должностные лица, но и всякого рода аферисты. Светское общество, состоящее из усыпанных бриллиантами великосветских дам и их мужей в блестящих мундирах, разбавлялось (в немалой степени) замоскворецкими миллионерами, банкирами, ростовщиками и даже скупщиками краденого и содержателями разбойничьих притонов. Это были своего рода новые русские того времени, причем всех мастей: «Вот тут-то, на этих балах, и завязывались нужные знакомства и обделывались разные делишки, а благодушный “хозяин столицы”, как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывавших от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам». Всего лишь несколько ярких штрихов к портрету Долгорукова – но насколько же они меняют идеальный, вылизанный биографами портрет князя. Как и история о том, как знаменитый аферист Шпейер, вхожий на балы к генерал-губернатору под видом богатого помещика, продал особняк на Тверской английскому лорду.
Лев Николаевич тоже говорил с генерал-губернатором о балах, но сам он на них не появлялся, а вот дочери… Илья Львович вспоминал: «Помню я, как папа иногда ездил по делам в Москву. В те времена он еще носил в Москве сюртук, сшитый у лучшего в то время французского портного Айе. Помню я, как он, вернувшись из Москвы, с восторгом рассказывал мама́, как он был у генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, и как князь сказал ему, что, когда Таня (которой было в то время лет семь-восемь) вырастет, он устроит для нее бал. Как странно это кажется теперь! И странно то, что Долгорукий свое слово действительно сдержал и Таня была у него на балу, но это было уже в то время, когда отец пережил свой духовный переворот и от светской жизни и балов ушел безвозвратно». Судя по всему, разговор происходил в 1871–1872 годах, когда Лев Николаевич не имел собственной усадьбы в Хамовниках.
Но вернемся к праздникам. Каждый год на шестой неделе Великого поста, в субботу на Красной площади устраивали вербный базар и гулянье. Вдоль кремлевских стен ставили ряды из палаток и лавок, в которых продавали детские игрушки, сладости и всякие безделушки. Торговали здесь и иноземными лакомствами – греческие купцы привозили рахат-лукум, а французы пекли свои вафли. Особенно рад был этому простой народ. Кульминацией праздника становились вербные катанья с участием генерал-губернатора. «Хозяин Москвы» при полном параде выезжал верхом на породистом скакуне, в окружении свиты. Особое впечатление это производило на тех, кто становился свидетелем зрелища впервые. Москвичи встречали этот торжественный разъезд, выстроившись вдоль Тверской улицы. А на Рождество Долгоруков разрешал в Москве кулачные бои.
Помимо праздников, была у него еще одна привязанность. Долгоруков, например, любил попариться в популярнейших Сандуновских банях, где для него в отдельном номере семейного отделения всегда были приготовлены серебряные тазы и шайки. Хотя у князя в особняке были мраморные ванны. И все знали, что он это любит, и за это тоже уважали его. Была в самом факте посещения Долгоруковым Сандунов некая объединяющая его с остальными москвичами платформа.
Именно на долгоруковское время приходится бурный расцвет развития Москвы как экономического и промышленного центра Российской империи. Трудно найти такую область жизни Москвы, которая была бы обойдена вниманием генерал-губернатора. Например, развитие образования, как начального, так и высшего. За двадцать лет, начиная с 1872 года, число детских учебных заведений увеличилось более чем в семь раз, а количество учащихся выросло в шесть раз и достигло 12 тысяч человек. В сентябре 1866 года открылась Московская консерватория. В 1872 году на Волхонке в здании 1-й мужской гимназии торжественно открылись Московские женские курсы (или курсы профессора В.И. Герье), положившие начало высшему женскому образованию в России. В 1868 году на базе Московского ремесленного учебного заведения открылось Императорское техническое училище, готовившее механиков-строителей, инженеров-механиков и инженеров-технологов по уникальной системе образования. В 1865 году в Москве открыла двери для желающих получить образование в сельском хозяйстве Петровская земледельческая и лесная академия. Тщанием Владимира Андреевича необычайно оживилась и культурная жизнь Москвы, важнейшим событием которой стало проведение первого Пушкинского праздника и открытие памятника А.С. Пушкину в 1880 году.
Долгоруков исповедовал принцип открытости: как его дом на Тверской был свободен для желающих посетить князя, так и Москва демонстрировала всему миру свои возможности. Это при Долгорукове в Москве прошла череда интереснейших выставок – Этнографическая в 1867 году, Политехническая в 1872 году, Антропологическая в 1879 году, Художественно-промышленная в 1882 году, Ремесленная в 1885 году, Рыболовная в 1887 году, Археологическая в 1890 году, три выставки по конезаводству и другие… Открытие Исторического музея и освящение Храма Христа Спасителя стало яркими событиями торжеств по случаю коронации императора Александра III в мае 1883 года. А какой незабываемой иллюминацией встретила императора древняя столица! Это было временем настоящего триумфа Долгорукова.
Только Толстому было невесело. Воцарение Александра III ознаменовало собою ужесточение внутренней политики Российской империи (начиная от цензуры до полицейского надзора), явившейся следствием трагической кончины прежнего императора, убитого террористами в марте 1881 года. В поле зрения компетентных органов попал и Лев Николаевич, в частности, московским властям стало известно, что к нему на квартиру в Денежный переулок приехал и поселился каменотес Василий Кириллович Сютаев. Это было в конце января 1882 года. Но чем простой каменотес был опасен династии Романовых? А тем, что это был еще и сектант-проповедник, приобретший большую популярность в московском обществе и весомый авторитет в глазах Толстого, удивлявшегося: «Мы с Сютаевым, совершенно различные, такие непохожие друг на друга люди, ни по складу ума, ни по степени развития, шедшие совершенно различными дорогами, пришли к одному и тому же совершенно независимо друг от друга».
Популярность Сютаева была феноменальной, не Распутин, но все же. Облик каменотеса запечатлел свой кистью Илья Репин, продавший портрет «Сектанта» галеристу Павлу Третьякову, а все остальные – желающие – могли купить его фотографию в магазине на Кузнецком мосту. Льву Николаевичу фотография Сютаева не требовалась – дочь Татьяна скопировала репинский портрет, копия заняла почетное место в кабинете писателя. Илья Толстой вспоминал, что Сютаев имел на его отца несомненное влияние: «На первый взгляд он произвел впечатление самого обыкновенного захудалого мужичка: жиденькая, грязноватого цвета, туго седеющая борода, засаленный черный полушубок, в котором он ходил и в комнате и на дворе, бесцветные небольшие глаза и типичная северная речь на “о”. Как всякий хороший степенный мужик, он имел способность держать себя просто и достойно, не смущаясь никаким обществом, а когда он говорил, то чувствовалось, что то, что он говорит, обдумано им основательно и что поколебать его убеждения невозможно. Сютаев сходился с моим отцом в очень многом. Так же, как и отец, Сютаев отрицал церковь и обрядности, и так же, как и он, он проповедовал братство, любовь и “жизнь по-божьи”. “Все в табе, – говорил он, – где любовь, там и Бог”».
Как раз в это время Илья учился в платной гимназии Поливанова на Пречистенке, куда не раз приходил и Толстой. Поначалу он хотел устроить сына в казенную гимназию, чему воспрепятствовал отказ писателя дать подписку о благонадежности сына-подростка: «Как я могу ручаться за поведение другого человека, хотя бы и родного сына?». Каменотес Сютаев стал для Ильи одним из впечатлений городской жизни, наряду с игрой в бабки и беготней за девочками. Внимать проповедям Сютаева собиралось у Толстых немало умного народу: «Сютаев не только возбуждал их любопытство, но и производил на них сильное впечатление. При чуждых ему людях, “господах”, в барской обстановке, он нисколько не стеснялся, вел себя с большим достоинством и говорил, что думал», – а это уже воспоминания другого сына, Сергея, студента Московского университета. На сыновей писателя каменотес-проповедник, вероятно, оказывал меньшее воздействие, нежели на отца, поражавшегося его «простым» и «правильным» словам.
За Сютаевым следили, как только московский обер-полицмейстер доложил Долгорукову о его появлении у Толстых, генерал-губернатор послал в Денежный переулок «элегантного жандармского ротмистра с поручением выведать у Льва Николаевича, какую роль играет в его доме Сютаев, каковы его убеждения и долго ли он пробудет в Москве. Я не забуду, как отец принял этого жандарма в своем кабинете, потому что я никогда не думал, чтобы он мог до такой степени рассердиться. Не подавая ему руки и не попросив его сесть, отец говорил с ним стоя. Выслушав просьбу, он сухо сказал, что он не считает себя обязанным отвечать на эти вопросы. Когда ротмистр начал что-то возражать, папа побледнел как полотно и, показывая ему на дверь, сдавленным голосом сказал: “Уходите, ради бога, уходите отсюда поскорей, – я вас прошу уйти”, – крикнул он, уже не сдерживаясь, и, еле дав растерявшемуся жандарму выйти, он изо всех сил прихлопнул за ним дверь. После он раскаивался в своей горячности, очень жалел, что не сдержался и поступил грубо с человеком, но все-таки, когда не унявшийся генерал-губернатор прислал к нему через несколько дней опять за тем же своего чиновника Истомина, он никаких объяснений ему не дал, сказавши коротко, что если Владимиру Андреевичу хочется его видеть, то никто не мешает ему приехать к нему самому», – запомнил Илья Толстой.
Стычка с пристыженным Толстым ротмистром, а через него и с Долгоруковым, крепко врезалась в память домашних. Генерал-губернатор к Льву Николаевичу не приехал. К счастью, вскоре Сютаев покинул гостеприимный дом Толстых, а на вопрос одного из своих адресатов в феврале 1884 года, жив ли он, писатель ответил: «Жив. Я не могу видеть его. Велено меня не пускать к нему, а его ко мне».
В октябре 1883 года Долгоруков был вынужден запретить выступление Толстого в Обществе любителей российской словесности в память о Тургеневе. Председатель общества С.А. Юрьев обратился к писателю с просьбой выступить на заседании общества: «Когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков».
Причиной запрета стало указание из столицы. Главное управление по делам печати и министерство внутренних дел слишком опасалось выступления Толстого. Начальник Главного управления по делам печати Е.М. Феоктистов сигнализировал министру внутренних дел Д.А. Толстому: «Толстой – человек сумасшедший, от него следует всего ожидать; он может наговорить невероятные вещи – и скандал будет значительный». В итоге министр «предупредил» московского генерал-губернатора о необходимости цензурного контроля над всеми выступлениями на этом заседании. Вряд ли это поручение было для Долгорукова приятным, он постарался максимально деликатно решить этот вопрос, велев «под благовидным предлогом» объявить заседание «отложенным на неопределенное время».
Софья Андреевна писала сестре Кузминской 29 октября 1883 года: «Левочка для речи ничего не написал, хотел только говорить, вероятно, накануне набросал бы, но так как запретили, то так и не написалось и не сказалось. О Каткове он упомянул бы, но в смысле, что не все мыслящие и пишущие люди свободны от подслуживания властям и правительству, а что Тургенев был вполне свободный и независимый человек и служил только делу (cause), а дело его была литература; мысль свободная и слово свободное, откуда бы оно ни шло».
И все же, запрет Толстому выступать не повлиял на отношение Долгорукова к семье писателя. Уже в следующем 1884 году, 31 января Софья Андреевна рассказывала Льву Николаевичу в письме: «Долгоруков вчера на бале был любезнее, чем когда-либо. Велел себе дать стул и сел возле меня, и целый час все разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особенное внимание, что меня приводило даже в некоторое недоумение. Тане он тоже наговорил пропасть любезностей. Но нам что-то совсем не весело было вчера; верно, устали слишком». А вот еще одно ее свидетельство: «Долгоруков очень просил опять, чтоб мы и сегодня к нему поехали на бал. Очень это скучно, но опять поеду, попозднее только».
Но и удельные князья стареют и болеют, особенно когда им за восемьдесят. И вскоре после грандиозно отпразднованного юбилея Владимир Андреевич запросился в отставку, последовавшую 26 февраля 1891 года. Москва получила нового генерал-губернатора – великого князя Сергея Александровича Романова. Правда, злые языки утверждали, что Долгоруков ушел не сам, а его «ушли». Дескать, из-за своих «напряженных отношений с царской семьей». Не упускал он случая дать почувствовать царствующему дому, что происходит из древнего рода. А двор с трудом терпел его и в итоге вынудил подать в отставку. А сам Владимир Андреевич уходить не собирался – хотел умереть в Москве, здесь, среди своих. Узнав же об отставке, сначала не поверил, прослезился и спросил: «А часовых… часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут… и часовых?!». И часовых тоже убрали. Как писал Влас Дорошевич, с отставкой Долгорукова: «Барственный период “старой Москвы” кончился. Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву. По-своему переиначивать начали нашу старуху. Участком запахло. Участком там, где пахло романтизмом. И только в глубине ушедшей в себя, съежившейся Москвы накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство. Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях, в банкетах и митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад».
Говоря об отношении Толстого к деятельности чиновников разного ранга, хочется вспомнить его размышления, коими он поделился с Боткиным еще 4 января 1858 года. Лев Николаевич пишет, что государственные деятели хотят для себя добиться «звезды или славы», «а выходит государственная польза», которая есть «зло для всего человечества». Или наоборот: «а хотят государственной пользы – выходит кому-нибудь звезда. Вот что обидно в этой деятельности». Кажется, что с годами взгляды писателя по этому вопросу не изменились.









































