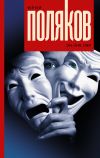Текст книги "На берегах утопий. Разговоры о театре"

Автор книги: Алексей Бородин
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
“Ревизор”
За “Жизнь Галилея” меня премировали в Москве поездкой в Берлин. Потом ездил в Будапешт, а первой капстраной оказалась Италия, турпоездка по линии Всероссийского театрального общества. В одном из городов нам с Борей Морозовым дали номер для новобрачных, мы с ним спали по разным краям широченной кровати под балдахином, а на диванчике в том же номере ночевал художник из Мурманска.
Рим, Флоренция, Венеция, Милан, Ассизи… Подряд. Был конец октября, закат солнца – такой, что словами не передать. Вспомнилось, как делегацию колхозников из Кировской области отправили за границу, прежде они даже в свой областной центр не выбирались, а их сразу – в Париж. Вот и мы примерно в таком положении оказались.
Не думал я, что можно плакать от архитектуры. А вот попал в Италию и понял, что архитектура и скульптура могут звучать. Как “Утро”, “День”, “Вечер”, “Ночь” Микеланджело в капелле Медичи. И стихи его в переводе Тютчева:
Отрадно спать – отрадней камнем быть. О, в этот век – преступный и постыдный – Не жить, не чувствовать – удел завидный… Прошу: молчи – не смей меня будить.
Совершенно неожиданным впечатлением, обрушившимся на нас, оказалось кино, фильмы, которые мы не могли видеть, произвели не менее сильное впечатление, чем сама страна. Мы посмотрели “Казанову” Феллини, “Дневную красавицу” Бунюэля, “Фотоувеличение” Антониони, “По ту сторону добра и зла” Лилианы Кавани смотрели не один раз. Там можно было купить билет и смотреть подряд несколько сеансов.
После столичных гастролей в Кировском ТЮЗе ощущался большой подъем. Тогда я и поставил самый важный для того периода спектакль “Ревизор” – свободный, разнообразный, не бытовой, с Леонидом Ленцем в роли Хлестакова. В Кирове Вениамин Фильштинский ставил “Сына полка” и сказал про Ленца: “Какой состоятельный артист”. Мне очень понравилось это выражение.
Началось с того, как я взял “Ревизора”. Лег на диван, стал читать и на второй странице заснул. Потом проснулся, дочитал и почувствовал, что мне всех персонажей жалко. Еду в поезде, по радио передают какую-то невозможную музыку, впервые она звучала. Аж сердце зашлось. Это была “Метель” Свиридова. Она в спектакль вошла. Прекрасно легла.
“Тоска по лучшей жизни” – так формулировал общую тему “Трех сестер” Немирович-Данченко, а я для “Ревизора” ее позаимствовал. “Трех сестер” я, между прочим, видел, еще когда в школе учился. Не первые составы, конечно, а возобновление Иосифа Раевского. В ложе сидела Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (было это накануне ее ухода из жизни). Раевский восстановил спектакль тщательно, по-мхатовски.
Я потом стенограммы читал Немировича-Данченко. Мудрый и молодой взгляд восьмидесятидвухлетнего человека. Люди не носятся со своими страданиями, но “тоска по лучшей жизни” в них сидит крепко. В этом вся соль.
Как в “Трех сестрах” тоска по лучшей жизни, так и в “Ревизоре”. Я уже рассказывал, как в восьмом классе попал с тетей в Большой театр на “Жизель” с Улановой, гулял по театру и в антракте увидел Завадского, у которого потом учился, в окружении разных людей, среди них была Вера Петровна Марецкая. Они для меня все – небожители, я прямо в колонну вжался и смотрел на них. Может быть, у Хлестакова все то же самое – в Петербурге, в Мариинском театре, тоже стоял, вжавшись в колонну. Только за колонной видел Пушкина с Жуковским.
И у Городничего – мечта: как он с женой и дочкой поедет в большой город. В школе все это трактовалось сатирически, а мне кажется, что все в этой пьесе – люди с неосуществленной мечтой. Всех жаль. И в финале рушатся надежды, обвал настоящий. Тогда приобретает иной смысл знаменитая реплика: “Над кем смеетесь? Над собой смеетесь”. Именно – над собой смеюсь, а не над кем-то.
Три месяца, то есть для Кирова очень долго, репетировали. Закупили для спектакля мешковину и суровое полотно в страшных количествах. Бенедиктов сделал эскизы платьев и фраков. В нашем цехе пошили их из двунитки (такая была дешевая ткань). Стасик их прописал. Сделали вроде от бедности, но пошла она на пользу спектаклю – эффект был поразительный!
Бенедиктов придумал систему занавесов, закрепленных на штанкетах. У каждого было пять веревочных тяг, благодаря которым занавесы поднимались, опускались и каждый раз по-новому формировали пространство. Бенедиктов сам (с двумя учениками) расписывал декорации. Зал обтянули гобеленами, на них была изображена бесконечная дорога, удивительной красоты расписные панно на темы Гоголя: пролетки, верстовые столбы, профили Гоголя, Пушкина…
Актеры играли не только на сцене, но и в проходах партера. Городничий и Почтмейстер читали письмо Хлестакова, стоя на зрительском балконе, а на сцене оставалась только Марья Антоновна. Горели свечи, и она отражалась в зеркалах металлического трельяжа.
В финале занавесы уходили вверх и открывали зеркальную поверхность на задней стороне сцены, как бы отражая эпиграф к пьесе: “Неча на зеркало пенять…”
Наташа Пряник играла Марью Антоновну, Витя Цымбал – Осипа (на Гоголя он был похож и необыкновенно ярко делал первый монолог), Боря Сорокин – Городничего, Ольга Симонова – Анну Андреевну.
Однажды принесли мне на репетицию чай, я чашку по неосторожности опрокинул и залил весь экземпляр пьесы. Расстроился страшно, но для меня это оказалось хорошей приметой. Потом, когда подобное случалось, все заканчивалось более или менее благополучно. Есть еще примета: если пьеса упала, надо на нее сесть. Если сесть невозможно, хотя бы приложить к пятой точке. Последний вариант магического обряда я уже сам выдумал. В Москве однажды слякотной зимой я уронил пьесу в будке телефона-автомата, так я все равно на нее сел – прямо на грязнющий пол.
Значит, ставил я в Кировском ТЮЗе крупные полотна, но на них далеко не уедешь, обязательно нужны спектакли, которые Долгина называет “для зрителя”. Она не только за меня болела, как за себя, поддерживала, но и сама отлично ставила по два-три спектакля в сезон, в том числе “Сказку о царе Салтане”, “Тили-тили-тесто”, “Годы странствий”. Смелянский шутил: “Спрашиваю у Долгиной про Алешины спектакли, она отвечает: “Потрясающе”. Спрашиваю у Бородина про спектакли Лены, он говорит: “Замечательно”.
В Киров я стал приглашать выпускников ГИТИСа. Стас Таюшев поставил с Бенедиктовым “Тимми – ровесник мамонта” (пьеса Иосифа Ольшанского по Айзеку Азимову), Света Врагова – “Весенние перевертыши” по Владимиру Тендрякову, “Месс-Менд” Мариэтты Шагинян ставил Валя Врагов, “Принца и нищего” – Гена Николаев. Эмма Народецкая – по стихам Маршака, очень хорошую музыку написал Алеша Черный.
Главное мое призвание – родитель
Родительское чувство у меня распространяется и на собственных детей, и на актеров, и на студентов, и на молодых режиссеров. Мне в них, как в детях, интересно то, как они будут развиваться. Когда люди соединяются в общество, они вынуждены становиться в ряд – так жизнь устроена, и это ужасно. Мое же дело – дать человеку максимальную возможность развиваться индивидуально.
Не надо вставать в строй, ни в государственный, ни в какой-либо иной. Каждый человек говорит от себя, делится собственным опытом, а он у всех разный. Проблема современной жизни – в отсутствии дискуссии.
В чем смысл нашей короткой жизни? Во взаимодействии, содействии, сотовариществе. Все то же самое и к театру относится. Это вопрос культуры – умение слушать и слышать другого человека. Мама с папой, хороший учитель или даже случайно встреченный человек могут научить, но жизнь зажимает, люди становятся зажатыми, все время что-то из себя строят. Чаще всего это смешно. Театральные профессии амбициозные, но и здесь должны вкалывать рабочие лошади, а не “успешные люди”.
Хорошо, когда твоя работа интересна зрителям, тогда они приходят снова и снова. Их доверие нельзя обманывать. Но я не должен принадлежать какой-то тенденции, к ней подлаживаться, волноваться – наградят спектакль или нет. Все эти премии – игра, и не надо к ней серьезно относиться. “Берег утопии”, например, выдвинули на “Золотую маску”, а дали только специальный приз жюри. Ну и что? “Берег утопии” нужен “Маске” больше, чем “Маска” “Берегу утопии”.
Как-то шел я по пустому фойе, один, и вдруг слышу голос, не внутренний, мой собственный, но прозвучавший будто со стороны: “Меня никто не собьет с пути”. Рассказал артистам, они смеялись.
Себе я этого не говорю, но артистам и студентам повторяю: “Вы – лучшие на свете”. Надо себе самому соответствовать и к себе относиться как к индивидуальности. Лучше она или хуже – пусть другие судят. Режиссеру в этом смысле тяжелее. Ему вообще тяжелее. Он один в первом счете и в конечном счете. Хотя у меня есть художник, друг, с которым я все делю, у нас – общее пространство сцены, есть замечательные мои артисты, но до репетиций и после них ты один. Работа совместная, но ответственный ты. И перед другими, и перед самим собой.
Режиссер и актер – профессии принципиально разные. Я должен актеру уметь объяснить его задачи на сцене, но не распишу точно, как ему их выполнять. А он мне не подскажет, как выстроить спектакль. С актерами надо говорить внятно. Все сомнения оставить “подушке”, не выносить их на люди, не морочить им головы моими проблемами.
Вести хорошего артиста нужно только до определенного момента, а потом его “отпустить”. Дорога уже проложена, но он сам – индивидуальность, отдельная от меня. Я не понимаю разговоров, что актер – пластилин, из которого режиссер лепит. Наверное, и такое возможно, но по моему характеру лучше, когда актер начинает действовать самостоятельно.
После съемок в сериалах многие актеры выучились отвечать: “Сделаю, нет проблем”. У меня от этой фразы уши вянут. Мне интереснее тот, у кого возникает много проблем, прежде чем он что-то сделает. Интереснее искать и находить общий язык. Нет нужды к актерам подлаживаться, но взаимное доверие должно быть, вера режиссера в артиста и артиста в режиссера. Тогда, мне кажется, возникает контакт.
Конечно, артисты – особый народ. Они могут во всем с тобой согласиться, все прекрасно сделать, а потом кто-то со стороны скажет: “Нет, тут что-то не так”, и они тебя заложат.
Я очень люблю артистов, но знаю, что они могут меня в любой момент предать. А они знают, что я их прощу. Ведь творческие отношения, которые возникают на репетициях и в спектаклях, бесценны. Мы же не станем всерьез обижаться на своих детей. Так я устроен. С этим вряд ли что-то поделаешь. Для меня весь театр – ватага, броуновское движение. Молекулы же не станут ходить строем.
Киров. Лаборатория
По возвращении с гастролей из Москвы и Ленинграда мы в Кировском ТЮЗе выпустили “Вестсайдскую историю” – такой сложности работу, что, по идее, надо ради нее на год весь театр останавливать, а у нас было всего двадцать девять репетиций. Я попросил ВТО прислать специалиста по пластике. И приехал Николай Васильевич Карпов – потрясающий молодой уже тогда настоящий мастер (позже он заведовал кафедрой сценического движения в ГИТИСе и создал при СТД школу юного фехтовальщика – превосходно вел свое дело, рано умер, очень тяжело болел, но работал до последних дней).
Три полных дня мы с ним трудились как бешеные.
Я репетировал сцену Марии и Тони, а другие актеры, оговорив со мной, в чем суть, в другом помещении, параллельно сами сочиняли большой игровой эпизод. Татьяна Сельвинская придумала, чтобы у одной из противоборствующих команд костюмы выглядели как американский флаг (и рубахи, и джинсы), но когда ребята вышли на сцену, она замерла и все замерли: получилось очень лобово. Тогда я говорю актерам: “У вас есть час, чтобы обжить костюмы”. Кто-то их рвал, кто-то тер, кто-то пачкал и, когда снова поднялись на сцену, все стало свободным, живым. Так шел процесс высвобождения себя и энергии.
Ленинградский драматург Рудик Кац написал пьесу “Было – не было” – остроумную фантасмагорию на современную тему, смешение реальности и фантазии. А я в конце 70-х страшно увлекся сценической импровизацией. И на каждую роль распределил по четыре актера. Боже, что началось! Бедные девушки из костюмерного цеха плакали – приходилось носиться взад-вперед, то одному тащить костюм, то другому. Составы постоянно менялись. У каждого актера – свой рисунок, свой характер, свои приспособления. Я только за два часа до начала спектакля объявлял актерам, кто какую роль сегодня будет играть. Они сговаривались друг с другом, предлагали разные варианты одной сцены. Цымбал свою собаку притащил, она тоже участвовала в спектакле. Недели три-четыре репетиций – такое счастье.
Смелянский два варианта посмотрел, потом иронизировал, что у Эфроса только один раз видел “Женитьбу”, а у нас дважды “Было – не было”.
Сегодня почти смешно звучит “театр-дом”. Многие скажут – это бред. А я знаю, что такое сообщество всех людей, актеров прежде всего, но и цехов, и всех, кто это обеспечивает. Это идея соучастия, соединения людей, которые собираются вместе. Театр – бескорыстное дело. Театр-дом может создаваться на годы, а может на короткое время, на два-три месяца, как у меня получилось в Исландии. В Кирове мы выпускали семь-восемь премьер в сезон, по-другому нельзя было: город небольшой, такой активный режим для него необходим и органичен. Играли огромные музыкальные спектакли, например “Бумбараш”, а потом, после премьеры – еще на сорок минут капустник.
Когда находилось время и силы? Два месяца репетируем и одновременно ребята готовят вечера. На сцене это было обеспечено творчески, за сценой – человечески.
Мне физически плохо делается, если нет репетиций или их мало. Кошмар. Помню, как выговаривал Люсе Баландиной, когда она была завтруппой РАМТа: “Почему у нас только две репетиции в расписании?” Она: “Алексей Владимирович, возьмите себя в руки”. Вот когда одновременно тринадцать спектаклей выпускается – это да, это я понимаю. Людям лучше становится, когда они много работают, нет времени глупостями заниматься. В Кирове мы работали. Оттуда – желание все делать без скидок.
Хорошую школу я там прошел. Там я понял, что в ответе за все. И выработался перфекционизм: я лично ни на что не претендую, но все должно быть сделано как следует. Главный режиссер – раб на галерах. Нет мелочей, которые его не касаются. Пятьдесят процентов времени работаешь клерком (конфликт между художником и клерком – постоянный).
В Кирове, перед переходом в ЦДТ, я почувствовал себя даже не дедушкой, а прадедушкой, хотя мне тридцать семь лет стукнуло.
Тем временем в ВТО Кнебель руководила лабораторией тюзовских режиссеров: Адольфа Шапиро, Зиновия Корогодского, Льва Додина, Владимира Кузьмина, Юрия Жигульского, Бориса Наравцевича. Я оказался в этом созвездии последним, кого Мария Осиповна приняла. И на второй год моего руководства все они приехали в Киров. В чем состояла эта работа лаборатории? Берем пьесу и за чаем разбираем методом действенного анализа. Если же выезжаем в другой город, то обсуждаем спектакль. К тому времени я уже поставил “Двадцать лет спустя” (всем понравилось), Долгина выпустила “Сказку о царе Салтане” (тоже понравилась). А “Жизнь Галилея” участники лаборатории принялись критиковать. Через пятнадцать минут Мария Осиповна говорит: “Мы все устали, нужен перерыв” (хотя никто не успел устать). Она собрала “аксакалов” и объяснила им, что к молодым нужно относиться снисходительнее. Вторая часть обсуждения оказалась более лояльной.
Пьесы для анализа обычно предлагали Смелянский или Шапиро – по согласованию с Кнебель, конечно. Она очень ценила наше содружество. И мы ее ценили. Мария Исааковна Пукшанская, глава кабинета детских театров ВТО (Смелянский называл ее Голдой Меир) и Светлана Романовна Терентьева из Министерства культуры на всех занятиях лаборатории сидели и слушали, во все вникали.
В Ленинград руководители театров ездили на Брянцевские чтения. Я по сей день помню интонацию, с которой главный режиссер Московского областного ТЮЗа Виталия Семеновна Фридман, когда мы ждали вместе самолет, сказала: “Леша, запомните, ТЮЗ – это прежде всего театр”. ТЮЗ – это театр. Но особенности тюзовского движения – это у меня в первую очередь от Корогодского. Он по природе своей – педагог, всех брал под свое крыло. Разрабатывал целую методику по работе со зрителями. Он тратился на эту работу, на педчасть, на методические письма, которые рассылало министерство, очень много расходовал на это времени и сил. Это и меня развернуло к зрителю. Я согласен, что зритель – равноправный участник спектакля.
Культпоход тогда был обычным явлением. Конечно, это было нужно в самом начале становления детских театров, когда начинали Наталия Сац, Брянцев, Киселев. Но наступило другое время.
Ребенок при коллективном походе не может понять, у него еще урок (дисциплина и занудство) или уже перемена (когда можно делать что пожелаешь). Даже взрослые люди – к нам однажды коллектив завода приходил – чувствуют себя в театре рядом с коллегами как на работе. Мертвый зал.
Корогодский восстал против того, чтобы детей под руководством учителей гнали в театр целыми классами. В этом смысле я – его верный ученик и тоже боролся с тем, чтобы в театр ходили классами. Я стал делать то же самое, что он. В Кирове было шестьдесят школ, и я пятьдесят процентов своего времени тратил на эту работу, знал лично почти всех директоров школ.
У нас организовался Клуб отцов. Человек триста. Там были люди самых разных профессий, не только врачи и инженеры, но и рабочие, шоферы. Они приходили с детьми в театр, потом с детьми занимались отдельно, а я встречался с отцами, объяснял им, что они лучше узнают своих детей, а дети лучше узнают их.
“Театр, расширенный в сторону детства”
Лозунг Брянцева “эстетическая десятилетка” звучит устрашающе, но смысл понятен. Человек проходит потрясающие этапы своей жизни (детство – отрочество – юность – молодость), а дальше приводит в театр собственных детей, и связь не прерывается. Как сказано у Януша Корчака: надо встать на цыпочки и дотянуться до ребенка, а не нагибаться к нему. Корогодский считал, что ТЮЗ – это театр нового поколения. А любимое мое стихотворение:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!
Именно “здравствуй” – как приветствие. И именно “незнакомое”, то есть новое.
Я к зрителям отношусь как к своим детям. Детям мы ведь часто читаем книги, которые выше их понимания. Шестилетнего ребенка спокойно ведем на “Щелкунчика” в Большой театр, хотя ни Чайковский, ни Григорович, ни Вирсаладзе, ни сам Гофман не писали и не ставили в расчете на детскую аудиторию.
Про “Лёлю и Миньку” молодого режиссера по Зощенко до премьеры говорили: “Хороший спектакль, но дети могут не понять”. А нам почем знать? Один и тот же спектакль смотрят мои внуки, Саша и Миша, одному – восемь лет, второму – шесть, один хохочет, а другой голову руками закрывает – ему страшно, когда в фонограмме звучит строгий голос отца. Взрослые же тем временем плачут над своими несбывшимися мечтами.
Как тут разобраться? Я всю жизнь проработал в этой системе, но так и не сумел. Если про Курочку Рябу и октябрят – то детский, а если про мушкетеров и комсомольцев – юношеский?
Я счастлив, что попал в лабораторию Кнебель: она просто работала в театре, не только для детей, и ЦДТ застал в период его расцвета. Знаменитые артисты других московских театров стояли в очереди у администраторов за контрамарками на спектакли “про пионеров”.
Наталия Сац протестовала против “овзросления” ТЮЗов, однако же сама поставила “Чио-Чио-сан”. Ходила легенда, что она предваряла спектакли обращением: “Дети, гейша это не то, что вы думаете”.
У Брянцева было отличное определение – “театр, расширенный в сторону детства”. Именно в детстве формируются основы культурного кругозора, закладываются модели поведения. И впечатления от театра ничем нельзя заменить. Это прикосновение к волшебству и одновременно приобщение к человеческим ценностям, которые, хочется верить, лежат в основе общества.
У детей сейчас огромный доступ к информации, и не стоит этого бояться. Меня самого поразила американская “Рождественская история” по Диккенсу, снятая в формате 3D – сколько новых возможностей! Конечно, театр хранит и передает вечный код человечности, культуры. Другое дело – как он это делает. Отставать нельзя, иначе спектакль превратится в воспоминания немолодых дяденек и тетенек о том, как хорошо было раньше. Корчак, насытивший свою книгу философскими и социальными проблемами, к детям относился по принципу взаимного доверия.
Детей для начала надо знать. Абстракции здесь не годятся. Мы даже не представляем, насколько ребенок ориентирован во всем, что представляет собой игру, остроумную выдумку, живое наблюдение. Тут его компетентность не знает границ. Даже у двухмесячного младенца проявляется личность, а уж пяти-семилетний – это целый мир. Вот годовалая внучка Даша – маленький человечек, еще ходить толком не умеет, для него все – открытие, но его мир в тысячу раз интереснее, чем у затюканных взрослых. Что же говорить про старшую внучку Машу, в ее четыре года мы с ней разговариваем и играем содержательно. Взрослым кажется, что они имеют дело с несмышленышами, на самом деле мир ребенка уже сложился, и нам остается только не навязывать свой, не всегда разумный опыт. Надо наращивать в ребенке его собственное “я”, оберегать, защищать, не спешить запихивать в ячейки. “Членом общества” стать он еще успеет (и чем позже, тем лучше).
Жизнь устроена так, чтобы все усреднить и нивелировать. Я убежден: детство – самый яркий период человеческой одаренности. И как только ты перестаешь сознавать, что зал состоит из самобытных личностей, заканчивается всякий смысл твоей работы.
Относиться к детям как к людям – редкое умение, дар. Если он дан, тогда спектакль становится равно интересным для зрителей разного возраста. Показывают по телевизору “Бемби” Диснея – и взрослый не оторвется, забудет про мытье посуды. Так что художественной специфики в детском театре нет. Не может искусство обслуживать ведомства: театр транспорта – для кондукторов и водителей, театр армии – для солдат и офицеров. Это фальшь. И лозунг: “Все лучшее – детям” – ханжеский. А взрослым – худшее, что ли?
Ребенка надо оберечь от цинизма и жестокости. В театре именно этим следует заниматься.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?