Текст книги "Анархизм"
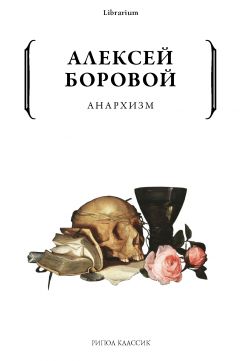
Автор книги: Алексей Боровой
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Язык, семья, отечество сверхиндивидуальны. «Эти три основные образования, – пишет В. Соловьев, – несомненно, суть частные проявления человечества, а не индивидуального человека, который, напротив, сам от них вполне зависит как от реальных условий своего человеческого существования» («Идея человечества у Огюста Конта»). «Язык, – читаем мы у авторитетного русского лингвиста Потебни, – развивается только в обществе, и притом не только потому, что человек есть всегда часть целого, к которому принадлежит, именно своего племени, народа, человечества, не только вследствие необходимости взаимного понимания как условия возможности общественных предприятий, но и потому, что человек понимает самого себя, только испытавши на других людях понятность своих слов». «Лишь в общении человек научается слову, – говорит также С. Трубецкой. – И убеждается во всеобщем логическом значении своего разума».
Этот инстинкт самосохранения связан поэтому уже с первых шагов человеческого существования с инстинктом стадности, о котором говорят все антропологи.
У английского ученого Мак-Дауголла («Основные проблемы социальной психологии») мы находим любопытные рассуждения о стадном инстинкте, не требующем для своего проявления в простейшей форме «каких-либо высоких душевных качеств, никакой симпатии или склонности ко взаимной помощи». Мак-Дауголл считает для антропологии доказанным существование стадного инстинкта у первобытного человечества. Но он указывает также на разнообразные и весьма любопытные проявления его у цивилизованных людей нашего времени. Он отмечает «ужасающий и пагубный рост» современных городов даже тогда, когда это прямо не диктуется экономическими условиями; он отмечает наклонность современной администрации всячески поощрять этот стадный инстинкт и приходит к заключению, что «при значительной свободе образования агрегаций современных наций его непосредственное действие способно дать уклоняющиеся от нормы и даже вредные результаты». Наконец из стадного инстинкта, по-видимому, вырабатывается и то чувство «активной симпатии», принимающее весьма многочисленные и разнородные формы у современного человека, которое необходимо предполагает общение.
Своеобразной иллюстрацией влияния общественности на сохранение индивидуальности, обреченной на гибель в условиях более или менее изолированного существования, могло бы служить указание хотя бы на факт самоубийства в современном обществе. Общеизвестно, что культурные народы современности с замечательной правильностью, характеризующей все социальные явления, дают из году в год определенный процент самоубийств. Среди многочисленных исследований, посвященных изучению причин этой таинственной закономерности, следует особо выделить замечательный труд французского социолога Дюркгейма «Самоубийство». После всестороннего, тщательного анализа разнообразных факторов, вызывающих факт самоубийства – религиозных, экономических, правовых, политических и пр., Дюркгейм приходит к выводу, что «число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции религиозного, семейного, политического общества», или, другими словами, «число самоубийств обратно пропорционально степени интеграции тех социальных групп, в которые входит индивид». Крайний индивидуализм, непризнающий иных стимулов, кроме стремления к немедленной реализации своей воли, – по мнению Дюркгейма – не только благоприятствует деятельности причин, вызывающих самоубийства, но может считаться одной из непосредственных причин такого рода. Наоборот, общественность, вырабатывающая чувства симпатии и солидарности – даже и при современных, в высшей степени несовершенных (экономически и морально) формах ее организации – является могучим средством защиты против общераспространенной и, по-видимому, пока неустранимой тенденции к самоубийству[5]5
Необходимо отдать справедливость Дюркгейму – весьма далекому от анархистского мировоззрения – в том, что, утверждая статистическую закономерность, он тем не менее не склонен утверждать детерминизм для отдельной личности, полагая ее, таким образом, свободной. Ход его рассуждения таков: постоянство демографических явлений порождается силой, лежащей вне индивидов. Сила эта требует определенного количества актов, но ей безразлично, исходят ли эти акты от этого или от другого индивида. Число покоряющихся ей компенсируется числом успешно сопротивляющихся ей. Выбор, таким образом, принадлежит самой личности. При этом личностей, предрасположенных к акту самоубийства, в любой общественной организации в каждый данный момент более, чем действительно совершенных актов. Смысл общей концепции Дюркгейма заключается в том, что помимо физических, химических, биологических и психологических сил, существуют еще силы социальные, которые оказывают свое влияние на индивидов извне так же, как и силы вышеупомянутые. Поэтому, если первые не исключают человеческой свободы, то нет основания думать, что дело обстоит иначе со вторыми.
[Закрыть].
Таким образом, общественность является неизбежным продуктом неискоренимого в нас инстинкта самосохранения.
3. Общественность помимо утоления нашего инстинкта самосохранения представляет еще одну специальную выгоду для развития и совершенствования нашей индивидуальности – выгоду «большого числа».
В настоящее время является более или менее общепризнанным, что увеличение размеров социального круга является чрезвычайно благоприятным как для развития индивидуальных способностей, так и для повышения общего уровня самого общежития.
«В обширном социальном кругу, – пишет, например, Зиммель, – обыкновенно встречается большее или меньшее число выдающихся натур, которые делают борьбу для слабейших непосильной, подавляют их и тем самым повышают общий уровень данного социального круга» («Социальная дифференциация»).
С другой стороны, только большое общество может обеспечить далеко идущую дифференциацию занятий и непосредственно связанную с ней, дифференциацию способностей. Только широкому социальному кругу под силу вырастить и образовать многогранного человека современности с его всеобъемлющим кругозором и ясным пониманием задач мировой культуры[6]6
Contra, например, Б. Сидис: «Сила личности обратно пропорциональна числу соединенных людей. Этот закон верен не только для толпы, но и для высокоорганизованных масс. В больших социальных организациях появляются обыкновенно только очень мелкие личности. Не в Древнем Египте, Вавилоне Ассирии, Персии следует искать великих людей, но в маленьких общинах Древней Греции и Иудеи» («Психология внушения»).
[Закрыть].
Высокодифференцированной личности тесно в небольшом кругу. Под опасением задохнуться и поставить предел дальнейшему развитию своих особенностей, индивидуальность выбрасывается за пределы не дающей простора ее силам общественной группы в поисках за более широким дифференцированным кругом. Мощная личность нуждается в необозримом материале для своего творческого «дела». И ареной ее исканий может быть целый мир.
Довольно примера современной крошечной Швейцарии с ее ограниченным географическим масштабом, с ее мещанским бытом и узким кругозором, чтобы видеть, как крупная индивидуальность, родившаяся в ее пределах, движимая силой безошибочного инстинкта, оставляет отечество и бежит в соседние большие страны. А вослед ей несутся обывательские крики о черствости и неблагодарности к «своим».
4. Как общественности обязаны мы сохранением и последовательным усовершенствованием – в смысле приспособления к новым, более сложным задачам человеческого существования – нашего физического типа, так мы ей обязаны и тем, что является самым дорогим для нас в нашей природе – одушевляющими нас нравственными идеалами.
Мораль также, как наш язык, как наша логика, имеет социальную природу. Понятие оценки, понятие идеала, как и все содержание нашей морали, вырастают на почве борьбы личности за свою свободу, борьбы, предполагающей социальную среду. Следовательно, самые пламенные протесты анархистского мировоззрения против общественного деспотизма, те ослепительные перспективы, которые рисуются нам при мысли, что когда-нибудь падут последние общественные оковы, все же порождены принадлежностью нашей к общественной среде. И не только отрицания наши, но и самые смелые утверждения наши неизбежно строятся на материале, который дает многовековая человеческая культура. Общественность есть гигантский возбудитель наших моральных устремлений. Ей принадлежит заслуга пробудить в нас то, что единственно нам дорого в нашем человеческом существовании – творческую волю к свободе!
5. Новым и, быть может, наиболее значительным аргументом в защиту общественности является указание на то, что каждая автономная личность, каждое самоопределяющееся «я» – в его целом – есть прежде всего продукт общественности.
Кто может из нас сказать – какою частью нашего «я» мы обязаны себе и только себе и что дала нам история и современная общественность? Как определить в образовании нашей личности роль наших индивидуальных усилий, как учесть влияние на нее рода, школы, друзей, творчества всего предшествовавшего человечества?
С момента нашего явления на свет и особенно с момента, когда открывается наша сознательная жизнь, мы приобщаемся к огромному фонду верований, мыслей, традиций, практических навыков, добытых, накопленных и отобранных предшествующим историческим опытом. И так же, как культурный опыт научил нас наиболее экономичными и верными средствами оберегать физический наш организм, так сознательно и бессознательно усваиваем мы тысячи готовых способов воздействия на нашу психическую организацию. И прежде чем отдельное «я» получит возможность свободного, сознательного отбора идей и чувств, близких его психофизической организации, оно получит немало готовых целей и средств к их достижению из лаборатории исторической общественности.
Нашему живому опыту предшествует опыт людей давно умерших, и их могилы продолжают говорить с нами. Они говорят о порывах и творчестве наших предков, о наследстве, оставленном нам. Мы окружены их дарами, не сознавая часто, какие гигантские усилия воли были отданы на завоевание вещей – сейчас нам столь необходимых и всем доступных. Истреблялись племена и народы, исчезали целые поколения, зажигались костры, ставились памятники – и весь этот необъятный опыт отдан нам. И незаметно для нас он овладевает нами, он подсказывает нам наши мысли, пробуждает наши чувства, определяет наши действия.
И уже один факт принадлежности к определенной общественной группе, известному народу или эпохе, независимо от нашего личного участия в их творческой работе, нас совершенствует. Подобно владельцу недвижимости в городе, получающему «незаслуженный прирост ценности» благодаря техническому преуспеванию города или росту его населения, принадлежность наша к известному обществу дарит нас грандиозными интеллектуально моральными завоеваниями, далеко превосходящими наши личные силы.
Так, прежде чем проснулся в нас наш критический дух, мы оказываемся в плену чужих представлений, чужих утверждений, то несущих нам радости, то трагически терзающих нас.
И если в нас не встанет творец, чужие призраки овладеют нами, и мы будем нести их ярмо, не сознавая себя рабами.
Но каждый из нас может и должен быть свободным; каждое «я» может быть творцом и должно им стать. Переработав в горниле своих чувствований то, что дают ему другие «я», то, что предлагает ему культурный опыт, сообщив своему «делу» нестираемый трепет своей индивидуальности, творец несет в вечно растущий человеческий фонд свое новое и так влияет на образование всех будущих «я».
Разве этот непрерывный рост человеческого творчества, где прошлое и настоящее и будущее связаны одним бушующим потоком, где каждое мгновение живет идеей вечности, где всему свободному и человеческому суждено бессмертие, где отдельный творец есть лишь капля во вздымающемся океане человеческой воли, не родит могучего оптимистического чувства? Именно в идеях непрерывности и связности почерпали радостный свой пафос знаменитые системы оптимизма – Лейбниц, Гердер.
Гердевовская идея прогресса есть идея осуществления «человечности» (Humanität, Edie Menschlichkeit), постоянного движения к общей связанности всех и слиянию природы и культуры в одном целом.
Разве подобное учение, обращенное ко всем народам как отдельных самостоятельным индивидуальностям, призыв связать творческие порывы отдельных поколений в одушевленное общее стремление, не есть подлинно анархическое учение[7]7
В философствовании Гердера вообще немало анархических мотивов, несмотря на то, что под его эмпирическим нарядом жил подлинный рационализм.
[Закрыть]?
6. Серьезным аргументом в защиту общественности является факт непрерывного – в интересах личности – прогресса самой общественности.
Мы говорили уже выше о неизбежности рабской зависимости организатора от организуемых, вождя от стада; мы знаем о трагической необходимости для каждой индивидуальности соглашать свою «правду» с «правдами» других и строить таким образом «среднюю», для личности мучительную и ложную «правду».
Мы знаем, как неудержимо еще стремление у современной индивидуальности игнорировать «я» как таковое, попирать чужое «я». Современная индивидуальность еще не останавливается ни перед гекатомбами из чужих устремлений, ни перед существованием рабов.
Но, как говорил еще Фейербах, история человеческого общества есть история постепенного расширения свободы личности.
Процесс ее раскрепощения шел стихийной силой.
Прежде всего самое развитие общественности несло освобождение своему антагонисту. Крупные политические перевороты, революции были одновременно новыми завоеваниями личных прав. Декларации, кодексы оставались их памятниками. Так ранее других с возвещением свободы совести пали религиозные путы.
Правда, рост культуры есть вместе рост задач общественного союза. Полномочия его расширялись и он закреплял свои позиции железной организацией. Так разрастание общественности или, как ее выражения, государственной деятельности, знаменуется постоянным ростом бюджета.
Но, с одной стороны, простого наблюдения политической действительности довольно, чтобы видеть, что рост общественной власти за счет личных прав ныне возможен и терпим лишь в области экономической. Внешние организации, загромождающие новый мир и пугающие нас призраками новых форм закрепощения, создаются почти исключительно в хозяйственных целях.
С другой стороны, именно в усложнении общественности, росте ее функций и органов лежит залог дальнейшего освобождения индивидуальности. Прежнее общество поглощало личность, ибо последняя принадлежала ему всеми сторонами своего существования. Контроль общественности был неизбежен, да и самое благополучие личности зависело всецело от благосклонности коллектива.
Эта централизующая сила, порожденная живыми реальными потребностями, в наши дни более не может быть оправдана, и место ее занимает противоположная тенденция – центробежная.
Современный коллектив к тому же слишком обширен, чтобы опекать каждую личность. Личность находится с ним в самых разнообразных соотношениях, и уже эта многочисленность связей позволяет личности ускользнуть от опеки, избежать кабалы неизбежной в однородности примитивного общества. Рост социально-экономической дифференциации есть таким образом одновременной рост автономии личности. Прогресс общественности становится процессом непрерывного освобождения личности и, следовательно, ее собственного прогресса.
Наконец многообразие современной личности делает решительно невозможным удовлетворение ее запросов собственными средствами. И прогрессирующая общественность приходит ей на помощь. Она дает личности транспорт, дворцы и парки, школу, музей, библиотеку.
Прогресс общественности и личности заключается в углублении их взаимодействия.
7. Всесторонняя оценка общественности не может не поставить перед нами и проблемы великих людей.
Как возможен вообще великий человек: гений, вождь, герой, выдающаяся индивидуальность?
Не есть ли гений в его своеобразии, оригинальности его целей и средств, в его видимой враждебности всему «социальному», – уже само по себе наиболее яркое отрицание общественности? Что связывает с ней великого человека, если она ему готовит обычно трагическую судьбу – быть непонятым, часто гонимым. Чем обязан он общественности, если сущность его индивидуальности и его творческой воли – является живым опровержением его психических критериев и ее воспитательных приемов?
Кому обязаны их гением – Сократ, Галилей, Э. По, Толстой, «своей» общественности, мировой культуре или только самим себе?
Что подтверждают они? Или они совершенное исключение в рядах общественной закономерности, дарвиновская «счастливая случайность»?
Я полагаю – нет! Гений – великая человеческая радость, великий брат, который творческим горением своим приобщает нас вечности и тем дает самое большее доказательство любви, какое вообще может быть дано человеком! Через творческий полет гения связываем мы себя со всем нашим прошлым и будущим, в гении постигаем наши возможности, гением можем оправдать нашу общественность.
Именно гений и есть величайшее торжество общественности, ибо что иное гений, как не синтез всего, что смутно предчувствуется, бродит, и не находит себе формы в самой среде, известившей гения? Гений – живой, органический, своеобразный синтез, способность в многогранной восприимчивости объять все, доступное другим лишь по частям. Отсюда тот восторг и преклонение, которым встречают дело гения все, кто узнает в нем свои тайные предчувствия и в совершенной форме познает свои собственные стремления. Отсюда глумление и ненависть всех тех, кто инстинктивно чувствует в гении способность встать над уровнем среды и, пренебрегая всем условным и относительным, выявить в творчестве своем элементы вечного – говорить не только о настоящем, но приподнять завесы будущего!
Так только может понимать гения анархистское мировоззрение.
Так определял гения анархист-философ Гюйо. «Гений, – пишет он в исследовании „Искусство с точки зрения социологии“, – быть может, более других представляет ineffabile individuum и в то же время он носит в себе как бы живее общество… Способность отделяться от своей личности, раздвоиться, обезличиваться, это высшее проявление общительности (sociabilitè)… составляет самую основу творческого гения…»
Бакунин также понимал гения как продукт общественности: «Ум величайшего гения на земле не есть ничто иное как продукт коллективного, умственного и также и технического труда всех отживших и ныне живущих поколений?.. Человек, даже наиболее одаренный, получает от природы только способности, но эти способности умирают, если они не питаются могучими соками культуры, которая есть результат технического и интеллектуального труда всего человечества».
Существует убеждение, что дело гения – за пределами общественности, что судьбы последней должны быть ему безразличны, что творчество его – его личная необходимость, условие его личного здоровья и благополучия. Гений не растрачивает своего гения, своего «священного огня» на «жалкий род, глупцов», «жрецов минутного, поклонников успеха». По слову Гёте, гений должен строить выше пирамиду своего бытия и оставаться там в творческом уединении гения. Он должен следовать призывам Пушкина:
Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
или:
Ты царь – живи один. Дорогой свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Анархизм отвергнет этот мечтательный и себялюбивый индивидуализм.
Кто стремится к свободе, кто в творчестве утверждает свой идеал, не может любить только свое, но должен любить человеческое. Как могут быть ему безразличны судьбы другого человека, освобождение его, его творчество? Как можно запереть гения в самовлюбленный аристократический цех с внеземными желаниями? Отнять гения у людей – значит оскопить избранника.
Правду говорил Краг: уединиться – не значит уйти от жизни. Узник в оковах разве не живет более бурно, чем всадник на бешеном коне? Монахи из окон монастыря видят жизнь, красные розы, белых женщин, сладострастие. Такая борьба непосильна. Они устают и думают лишь об общей гибели – гибели земли, угасании луны и солнца.
Аскеза гения есть легкомысленная боязнь жизни, а не мудрость. Мудрость должна знать и объять все. И ей учит только жизнь. Монастырь родит соблазны и истощающие крайности.
В чем божественный смысл призвания избранника, как не в благовестии свободы? Как может чувствовать избранник себя свободным, если есть рабы?
И мудрый среди мудрых, человек во всем, Пушкин знал это.
Пусть написаны им выше цитированные строки. Но надо помнить его «Деревню». Надо помнить его «Пророка»:
…обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!
Это ли призыв к самооскоплению? Есть, значит, Бог, совесть, нравственный долг, зовущий к человеку, освобождению его? Есть силы, устремляющие уже свободного пророка к его еще несвободным братьям.
Но лучше взять итоги всей жизни поэта. Они в гениальной парафразе Горация:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.
И замечательно, что в первоначальном черновом наброске поэт говорил иначе:
И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел.
Но формула эта казалась поэту недостойной его как человека и поэта, и венец деятельности своей он нашел в том, что не замкнулся в одиночестве.
И так должно быть! Истинно свободный, последовательно, до конца идущий человек не может отказаться от человека. Чем выше призвание его, тем менее может оно заключать презрения к человеку и его целям. Презреть их – значило бы презреть самую человеческую природу, значило бы впасть в самый тяжкий человеческий грех. «Мир и мы одно, – поучает мудрый Тагор. – Выявляя себя, мы служим миру, спасаем мир, спасаем другие „я“».
Нет формулы более скомпрометированной, более фальшивой, чем формула «общее благо». Но для вождя она должна звучать иначе. Его свобода и радость – в свободе и радости других. Упразднение рабов – и обеспечение «общего блага» – такая же необходимая предпосылка подлинного индивидуалистического миросозерцания, как совершенный индивидуализм есть условие свободной общественности.
Подведем итоги.
Взвесив доводы за и против общественности, мы полагаем, что анархистское мировоззрение, если оно желает быть живой, реальной силой, а не отвлеченным умствованием аморфного индивидуализма должно оправдать общественность.
В ней мы родимся, из нее черпаем питательные соки, ее же обращаем в орудие нашего освобождения. И сама общественность, помимо нашей воли, вне нашего сознания врывается в наш личный жизненный поток. Это неотразимый факт, и было бы недостойной анархиста трусостью – забыться в пустом, но самодовольном отрицании. Было бы напрасным отрицать живущее во всех нас «чувство общественности». Чаадаев был прав, восклицая в «Философических письмах»: «Наряду с чувством нашей личной индивидуальности мы носим в сердце своем ощущение нашей связи с отечеством, семьей и идейной средой, членами которых мы являемся; часто даже это последнее чувство живее первого».
Это справедливо. Чувство общественности нам имманентно. Оно родится и растет с нами.
Но общественность есть лишь связность подлинных реальностей – своеобразных и неповторимых. Поэтому общественность не может быть абсолютной целью личности. Она не может быть безусловным критерием его поступков. Она есть средство в осуществлении личностью ее творческих целей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































