Текст книги "Отличник"
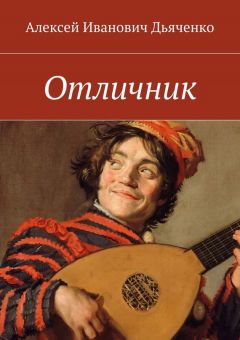
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Работяги рассмеялись и перестали обращать на него внимание.
Что говорить, Антон спьяну продал мастеру второй балкон Леонида (у нашего мастера не было ни одного). Нянчил Антон внука Скорого, дожидался деда, который гулял в тот день сотоварищи в ресторане. Скорый из ресторана вернулся, налил Антону за хорошую службу (внук уже спал) и стал жаловаться на то, что нет у него балкона. «А как бы хорошо с балконом мне жилось!». Ну, тут выпили они еще, и Антон поднял тему балкона. Сказал, что у Леонида их два и один ему точно не нужен, и он, Азаруев, берется уговорить друга продать балкон. Наш мастер, в чем-то хитрый, злобный волк, в чем-то простодушный ребенок, да к тому же находясь под воздействием винных паров, решил: «А что? Правильно ведь Антон говорит, зачем Леониду два балкона, пусть продаст маленький. Мы его разберем, перенесем, а у меня соберем». Не выдержав, Скорый принялся мечтать о балконе вслух. Стал говорить о том, как по утрам на нем будет пить кофе со сливками, а по вечерам – чай с лимоном, как будет на нем встречать рассвет и провожать закат. Как поставит на балконе моноспектакль или заведет голубей, как станет выращивать розы, как купит цепеллин, или воздушный шар и припаркует их к балкону, привязав покрепче веревкой бельевой.
Вся Москва, весь Союз Нерушимый сузился теперь до размеров балкона, а точнее, балкон стал для Скорого и Москвой и Страной. На балконе помещался и Кремль с Мавзолеем, и Красная площадь и даже члены правительства и демонстранты, марширующий по брусчатке. Если в пьесе Шекспира за коня отдавали полцарства, то Скорый за балкон готов был полжизни отдать.
Скорый дал Антону задаток, на эти деньги Азаруев принес еще водки. И вот они сидели, пили и думали, где лучше поставить балкон – в комнате или на кухне. Засыпая, счастливый мастер бормотал себе под нос: «И правильно. И буду я жить с балконом!».
Утром, проснувшись и протрезвев, мастер подумал и сообразил, что балкон перенести невозможно. Он умолял Азаруева никому об этой сделке не говорить, Антон клялся самыми страшными клятвами, но, стоило мастеру в тот же день переступить порог института, как коллеги его самым серьезным образом осведомились: «Не хотите ли, голубчик, свой балкон застеклить?».
Это была очередная шутка Леонида, жестокая шутка. Узнав от Антона, который ничего не мог от него утаить, про балкон, он подослал Яшу Перцеля (режиссера с нашего курса) к педагогам со следующим предложением: «Есть знакомые рабочие по застеклению балконов, которые, уважая творчество нашего учителя, застеклят ему балкон совершенно даром. Но, чтобы не попасть в смешное положение, нужно прежде узнать, хочет ли того мастер». Те и узнали. И никак не рассчитывали на столь громогласный ответ. Он их прямо на месте покрыл семиэтажным матом, а Азаруева обещал выгнать. Но не выгнал. После этого инцидента с внуком просил сидеть меня, услугами Азаруева пользоваться перестал.
– Совести, говорит, у тебя нет, – передавал Антон слова мастера, – а я говорю: «Совесть у меня есть, только я ей не пользуюсь».
После этого-то в пивной он и крыл по матушке мастера.
Глава 15 Хильда
После Клавдии из ансамбля песни и пляски веру в себя, в свои силы вернула мне немка, звали ее Хильда. Приехала она из Германии, не ко мне и даже не к нам, а к третьему курсу. Но так как у меня там были приятели, то я и оказался вместе со всеми, за их праздничным столом. Приятели, надо заметить, сделали все возможное, чтобы меня на этом вечере не было, да и откровенно говоря, я туда не рвался.
Актер с третьего курса Орест Прокопенко, с которым я шапочно был знаком, в тот день вдруг раскрыл мне свою душу, стал делиться своими сомнениями насчет правильности выбора профессии, стал рассказывать о своих работах, о том, как все трудно ему дается. Приглашал к себе домой на обед, хотел познакомить меня с мамой. Не подумайте чего, он просто находился тогда на распутье. Впоследствии он бросит карьеру актера, устроится на станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе высококвалифицированным рабочим и успокоится, – да, и такое бывает; но в тот день мы ходили по городу, и он все говорил мне что-то, говорил, не мог выговориться. Ему было плохо.
На обед к нему мы, понятно, не пошли, да и с мамой его я, наверное, так никогда и не познакомлюсь. Пошли мы в тот день к нам в общежитие, на Трифоновскую. Сам он был москвич, и в общежитие шел только с тем, чтобы встретиться со студентами из Германии. Шел без энтузиазма и меня просил его сопровождать.
Сначала мы поднялись в одну из комнат, в ту, где собрались почти все ребята, – мужская половина, – в ожидании того часа, пока девицы в буфете сварят пельмени, накроют столы и позовут их пьянствовать.
В начале, как мне показалось, ребята смотрели на меня недружелюбно, но очень скоро, за разговорами, все размякли, напряжение спало, и они легко, чуть ли не с удовольствием, приняли меня в свою компанию. Настолько приняли, что когда явились гонцы и сообщили, что все готово, время спускаться в буфет, пить, развлекать немцев и веселиться, то и вопроса ни у кого не возникло, брать меня с собой или нет. А главное, этого вопроса не возникло в моей голове. Я даже не подумал о том, зачем, на каких правах я пойду в буфет, с какой стати буду там пить и есть за чужой счет.
Признаюсь, на своем курсе я трудно сходился с людьми, происходило все как-то постепенно, а с этим третьим курсом я настолько слился, что стал у них за родного. Настолько близко знал каждого, что подчас казалось, что я уже учился вместе с ними. Это мое к ним доброе расположение они чувствовали и платили мне той же монетой, то есть симпатией. Я доподлинно знал, что друг с другом они ругались, ссорились, чуть ли не дрались. В отношениях же со мной как-то все были равны. Поэтому я и ощущал себя на вечере, хоть и не званым, но желанным гостем. В конечном счете я спускался в буфет не для того, чтобы объедать или обпивать, я шел за компанию, шел, потому что меня пригласили друзья и мне с ними было хорошо.
В буфете, на сдвинутых колченогих столах, покрытых щербатым пластиком, стояли тарелки с пельменями, бутылки с выпивкой и стаканы. Стол был скромный, если не сказать бедный, впрочем, собрались не ради еды и питья, а ради общения.
Общение началось, как всегда, тягостно, но потом разгулялись, наши показывали пластические этюды, сохранившиеся в памяти еще с первого курса. Немцы пели тирольские песни, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону.
После официальной части началась неофициальная. Свет погасили, включили цветомузыку, начались танцы. Я не танцевал, скромно сидел за столом. Помню, подошел ко мне Соболев Сергей с немецкой бутылкой в руке и предложил выпить. Жидкость в бутылке по цвету напоминала чернила. Я сказал. Что выпил водку и боюсь мешать, как бы чего плохого не вышло. Я не стал ему говорить, что мне пить чернила противно, просто предложил выпить нашей московской водки.
– Да-а? А я, дурак, пью все подряд, – сказал Сергей и как-то разом сник, загрустил.
Мы выпили с ним водки, посидели, поговорили. А затем меня пригласила на танец немка, которая очень хорошо говорила по-русски. Она очень красиво произносила русские слова, очень точно формулировала вопросы, слишком правильно выстраивала фразы. Только по этой напряженной, чрезмерной правильности, которую совершенно невозможно встретить у русских людей и можно было понять, что она иностранка. Звали ее Хильда. Волосы были тонкие, как паутина. Но их было много, целая копна. И ничего-то особенного в ней не было, разве что белые зубы. Худая, неладно сложенная, с асимметрией в лице, нос слегка кривоватый, один глаз больше другого, такой тогда привиделась. До сих пор не могу понять, какой такой магией, какими такими магнитами притягивала она к себе. Разве что отличалась повышенным вниманием, искренним интересом ко всему. Внимание – оно дорогого стоит. Кто с тобой внимателен, тот почти что мил.
Как-то в мужской компании зашел разговор о женщинах и кто-то из актеров стал ругать их за то, что иной раз у них глаз нет, выходят замуж за тех, с кем рядом и стоять не должны бы. Тут, кажется, Леонид о внимании и сказал, и я тогда внутренне с ним согласился, но открыто его не поддержал. Наши все накинулись на него, мол, какое еще внимание, если там бегемот. В общем, не поняли его.
Хильда вела себя, как ребенок, задавала тысячу вопросов, ей все было интересно. Из чего сделаны пельмени? Почему русские так любят березы? И я, как мог, на все ее вопросы отвечал.
Весь вечер она танцевала только со мной. В те короткие промежутки времени, когда музыка не играла, мы с ней просто стояли и беседовали. Многие подходили, бесцеремонно вторгались в наш разговор, но незримая связь между нами была настолько крепка, что никто ее не мог разорвать, никто не мог втиснуться в образовавшееся пространство взаимной симпатии. Раза два чуть ли не силком, а если говорить не кокетничая, то именно силком, одурев спьяну и потеряв всякие приличия, хватая за руки и не спрашивая на то разрешение, Хильду уводили на танец (само собой не немцы, а наши).
Но, даже танцуя с грубияном, она смотрела на меня, подавала какие-то знаки, смеялась и показывала утащившему ее актеру в мою сторону. Видимо, объясняя, что я без нее скучаю, и что она обещала этот танец мне. В общем, я ее провожал. В отличие от сокурсников, она поселилась в свободной квартире своих московских друзей.
Доведя ее до подъезда, я было взялся за прощальную речь, но она, не дав мне говорить, попросила проводить до квартиры. Я повиновался. Она пригласила на чашечку кофе, я поблагодарил и отказался. Сказал, что уже поздно и что ей нужно спать, но потом еще часочек погуляв и купив у таксиста бутылку водки, я вернулся и позвонил в знакомую дверь.
Она открыла не сразу. Когда же открыла, то очень удивилась, увидев меня. Она к тому времени уже спала и выглядела сонной, но тут же нашлась, сказала, чтоб я проходил; сама в это время пошла, умылась и навела марафет. Через какое-то короткое время она уже выглядела так, словно вовсе и не спала.
Мы стали пить купленную у таксиста водку, я стал рассказывать о своей жизни; под самое утро, достаточно к тому времени осмелев (впрочем, ни на что при этом не рассчитывая), потянулся к немке своими губами. Как это ни смешно, но я при всей видимой ее симпатии ко мне, готов был к полнейшему отказу и, даже более того, ожидал от нее оплеухи, звонкой, размашистой и, возможно, нанесенной именно по бесстыже вытянутым губам.
Но произошло то, что и должно было произойти. Она сама подалась ко мне навстречу, и сама поцеловала меня. А главное, взяла инициативу в свои руки (я бы с ней так и целовался целый час, а потом бы ушел восвояси).
Не дав мне насладиться поцелуем, она отстранилась, чмокнула, как бы в виде извинения в нос, встала и, взяв меня за руку, вывела из-за стола. Подведя к кровати, сказала какую-то скороговорку, смысл которой сводился к тому, что она уступает моим домогательствам и после этого стала раздеваться.
Я, как только сообразил, что «состоится» и что уже «началось», отвернулся от нее и сам стал разоблачаться. Раздевался я быстро и при этом, как теперь вспоминаю, на нервной почве, очень громко запел. Пел, разумеется, сам себя не слыша.
Несмотря на то, что я молниеносно разделся, она меня опередила. Я, оставшись в плавках, повернулся, ожидая, что придется помогать ей. Я совершенно искренне полагал, что она за этот короткий отрезок времени успеет только снять туфли и развязать пояс на платье. Но вместо этого увидел ее совершенно нагую, да к тому же успевшую занять на кровати грациозную позу невинной добродетели.
Далее помню только то, что прозрачный воздух перед моими глазами задрожал и поплыл, как это бывает над горящим костром. Она обняла меня, прижалась к телу. Сделалось сладко. А затем эти объятия, насколько помню, незаметно перешли в усталость и сон.
Когда я проснулся, то Хильду совершенно не узнал. Она мне показалась безумно красивой. Она как-то свободно, без напряжения и скромности громко смеялась. Говорила о том, что мы, русские, странные люди; дескать, зачем было уходить, когда она оставляла, а затем приходить, когда она уже спала. Зачем нужно было поить ее водкой и мучить рассказами о том, чего она просто не в состоянии понять в силу того, что она иностранка. Говорила она все это с любовью, и я на нее обижаться не мог. Более того, я во всем с ней соглашался, просил за все прощения, но сам тут же в себе самом понимал, что иначе оно никак и быть-то не могло.
Так я с Хильдой и подружился. Тогда же и имел возможность еще раз хорошенько ее рассмотреть. Роста была она среднего, нормального телосложения, грудки кругленькие, хорошо развитые, бедра тоже округлые, соблазнительные. Ноги особенной худобой не отличались и, возможно, там, в буфете, худощавой она мне показалась из-за тонких рук, да и выставленных напоказ ключиц. Волосы на голове были пепельного цвета, глаза серые с огоньком, нос прямой, а не кривой, каким показался на танцах, губы чувственные, зубы белые и неправдоподобно красный язык. Этот рот почему-то более всего к себе притягивал. Хотелось смотреть и смотреть на эти белые зубы, которых у нее было, как казалось, больше, чем у обычных людей, на эти мягкие, живые, находящиеся в постоянном движении губы, на этот красный и влажный ее язык, который часто, как это делают малые дети, когда хотят подразнить, она мне показывала.
И, конечно, прежде всего, мне в ней нравилось то, что она была немка. Это было необычно и непривычно для меня, для русского паренька из провинции. Разве мог я даже помыслить о том, что моей девушкой будет гражданка Германии. Иностранцы и иностранки были для меня существами с другой планеты. Конечно, и тело ее мне очень нравилось, оно мне тогда казалось настолько совершенным, что я помыслить себе не мог, что может быть что-то подобное, а тем более лучшее. Ощущение было такое, словно шел я долгой дорогой к женщине и, наконец, пришел. Хильда дала мне то, о чем я мечтал, когда представлял себе женщину. Дала светлое представление о женщине, светлый образ. И я, долго не думая, предложил Хильде выйти за меня замуж.
Она очень серьезно отнеслась к моему предложению и спросила, о чем я мечтаю.
– О тебе.
– Хорошо. Я тоже о тебе мечтаю. Но я спрашиваю, какая в твоей жизни самая большая мечта, какова у жизни цель?
Я покраснел и признался ей, что мечтаю стать великим театральным режиссером, и хочу посредством своего искусства сделать жизнь краше, а людей совершеннее. Одним словом, хочу стать спасителем мира, летящего в пропасть.
После этого она внимательно рассматривала мою левую ладонь, совсем как цыганка, заглянула в мои глаза и сказала, что они у меня, как у ребенка: «В центре детские, наивные, а по краям грустинка взрослая». Она как-то странно перебирала мои пальцы, гладила мои руки, так трогают матери руки своих детей. Заметив бородавки на моей руке, Хильда сказала, что у нее тоже они были и что я непременно их должен свести. Очень крепко меня обнимала, что для хрупкой девушки было совсем не характерно. Тогда уже она, видимо, решила, что не пойдет за меня замуж, так как вместо ответа попросила время на то, чтобы все хорошенько обдумать. А мне, такому стремительному на предложения руки и сердца она пересказала в двух словах содержание книги, которую совсем недавно прочитала.
В этой книге пастух встретил монаха, разрешил погреться ему у костра, накормил. Разговорились. Заметив, что пастух грустит, монах поинтересовался причиной его грусти. Вроде молод, здоров, красив. Что за беда такая? Да, я молод, здоров, красив, – отвечал ему пастух, – но сердце мое не на месте. Не могу я ощущать себя счастливым, видя, как страдает мой народ. Вот если бы был я настолько богат, что смог бы помочь народу своему выбраться из нищеты и невежества, тогда не страдал бы, не грустил, обрел бы покой и счастье. И монах поведал пастуху о том, что знает такое место, где лежат бесчисленные сокровища, но взять их может только тот, кто отдаст все это богатство своему народу, все без остатка. И если чувствует пастух в себе такую силу, то монах ему укажет дорогу (Хильда сказала «даст адрес»). И пастух пошел. Долго шел, истрепался, оголодал и решил устроиться на временную службу к богатому человеку. И на службе у него он разбогател. Заработал деньги, конечно, не такие большие, чтобы весь народ осчастливить, но для него, для одного достаточные. Заработал и успокоился, но хозяин напомнил ему о его великой задаче, о высокой его цели, и пастух, бросив нажитое, снова отправился в дорогу за сокровищами для народа. По пути влюбился в женщину и решил на ней жениться, нарожать вместе с ней детишек, обзавестись хозяйством. Но она любила его, знала о его высокой цели, и сказала, что он должен идти за сокровищами, которые нужны его народу. А то не будет спокоен в семье, возненавидит со временем и ее, и детей, не закончив, не сделав главного дела своей жизни. А как исполнит то, что ему предназначено, если не передумает, то пусть возвращается к ней, она будет ждать.
– А почему монах сам не отдал сокровища нищему и невежественному народу? – спросил я.
– Наверное, это был Лютер, который мог только на словах заботиться о народе, а сам, нарушив обет безбрачия, женился, заработав денег на своем протесте, открыл пивную, постоялый двор.
– Ты католичка?
– Я безбожница, как и все мы, социалистические. А иначе с тобой бы не встретилась.
Я хотел спросить, чем же закончилась сказка, но не спросил, решив про себя: «Сказка, она и есть сказка, все в ней всегда заканчивается хорошо».
В тот же день, прямо с утра, мы пошли с Хильдой в кинотеатр повторного фильма на «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Минелли в главной роли. И что же? Она предложила мне прямо во время сеанса развратничать, то есть прилюдно заниматься тем, чем занимались мы в уединении дома. Рядом со мной сидел политический обозреватель газеты «Известия» Александр Бовин, которого она, конечно, знать не могла. Я в ответ на ее жаркие просьбы сказал: «Мне неудобно». Она поняла это русское слово по-своему и зашептала: «Я тебе помогу». Я от ее помощи отказался, и она весь фильм сидела, насупившись, и вела себя, как чужая. Нет, на это я не способен был пойти, даже в фантазиях своих. На мгновение представил лишь тот момент, когда бы нас с позором выводили и содрогнулся. Да к тому же, при входе в кинозал Александр Бовин так обнадеживающе на меня посмотрел, дескать, вот она, растет наша смена, будет на кого страну оставить (я тогда такие взгляды коллекционировал), но как все это было ей объяснить. Дя и нужно ли объяснять такие элементарные вещи?
После фильма Хильдя попросилась в зоопарк, мы туда пошли пешком. По дороге зашли в аптеку и купили ляписный карандаш, которым я уже неоднократно мазал свои бородавки, отчего они чернели, становясь похожими на проказу, но исчезать не собирались. Хильда моего скептицизма не поддержала, повторила, что я бородавки должен непременно свести, и сделать это просто. Надо уничтожить главную, и все остальные исчезнут следом за ней. Мои бородавки ей заметно не нравились, раздражали ее.
Женщина-провизор посоветовала отвар полыни, сок рябины, уксус, на исходе месяца завязать узелок и закопать его в землю. Еле вырвались, еле убежали от ее полезных советов (советовать все мастера, у самой, у провизора на носу, между прочим, была огромная бородавка, что-то не помогли ей ее испытанные средства).
В зоопарке мы смотрели на моржа, на пингвинов, на обезьян. Прохаживались мимо клеток с хищниками и кормили пеликанов. Белый медведь, умница. Ему бросали конфеты «Золотой ключик», он разворачивал их и кушал без обертки, а ведь лапы у него огромные, а конфеты маленькие, поди ж ты, приноровился.
Хильда и в зоопарке не унималась, предлагала перелезть через ограду, на территорию к косулям и там, за горой все же сделать то, на что я в кинотеатре не решился. Я и это ее смелое предложение отклонил, как дикое и невыполнимое.
Тогда, не в силах более сдерживать себя, она на такси повезла меня в свою московскую квартиру, на улицу Пруд Ключик. Устроила мне показательный стриптиз. Раздевалась она театрально, раздевалась медленно. Умела раздеваться, как-то по особенному. Делала все так, как будто училась этому ремеслу много лет. Казалась совершенно чужой, недоступной, а от этого еще более желанной. Замирал мой дух, душа трепетала, сознание туманилось, как будто был я во хмелю. Вот, что делала со мной Хильда.
Весь следующий день провел я в институте, зашел к ней после института, дома никого не оказалось. Не открыла она мне дверь и на следующий день. Я не знал уже, что и подумать, но на третий день Хильда нашлась. Она сообщила мне, что уезжает, и чтобы я ей непременно писал. Поцеловала, села в такси, и за ней мягко, почти беззвучно захлопнулась дверца. Я опустил глаза, она, наверное, на меня смотрела, но я с тех пор ее больше не видел. Как будто что-то предчувствовал. И предчувствие меня не обмануло. Пришел на следующий день в институт и застал Леонида за рассказом. Он повествовал о том, как они с Азаруевым весело порезвились с немочкой по имени Хильда. Должна была быть с ней ее подруга, но подруга не приехала, так что Хильде одной пришлось отдуваться за двоих. Я стоял, слушал все это и чувствовал, что вот-вот упаду в обморок. Все это не могло, не должно было быть правдой, хотя бы потому, что я ее так сильно любил. Как могла она перешагнуть через мои чувства и поехать к Леониду? Да и разве можно было с ней, такой гордой, знающей себе цену, обходиться так по-скотски, употребляя, как гулящую. Я в это не мог поверить, и, однако ж, не верить было нельзя. Леонид, в свойственной ему живой манере рассказывал о своей встрече с немкой такие подробности, что сомнения, которые поначалу еще и теплились, очень скоро исчезли.
Встреча с Хильдой для Леонида была обычной, ничем не отличимой от других интрижкой. Он не любил Хильду, не раскрыл ее душу. Она осталась для него простым куском мяса, на котором в нескольких местах была растительность. Я же Хильду успел полюбить, для меня она была целым миром, прекрасным миром. В иные минуты ощущалась просто какая-то родственная связь, чуть ли не кровное родство. Конечно, ни Антон, ни Леонид, узнав о ее измене, не страдали бы так, как я страдал. Да и само это понятие, применительно к Хильде, вызвало бы у них только насмешку. Я же мучался, переживал настолько, что просто словами не передать, страдал неимоверно.
Душа моя отяжелела, я не мог ходить, ноги были не в силах ее носить. Я все думал об измене, о тех противоречиях и несправедливостях, которыми переполнена человеческая жизнь, и пришел к такому выводу, что для Хильды, возможно, я был таким же эпизодом в московской поездке, как Леонид и Антон. И даже наименее интересным. В кинотеатре не умеет, в загоне с косулями боится, что за кавалер? Это для меня встреча с ней стала событием, перевернувшим все мировоззрение. Я-то думал тогда, что был развращен, развратен, – ошибался. Хильда дала мне понять, что я до встречи с ней все еще оставался целомудренным человеком. Она меня с головой окунула в такое пекло, до которого я, идя прежней своей дорожкой, сожительствуя с постылыми и случайными, не опустился бы и за целое десятилетие. Она обуглила мою душу огнем из преисподней, нанесла сокрушительной силы удар по представлениям о чести, долге и морали. Красота и разврат, эти два слова стали для меня синонимами, понятиями, не отделимыми друг от друга. Я потерял веру в Добро. Хильда подняла на высокий пьедестал мои представления о женщине, и она же низвергла этот светлый идеал в пучину без дна. Она дала мне понять, что это такое, женское любящее тело, женская любящая душа, как все это может быть прекрасно, и в то же время дала возможность испытать то невыносимое страдание, когда знаешь, что это прекрасное у тебя отбирают. Когда оно становится достоянием многих и с ним эти многие обращаются незаслуженно плохо.
Перед Хильдой я имел опыт сексуального общения только с Клавой, хотя при известных стараниях и желании, наверное, мог бы иметь и с другими. Мне, конечно, повезло, что их не было, но даже если пофантазировать и представить, что они были и что вместе с ощущением гадливости я бы вынес от общения с ними и известные болезни, все это в совокупности своей не принесло бы мне того горя, тех физических и нравственных страданий, какие я испытал, благодаря неприличному поведению Хильды.
Она тогда казалась мне хуже всех в сотню раз. Я был убежден, что именно она загнала мою душу в тот ад, в который ее не смогли бы загнать никакие привокзальные и плечевые, со всеми их бесстыдными замашками. Как говорят физики, всякое действие равно противодействию. Насколько хорошо мне было с ней, настолько же плохо стало без нее. Говоря «с ней», я не имею в виду только плотские услады. Дело-то в том, что я уже жил с совершенно другим сознанием, в котором всегда и везде была она. И я рад, очень рад тому, что хватило у меня сил не винить в случившемся ни Леонида, ни Антона, ни Хильду, а только себя. А ведь какой был соблазн свалить всю свою досаду за случившееся на других. А винить во всем себя было тяжело, было невыносимо, но именно это меня и спасло. Спасло от самообмана и, в конечном счете, от неминуемой гибели.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































