Текст книги "Повседневная жизнь советской коммуналки"
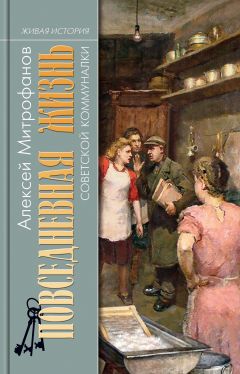
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Что к чему? Организация пространства
Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой
Соседушка с соседушкою баловались водочкой.
Все жили вровень, скромно так: система коридорная,
На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.
Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогреечка.
Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка,
– пел Владимир Высоцкий в «Балладе о детстве».
Большинство наших современников знают о логистике советской коммунальной квартиры именно по этой песне и некоторым ей подобным, а также по добрым ностальгическим фильмам вроде «Покровских ворот».
Что ж, и в песнях, и в фильмах есть своя доля правды. В частности, эта правда – правда «Баллады о детстве» – подтверждается мамой Высоцкого Ниной Максимовной: «Замечательный был этот дом 126… В доме была коридорная система, ранее это была гостиница “Наталис”. Коридоры широкие, светлые, большая кухня с газовыми плитами, где готовились обеды, общались друг с другом хозяйки, производились стирки, в коридоре играли дети. Народ в нашем доме был в основном хороший, отзывчивый, почти в каждой семье было несколько детей. Мы тесно общались семьями, устраивали совместные обеды и чаепития, в трудные моменты не оставляли человека без внимания, случалось, и ночами дежурили по очереди у постели больного.
В праздничные дни тут же, в широкой части коридора, устраивались представления и концерты. Действующими лицами были дети. Володя тоже принимал в них участие. У него была прекрасная память, он выучивал длинные стихи, песни, частушки, прекрасно и выразительно читал их».
Тот же Владимир Семенович прославил и другой московский коммунальный дом 15 по Большому Каретному переулку. Здесь прошло его детство. Он обозначил этот факт в своей известной песне:
Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где мои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
А где мой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где меня сегодня нет?
На Большом Каретном.
Упоминался тот дом и в другой песне Высоцкого:
В этом доме большом раньше
пьянка была
Много дней, много дней.
Ведь в Каретном ряду первый дом
от угла —
Для друзей, для друзей.
За пьянками, гулянками, за банками,
полбанками,
За спорами, за ссорами – раздорами
Ты стой на том, что этот дом
Пусть ночью и днем всегда твой дом,
И здесь не смотрят на тебя с укорами.
Высоцкий, родившийся в 1938 году, жил здесь с конца 1940-х до конца 1950-х годов. Самое-самое время, чтобы пробовать жизнь на зубок.
Кстати, даже черный пистолет в той знаменитой песне имел свой прототип. Школьный товарищ Высоцкого Игорь Кохановский рассказывал: «Или вот песня “На Большом Каретном”. Там стояла наша школа, и там жил Володя, а в этом же доме жил его хороший друг и даже хороший родственник – Анатолий Утевский. Толя учился в той же школе и был двумя классами старше нас. Он был из семьи потомственных юристов и, когда окончил школу, поступил в МГУ на юридический факультет… Утевский проходил практику на Петровке, тридцать восемь. И ему дали пистолет – черный такой, помните: “Где твой черный пистолет?!”…».
Сам Высоцкий вспоминал то время, ту свою «каретную» компанию: «Это было самое запомнившееся время моей жизни. Позже мы все разбрелись, растерялись… Но все равно я убежден, что каждый из нас это время отметил… Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы ни были; понимали по жесту, по движению глаз – вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности и раскованности – друг другу мы были преданы по-настоящему… Сейчас уже нету таких компаний: или из-за того, что все засуетились, или больше дел стало, может быть».
* * *
Но жизнь, как обычно бывает, гораздо богаче и разнообразнее.
Коммунальная квартира начиналась с коридора. Нет, даже не с коридора – с входной двери. Когда деревянной, а когда обитой дерматином. Других вариантов не было. Замок – элементарнейший. Нет смысла ставить что-либо надежное и дорогое, если квартира – не крепость, а проходной двор. «Правила внутреннего распорядка в квартирах» от 1929 года даже специально оговаривали: «Входные двери черного и парадного ходов должны быть всегда на запоре».
Это положение, однако, то и дело игнорировалось.
В СССР тогда вообще не уделялось слишком пристального внимания замкам. Лишь бы видимость была. Ильф и Петров писали в фельетоне «Равнодушие» в 1932 году:
«Был дом, счастливый дом, семьдесят две квартиры, семьдесят две входных двери, семьдесят два американских замка. Утром жильцы уходили на работу, вечером возвращались. Летом уезжали на дачи, а осенью приезжали назад.
Ничто не предвещало грозы. О кражах даже не думали. В газетах отдел происшествий упразднен, очевидно за непригодностью уголовной тематики. Возможно, что какое-нибудь статистическое ведомство и выводит раз в год кривую краж, указывающую на рост или падение шнифа и домушничества, но граждане об этом ничего не знают. Не знали об этом и жильцы счастливого дома в семьдесят две квартиры, запертые семьюдесятью двумя массивными американскими замками – производство какой-то провинциальной трудовой артели. Отправляясь в свои предприятия и учреждения, жильцы беззаботно покидали квартиры.
Сперва обокрали квартиру номер восемь. Унесли все, кроме мебели и газового счетчика. Потом обокрали квартиру номер шестьдесят три. Тут захватили и счетчик. Кроме того, варварски поломали любимый фикус. Дом задрожал от страха. Кинулись проверять псевдоамериканские замки, изготовленные трудолюбивой артелью. И выяснилось. Замки открываются не только ключом, но и головной шпилькой, перочинным ножиком, пером “рондо”, обыкновенным пером, зубочисткой, ногтем, спичкой, примусной иголкой, углом членского билета, запонкой от воротничка, пилкой для ногтей, ключом от будильника, яичной скорлупой и многими другими товарами ширпотреба. К вечеру установили, что если дверь просто толкнуть, то она тоже открывается.
Пришлось завести семьдесят третий замок. Это был человек-замок, гражданин пятидесяти восьми лет, сторож по имени Евдоким Колонныч. Парадные подъезды заколотили наглухо. И сидит теперь старик Колонныч при воротах, грозя очами каждому, кто выходит из дома с вещами в руках. И платится Колоннычу жалованье. И уже закупается Колоннычу на особые фонды громаднейший тулуп для зимней спячки. И все же дом в страхе. И непрерывно в доме клянут ту буйную артель, которая бросила на рынок свое странное изделие.
А ведь артель знает, что ее продукция отмыкается и пером “рондо”, и простым пером, и вообще любой пластиночкой. И работники прилавка знают. И начальники торгсектора в курсе. И все-таки идет бойкая торговля никому не нужным миражным замком – продуктом полного равнодушия».
* * *
Авторы лишь мельком коснулись тут довольно странного, непостижимого и до сих пор никем толком не разъясненного явления – тотальное закрытие парадных подъездов и перевод всего человеческого трафика на черные лестницы, которыми раньше пользовалась исключительно прислуга.
Теорий существует множество. И то, что новая власть, сама фактически вышедшая из класса прислуги, продолжала считать себя таковой и на парадных лестницах ей было некомфортно. И то, что эти самые парадные лестницы требовали освещения, отопления и уборки в гораздо большей степени, нежели черные, а новая власть была вынуждена экономить на всем.
Интересную теорию изложил писатель Юрий Маркович Нагибин: «С самого своего возникновения советская власть наложила запрет на парадные двери и проходные дворы. И в тех, и в других виделась возможность бегства. Лишь в середине тридцатых открыли ворота в Сверчков, а перед войной отомкнули парадный ход. К тому времени уже всех поймали, и бежать стало некому».
Несмотря на очевидную эпатажность этой мысли, нечто разумное в ней явно есть.
* * *
Впрочем, покинем уютное пространство любительской культурологии и вернемся на старую добрую коммунальную лестницу. Точнее, на так называемую лестничную площадку.
Рядом с дверью – совершенно фантастический натюрморт из множества разнокалиберных звонковых кнопок и разнокалиберных же проводов, к ним подходящих. Часть закрашена краской (в основном терракотового цвета), а часть нет. Отсюда сразу можно сделать вывод: те жильцы, у которых кнопки с проводами чистые, вселились позже, уже после того, как здесь в очередной раз делали ремонт и «подновляли» дверь. Жильцы с закрашенными кнопками, соответственно, являются своего рода старожилами.
Фамилии жильцов значатся здесь же, на таких же не похожих друг на друга бирочках. «Ивановы». «Петровы». «Смирнов Александр Иванович». «Попандопуло». «Меерсон». До десятка, а иной раз и больше.
В тех коммуналках, где соседи более или менее дружные, кнопка была одна. И бирка тоже. Но большая:
«Ивановы – 1 зв.
Петровы – 2 зв.
Смирнов Иван Иванович – 3 зв.
Попандопуло – 4 зв.
Меерсон – 6 зв.».
Что случилось? Почему вдруг Меерсону – шесть? А пять тогда кому?
Да никому. Может быть, жили здесь еще какие-нибудь Кимы или Интрилигатор-Козлевичи. Жили да съехали. Сами или под конвоем – подробность в данном случае несущественная и даже сильно нежелательная. А на их место заселились, например, Петровы. А Меерсону как звонили шесть звонков, так и звонят, не переучиваться же из-за такой-то мелочи. Или не мелочи?
Словом, история покрыта мраком.
* * *
И уже потом за дверью следовал коридор. Как правило, огромный, но при этом очень тесный. Неудивительно – места в комнатах не хватало на весь скарб, накопленный подчас десятилетиями.
Вот воспоминания Лидии Либединской о коммунальной квартире на Покровском бульваре, в котором жила поэтесса Марина Цветаева:
«Свернув с бульвара в один из покровских переулков, мы с Алексеем Кручёных вошли в полутемный подъезд большого “доходного” дома и вот уже поднимаемся на лифте куда-то очень-очень высоко (а может, это мне только кажется?), звонок в дверь, такая же полутемная прихожая коммунальной квартиры, загроможденная сундуками. Тяжелая дубовая вешалка, где-то под потолком велосипед, неподвижный, а потому беспомощный. В квартире идет ремонт, пол проломлен, белая меловая пыль покрывает все.
Дверь открыл высокий широкоплечий юноша в кожаной куртке на молнии. Это сын Марины Ивановны Георгий, Мур, как его называли дома. Он попросил нас пройти в комнату».
Краевед Яков Миронович Белицкий вспоминал о скромном обиталище Ильи Ильича Шнейдера, секретаря Айседоры Дункан: «Теперь, когда проходишь по этому коридору, с расположенными на видных местах книгами, плакатами и диаграммами, даже мне, не раз бывавшему здесь раньше, трудно вспомнить, где была его комнатка… Я помню этот коридор узким и темным, с длинным и унылым рядом обшарпанных дверей, за которыми бесконечно и разноголосо шумела московская коммуналка… Мне и сейчас еще слышится, как на кухне шипят, обливаясь кипящим молоком и щами, керогазы и примусы, хотя, возможно, это наплыв более давних и совсем других воспоминаний».
* * *
Первое время в коммунальных коридорах часто ночевали домработницы. До революции это явление было распространено повсеместно. Нищий студент мог отказаться от горячих обедов, от кофе и чая, иметь лишь одну пару обуви – но домашняя работница у него была, хотя бы приходящая. Эта традиция настолько прочно въелась в мозг, что долго не могла оттуда выбраться. Власти разрушали храмы, освобождали угнетенные народы, создавали те же коммуналки – и при этом спокойно мирились с институтом домашних работниц. Видимо, чтобы не увеличивать и без того катастрофические нагрузки на биржи труда.
В свою очередь, еще до революции многие практически (а кто-то и фактически) породнились со своей прислугой. Не только бывший барин не мог представить свою жизнь без домработницы – и домработница не представляла, как это она вдруг окажется предоставлена сама себе, боялась такой перспективы до желудочных колик. К тому же некоторые крестьянки, оказавшись не у дел, перебирались в город и записывались на биржу труда как потенциальные домработницы. Прекратить эту практику значило нанести еще один удар и без того плачевному рынку занятости.
Возникла парадоксальная ситуация: тот, кто до 1917 года как-то обходился без домашней работницы, вдруг получил возможность ею обзавестись.
Вот характерный эпизод из жизни поэта Сергея Есенина, описанный библиографом Иваном Ивановичем Старцевым: «Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры “Пугачева” и, уходя в “Стойло”, забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папке. И что же – в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру “Пугачева”) и сожгла ее. Корректура была выправлена на следующий день вновь».
В этот период жизни Сергей Александрович скитался по писательским коммунам и по коммуналкам. Но без прислуги – пусть и приходящей – своей жизни не мыслил.
Этим труженицам чужого быта следовало где-то спать. Днем они находились как бы одновременно всюду и нигде определенно. То на кухне готовит, то ванную чистит, то в магазин за картошкой пошла. Но во время сна ей все же была необходима определенная локация.
В комнатах и без того было тесно, да и класть туда прислугу казалось неправильным – чужой все-таки человек. Бывшие помещения для домработниц функционировали в режиме полноценных жилых комнат. Оставался коридор.
Вот воспоминания Глеба Горбовского:
«Родился в городе. Причем в прекрасном городе.
Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем “черный ход” коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире “ничья бабушка” из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки, да так и забытая в коридоре, – то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись, – во всяком случае, бабушка жила в коридоре на сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на свет электролампы, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины. Ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.
Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как “поветь”, “поскотина”, “пряслице”, “загнеток”, “лукно”, “гумно”, “сусек”, казавшиеся мне словами если не сказочными, то иностранными. Эти лохматые, грубого помола “скобарские” выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне, крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша».
Впрочем, известны совсем уж экзотические истории. В частности, в одной из московских коммуналок, состоящей всего из двух комнат, домработница жильцов одной из этих комнат спала в ванной. И ничего, соседи были не в претензии. Действительно – должен же где-то спать советский человек, строитель коммунизма.
Ванная комната вообще воспринималась многими не как инфраструктурный элемент, а как жилая площадь, ничем не отличающаяся от другой такой же жилой площади – бывшей каминной, например, или же дворницкой. Мариенгоф писал в повести «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги»: «Мы обменялись со своим парнем жилплощадью: Кирка перебрался в отремонтированную бывшую ванную комнату, а мы в ту, где он проживал сначала в фибровом чемодане, а потом в кроватке с пестрыми шнурами».
Так продолжалось до 1929 года, после чего – не домработниц запретили, нет, конечно. Просто стали требовать согласия соседей на размещение прислуги в общественных местах. Соседи, разумеется, давать такие разрешения не спешили – кто-то хотел денег (очевидно же, что домработницу держат не самые бедные строители коммунизма), кто-то принципиально был против. В любом случае, в прихожих и других местах стало значительно просторнее.
Тем не менее ванная комната и впредь нередко уступала свои первоначальные функции в пользу более насущных. Владимир Лакшин писал о литературном критике Марке Щеглове: «Я вспоминаю его… дома, в Электрическом переулке близ Белорусского вокзала, в этой маленькой, узкой, как щель, полутемной комнатке, служившей некогда ванной и заселенной в эпоху коммуналок и “уплотнений”, – он сидит, подвернув ноги, на сундуке, с книжкой в руках».
Марк Александрович, один из талантливейших отечественных литературоведов, с двух лет болел костным туберкулезом и скончался в возрасте тридцати лет. Живи он в нормальных условиях – видимо, протянул бы дольше, и отечественное литературоведение от этого здорово выиграло бы. Но, как нетрудно догадаться, в послевоенные годы, к каковым относятся воспоминания Лакшина, было не до литературоведения, не до литературных критиков и не до инвалидов. Рассовать бы кое-как людей по норам и углам.
* * *
Одним из основных участников коридорной жизни, постоянно отыгрываемых режиссерами и живописцами, был велосипед. Он либо стоял, либо висел на рогульках. Детские трехколесные велосипеды все время откуда-то свешивались, и рослые жители коммуналок регулярно задевали их своими нечесаными, а нередко и вшивыми головами.
Чтобы представить себе все разнообразие этих колесных жителей, расскажем коротко об эволюции советской двухколески.
Все началось в 1939 году, когда Пермский машиностроительный завод стал выпускать подростковую «Каму» – с невысокими колесами, рулем, напоминающим турьи рога, и складной рамой, облегчающей хранение велосипеда в условиях советской коммуналки. Первое время раму действительно складывали и раскладывали, а потом механизм либо ржавел и переставал раскладываться, либо расшатывался, после чего приходилось выбрасывать весь велосипед.
Тем не менее сама модель вышла живучей – ее сняли с производства только в 2006 году.
Сразу же после войны, в 1946 году, в рамках конверсии стал выпускать велосипеды Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Модель так и называлась – «ЗиЧ-1», что расшифровывалось как «Завод имени Чкалова – Первый». Второго, правда, не последовало, зато первый вышел хоть куда. Крепкая, мощная, практически неубиваемая машина с переключателем передач, звонком, кожаной сумкой, прицепленной не к верхней раме, а к заднему багажнику – это смотрелось солидно. Кожух от попадания штанов между ведущей звездочкой и цепью. А главное – фара на крыле переднего колеса и генератор, питающий эту фару от энергии вращения того же переднего колеса.
На этой штуке можно было ездить ночью по разбитым послевоенным дорогам и ничего-ничего не бояться.
С 1947 года в цехах Минского мотовелозавода приступили к выпуску велосипеда «Аист» – тоже со складной рамой и высоким рулем. «Аист» также был снабжен откидывающимся костыликом для парковки при отсутствии внешних опор в стоячем состоянии. То есть после откидывания костылика велосипед приобретал третью точку опоры, и его не надо было ни прислонять к чему-либо, ни класть на пыльный асфальт. Вещь довольно удобная.
Это единственная советская модель велосипеда, которая выпускается по сей день.
Еще один подростковый велосипед, рассчитанный на седоков десяти-одиннадцати лет. Он так и назывался – «Школьник», встал на конвейер Горьковского велосипедного завода в 1956 году и выпускался ровно три десятилетия. Честно говоря, о нем даже писать не хочется – такое ощущение, что эту синюю или зеленую конструкцию без каких-либо отличительных черт и так представляет себе каждый читатель, более или менее интересующийся прошлым (а другой читатель эту мою книгу просто в руки не возьмет). Он разве что выделялся защитным кожухом, размещенным над цепью и призванным защищать штаны всадника от попадания и зажевывания этой хорошо промасленной деталью. Но это в теории. А на практике цепь все равно почему-то зажевывала край штанов, и его приходилось, как и на других велосипедах, фиксировать деревянной (а других в то время и не выпускали) бельевой прищепкой.
В 1964 году на Харьковском велосипедном заводе начали выпускать гоночный «Спутник» – лаконичный, как советский сервант приблизительно той же эпохи, но зато с системой передач двумя тормозами и круто загнутыми вниз рогами руля. Как начали, так и закончили – в 1968 году «Спутник» вдруг сняли с производства. Ну а там и коммунальная эпоха медленно пошла на спад.
В середине прошлого столетия все велосипеды должны были иметь свой регистрационный номер, состоящий из названия города, собственно номера и года его выдачи. В сельской местности этим, естественно, пренебрегали – там и у машин-то не у всех имелись номера. В городах и правда приходилось регистрировать и вешать. Это касалось даже детских трехколесных велосипедиков, на которых малыши гоняли под двору.
Были редкостью, но все-таки существовали велосипеды с моторчиком – так называемые самоходные велосипеды. Моторы, впрочем, ставили и сами пользователи – тогда велосипед превращался в мопед или приобретал более скромное, вполне расхожее название – «велосипед с моторчиком».
В некоторых случаях велосипеды выдавались на работе в качестве служебного транспорта – например почтальонам. Иногда к велосипедам прицепляли нечто наподобие прилавка – такой велосипед участвовал в процессе уличной торговли.
Однако же у большинства жителей коммуналок при слове «велосипед» всплывал в памяти огромный, неудобный и рогатый монстр, стоящий или же висящий в коридоре и щедро раздающий синяки квартирным обитателям, особенно когда они слегка «подвыпивши».
Власти старались поощрять велосипедный спорт. В частности, в 1930 году «в целях облегчения трудящимся возможности приобретать велосипеды и увеличения средств для строительства и расширения велосипедных заводов» были выпущены так называемые «велосипедные обязательства», дающие возможность накопить деньги на двухколеску. По сути это был целевой вклад, а не возможность приобретать велосипеды в кредит. Таким образом, коммунальные коридоры обзаводились все новыми и новыми двухколесными жителями.
* * *
Непременное условие существования коммунального коридора – его заброшенность, неряшливость, нечистота. Что вполне объяснимо – он не был чьей-то территорией, жилой комнатой, не был санузлом, чистка которого строжайшим образом регламентировалась, и не был кухней, в которой волей-неволей поддерживался некий порядок просто в силу крайней востребованности этого пространства.
Коридор был ничейный и, можно сказать, лишний. По нему ходили. Для хождения требовалась узенькая полосочка по центру. Все остальное захламлялось и не чистилось. И потому что некому, и потому что стереть пыль с такой большой мусорной кучи было невозможно в принципе, так же как и вымыть под ней пол. Уже упомянутые велосипеды, сломанные лыжи, перегоревшие фонари, испорченные патефоны, покривившиеся деревянные счеты, затупившиеся коньки для фигурного катания, разболтанные стулья, сломанные детские игрушки, металлические ванны для купания младенцев, садовые лейки, выцветшие картонные коробки, корзины для сбора грибов, тазы, ветошь и всяческая арматура.
Коридоры бывших дореволюционных доходных домов подчас были очень широкими – в таких приживались отслужившие свое конторки, станины от швейных машин и даже продавленные диваны. А в диванах водились клопы.
Зато светильников и абажуров в коридорах не наблюдалось – разве что испорченные, в общей куче коммунального хлама. Причина все та же – было совершенно непонятно, кто купит и прикрутит этот абажур. Даже лампочка перегоревшая менялась с большим скрипом – случалось, коммунальный коридор на целые месяцы погружался во мглу.
И, разумеется, всякий уважающий себя коммунальный коридор был украшен электрическими счетчиками. Их могло висеть и десять, и больше – по числу квартиросъемщиков. Счетчики были хотя и похожи друг на друга, но все-таки разными – кто уж какой купил. Где купил. Или когда купил. Здесь соседствовали представители самых разных поколений счетчиков.
Они тихо шуршали и громко вздыхали, тикали и стрекотали, в них что-то крутилось и плакало. Все это было привычным. На счетчики не обращали внимания – разве что снимая показания расхода электричества.
* * *
Кстати, в провинции было не лучше. Вот воспоминания бывшего жителя казанской коммуналки:
«Я очень хорошо помню такую коммуналку. Она была на первом этаже нашего Z-образного дома по улице Восстания в Ленинском тогда еще районе. Дом был, кажется, на балансе Вертолетного завода, и жили в доме преимущественно рабочие и служащие этого крупнейшего в городе предприятия.
В коммуналке этой жило четыре семьи. Наша семья жила рядом: в однокомнатной сталинке. Квартира у нас была большая, с огромной прихожей, в которой стоял отцов мотоцикл “Иж”. Жило нас в квартире четверо: родители, мать отца и я. А в коммуналке, куда я заходил как к себе домой, поскольку дверь запиралась только на ночь, был длинный коридор, упирающийся в две двери: в туалет и в ванную.
По левую сторону коридора было три двери. За одной жил мой одногодок и однокашник Вовка Герасимов, за другой – Вовка Черников. Тоже мой приятель, на год старше меня. Третья дверь в самом конце коридора вела на огромную общую кухню.
По правой стороне коридора было две двери. За одной проживала одинокая дама, еще не старая, красивая до невероятия и ходившая в шелках. Была она, кажется, из “бывших”. Или, скорее, из детей тех, кто не успел свалить после революции в Париж.
Вторая дверь, в конце коридора, вела в квартиру Вовки Полякова, тоже старше меня на год или два. Вроде бы у него была сестра, но девчонки меня в то время не интересовали.
Таким образом, в коммуналке проживали сразу три Вовки. Я и они – вот вам и дворовая хоккейная команда».
Дети в коммунальных коридорах чувствовали себя вольготно: «К этим трем Вовкам я приходил, как к себе домой. Я был свой. И тотчас подключался к их коридорным играм. Шумели мы нещадно. А когда попадали мячом в детскую ванну, и она еще сваливалась со стены на пол, раздавался такой грохот, словно кто-то над головой колотил ломом по листу оцинкованного железа. Не знаю, как остальные, а мы балдели от таких звуков и хохотали до упаду.
Конечно, коридорные баталии были лишь в непогодь. А так мы целыми днями пропадали во дворе, изредка забегая домой, чтобы перехватить кусок хлеба, намазанный вареньем или посыпанный сахарным песком, и тотчас умчаться обратно. Нам всегда было некогда. И я не помню, чтобы эти трое Вовок когда-либо ругались между собой, чего-то не поделив».
* * *
А вот воспоминания об одесском коммунальном коридоре 1970-х: «В одной из комнат обитали мать с дочерью на выданье, в другой – украинская семейная пара среднего возраста. Жена, Валя, была маленько туга на ухо:
– Сэргожа! Сэргожа! – каждый раз, зовя мужа на обед, орала она на всю квартиру.
– Та шо, Сэргожа, Сэргожа! Чую я! – бурчал он, продвигаясь по темному коридору по направлению к их комнате.
Сэргожа любил поддать, и, когда кто-то из наших вскользь упоминал, что “сегодня Сережа сильно выпивший”, я старалась в коридор одна не выходить – как все дети очень боялась пьяных: мне казалось, они очень опасны.
Мой папа несколько раз вставлял лампочку, чтобы злополучный коридор хоть как-то освещался (через него пролегал путь к нашей кухоньке):
– Валендра (Валя) несется с кастрюлей горячего борща, она ребенка может инвалидом сделать! – говорил он маме, имея в виду, что кастрюля имеет шанс вылиться на меня.
– Ходи подальше от дверей, – предупреждал он меня.
Но лампочки хватало на день… И опять я осторожно “кралась” по коридору, держась за шкафы с одной стороны, чтобы не оступиться, высчитывая несколько ступенек, ведущих к кухне, и стараясь держаться подальше от внезапно распахивающихся дверей соседей».
Было в том коридоре и некое замысловатое ответвление, в котором, увы, тоже нельзя было почувствовать себя в полнейшей безопасности: «В маленьком коридорчике, куда выходили двери из нашей комнаты и из жилища нашего конкурента, стоял папин письменный стол, за которым он по ночам делал уроки, обучаясь на вечернем факультете института, и Витькин огромный картонный ящик (попрошу заметить, он сыграет свою дальнейшую роль в истории нашей семьи). Двери наших комнат так неудачно открывались по отношению друг к другу, что была велика вероятность получить в лоб Витькиной дверью. Учитывая, что все семейство не отличалось спокойствием, двери распахивались ожесточенно.
– Витя, ты бы хоть зарубку поставил, – попросила мама, однажды выходя из комнаты, неся на руках грудного брата и чудом успевшую отскочить, чтобы не быть ударенной вышеупомянутой дверью, – ты же мне ребенка покалечишь.
– Я тебе зарубку на голове поставлю, – не полез за словом в карман бывший уголовник».
А вот и интрига – картонный ящик Витьки-уголовника: «Все бы, может, ничего, но близился выезд одной из семей и Витек становился все более свирепым. Уж очень ему хотелось завладеть еще одной комнатой.
В один прекрасный летний день, явившись домой после прогулки, мы с мамой увидели Полину Николаевну, торопящуюся к нам:
– Вашу бабушку в больницу отвезли! Ее Витька избил!
Не буду описывать, что мы испытали, когда забрали бабушку с синяками и кровоподтеками на лице, с выбитым зубом: она возвращалась с пустым бидончиком из магазина – он ее этим бидончиком в темном коридоре и поколотил. Был товарищеский суд. Все вернулось на круги своя.
И когда бабушка, совершенно случайно познакомившись возле Оперного театра с женщиной из маленького зеленого городка на Западе Украины, о котором мы и слыхом не слыхивали, узнала, что дама ищет обмен в Одессе, она заинтересовалась. Скажу только, что после продолжительных раздумий (как же можно оставить красавицу Одессу?) наша семья поменяла то, о чем сказано выше, на отдельную трехкомнатную квартиру с ванной и туалетом. А также горячей водой.
Вы спросите: а при чем тут картонная коробка? А при том, оказывается, что Витька (как он мотивировал) побил бабушку за обнаруженные за коробкой куски засохшей еды, якобы бросаемой нами ради подлости. Я, тот еще едок, когда меня кормили “ложку за маму, ложку за папу”, набирала полный рот еды и выплевывала все это за Витькину коробку. Желая побыстрее избавиться от ненавистных макарон с мясом и менее всего ожидая совершить подлость».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































