Текст книги "Повседневная жизнь советской коммуналки"
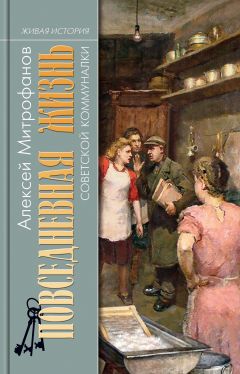
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
* * *
Одним из самых знаменитых жителей московских коммуналок был писатель Михаил Булгаков. Отчасти благодаря тому, что он «вселил» в свое жилье на улице Большой Садовой героев легендарного романа «Мастер и Маргарита». Там же состоялся знаменитый «бал у Сатаны»:
«В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой – стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый – прозрачно-фиолетовый, второй – рубиновый, третий – хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз…
Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами».
События разыгрывались здесь нешуточные: «Барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.
– Я пью ваше здоровье, господа, – негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами…
Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:
– Пей!»
Но истинная жизнь советских коммуналок все равно была гораздо интереснее, чем вымышленные события.
* * *
Михаил Афанасьевич первое время жил в подъезде слева. История вселения в тот дом описана Булгаковым в рассказе «Воспоминание…». Формально он посвящен Ленину, однако же в действительности в нем описывается бедственное положение Михаила Афанасьевича, только что приехавшего в столицу, и роль Крупской в его избавлении от бед:
«Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.
В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза – на стульях и один раз – на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, – это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал».
Но приятель, встреченный счастливым образом у Брянского (ныне Киевского) вокзала, приютил писателя. Осталось только прописаться.
Правда, прописывать Булгакова никто не собирался. Тогда последний записался на прием к Надежде Крупской:
«В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.
– Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.
– Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.
И я вручил ей мой лист.
Она прочитала его.
– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?
– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.
Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:
Прошу дать ордер на совместное жительство.
И подписала:
Ульянова.
Точка.
Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.
Забыл.
Криво надел шапку и вышел.
Забыл».
В результате Михаил Афанасьевич сделался полноценным жителем квартиры 50 дома 10 по улице Большой Садовой. Куда впоследствии привел и свою первую супругу, Татьяну Николаевну.
Булгаков сообщал в письме сестре: «Самый ужасный вопрос в Москве – квартирный. Живу в комнате, оставленной мне по отъезде Андреем Земским. Больш. Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в нее стоило больших хлопот».
Затем он переехал – в подъезд справа, в квартиру напротив. Его новая комната была с видом на старую. Татьяна Николаевна Булгакова писала: «В этой квартире жил миллионер, Артур Манасевич. Он давал деньги домоуправлению на содержание дома – какие-то у них были свои дела… Его окна были как раз напротив наших – и он видел всю нашу жизнь… Когда умер его брат, им надо было кого-то вселять, и он сказал: “Самые тихие люди – Булгаковы”. Комната была, конечно, хуже нашей первой – та была солнечная, а здесь венецианское стекло смотрело прямо в стену мастерской. Ну, он оклеил комнату обоями, говорил, что – телефон и все такое… Мы решили переехать».
Главное – здесь не было той полукриминальной атмосферы, которая была присуща первому жилью. Булгаков описал его в стихах:
На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в этом доме наш брат
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом,
Как какой-нибудь, извините
за выражение, атом.
Жаль, некоторых удобств нет,
Например – испорчен ватерклозет.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический – странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того ни
с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней
горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос выводит
«бедная чайка…»,
А за правой играют на балалайке[2]2
1921 год.
[Закрыть].
* * *
В 1930-е годы в одном из полуподвалов в Долгом переулке, рядом с улицей Плющихой, вернувшись из скитаний по Европе, проживал писатель Андрей Белый. Некогда эта квартира была полностью в распоряжении его супруги, Клавдии Николаевны Васильевой, но эпоха нарушила и это прайвеси.
Художник Николай Кузьмин писал:
«Андрей Белый жил в ту пору в полуподвальном этаже, по тогдашним масштабам – даже и не очень тесно и не очень темно, но на беду за углом дома была молочная, где в иные дни “выдавали” творог – продукт по тем временам дефицитный. Очередь за творогом двигалась вплотную мимо окон рабочей комнаты Белого, закрывала свет – в комнате становилось темно.
Белый бежал к окну и кричал в форточку истерически: “Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!” Толпа шарахалась в сторону, и ноги, двигавшиеся мимо окон, исчезали. Но проходило немного времени, и мучения поэта начинались снова: опять вереница ног двигается у самых окон и опять в комнате наступает затмение.
– Я живу под хвостом! – восклицал Белый патетически, придавая этим словам какое-то апокалипсическое значение».
А вот воспоминания о той же комнатке этнографа и фольклориста Нины Ивановны Гаген-Торн:
«Долгий переулок. Спускаюсь в подвал. Звоню… Кто-то открывает мне дверь.
– Борис Николаевич – к Вам!
И Борис Николаевич суетливо выскакивает:
– Пожалуйста!
Вхожу в комнату. Вижу только окна под потолком и в них – ноги прохожих, идущих по переулку. Борис Николаевич суетится. Чуть приподнимается с кресел навстречу мне лик Клавдии Николаевны. И – снова садится в угол. Молчаливо: как статуя Будды. Борис Николаевич вертится с “лягушачьей какой-то улыбкой”, которую он описал у Николая Аполлоновича Аблеухова в “Петербурге”. Я начинаю говорить – точно камни в гору тащить на спине!
– Эти годы занимаюсь я сплошь этнографией. Я пришла рассказать Вам… Надо мне рассказать Вам о шаманах.
Рассказываю…
Танцевали жесты Бориса Николаевича, брызнул в воздух фейерверк его мыслеобразов. Все ласковее становилась улыбка сидевшего Будды».
* * *
По коммуналкам скитался и Осип Эмильевич Мандельштам. Валентин Катаев так писал о нем в повести «Алмазный мой венец»:
«Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение “Нашедший подкову” и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбило его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарношепелявым голосом с акмеистическими завываниями:
– …свой благородный груз… – Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.
– …свой благородный груз, – шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки. – С чего начать? – продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев садика перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном».
А его жена Надежда Мандельштам писала в мемуарах:
«Зиму 23/24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся, трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями – не вишни, а люди…
От стен, что ли, шел мертвящий дух или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду».
Впрочем, и сам поэт не был в восторге:
«Хозяин моей временной квартиры – молодой белокурый юрисконсульт – врывался по вечерам к себе домой, схватывал с вешалки резиновое пальто и ночью улетал на “юнкерсе” то в Харьков, то в Ростов.
Его нераспечатанная корреспонденция валялась по неделям на неумытых подоконниках и столах. Постель этого постоянно отсутствующего человека была покрыта украинским ковричком и подколота булавками.
Вернувшись, он лишь белокурой головой потряхивал и ничего не рассказывал о полете… Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”.
Внутри их комнаты были убраны, как кустарные магазины, различными символами родства, долголетия и домашней верности. Преобладали белые слоны большой и малой величины, художественно исполненные собаки и раковины. Им не был чужд культ умерших, а также некоторое уважение к отсутствующим. Казалось, эти люди с славянски пресными и жестокими лицами ели и спали в фотографической молельне… Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы».
Кончилось тем, что семья Мандельштам уехала в Киев. И уже оттуда, из прекрасного и теплого далека Осип Эмильевич описывал Москву, вдруг ставшую столь ненавистной:
Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы.
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых – как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Союза крепкого и щучьего суда[3]3
О. Э. Мандельштам «1 Января 1924» (1924, 1937).
[Закрыть].
* * *
В коммунальной комнатушке жил и Николай Асеев. Тот же Катаев писал, скрыв Асеева под псевдонимом «соратник»:
«Мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская белокурая красавица несколько харьковского типа, настоящая Лада, почти сказочный персонаж не то из “Снегурочки”, не то из “Садко”.
Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату.
Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что, как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором, несомненно, ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая – поповские чашки, корзинка с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резеды – аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль – алые розы на черном фоне.
Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.
Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго».
А вот быт самого Катаева, совместно с Велимиром Хлебниковым – «будетлянином»:
«Мы с будетлянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом.
Председатель земного шара не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото».
* * *
Жил в коммуналке, в бывшем доходном доме Стахеева, и Владимир Маяковский. Сообщал свой адрес в поэме «Хорошо!» (1927):
Несется
жизнь,
овеивая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Катаев писал: «Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленым камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой».
Именно здесь Владимир Владимирович сочинил знаменитое стихотворение «Разговор с товарищем Лениным» (1929):
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
В соседней комнате проживала безработная девушка Люся.
Поэт предложил ей:
– Товарищ Люся, а почему бы вам не научиться печатать.
Это было бы очень удобно.
«Товарищ Люся» согласилась. В коммунальной квартире образовался своего рода офис. И вправду, удобно.
Только в 1926 году Маяковскому дали отдельную квартиру в Гендриковом переулке (переименованном позднее в переулок Маяковского). Но туда же переехали и приятели поэта, Брики.
К счастью, мясницкая комнатка осталась за ним. Там он мог уединяться и относительно спокойно работать – коммуналка в его случае оказалась жильем более комфортным.
Там же Владимир Владимирович и покончил с собой. Пистолет у Маяковского имелся – для чего-то ему выдали оружие в ЧК. Скорее всего, просто по знакомству – реальные опасности ему не угрожали.
Вероника Полонская писала в своих мемуарах:
«Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери.
Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору. Не могла заставить себя войти.
Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновенье: в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди его было крошечное кровавое пятнышко.
Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно:
– Что вы сделали? Что вы сделали?
Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился приподнять голову.
Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые…
Набежал народ. Кто-то звонил, кто-то мне сказал:
– Бегите встречать карету скорой помощи!»
Долгое время дом продолжал существовать в режиме коммуналок. Но постепенно они расселялись. Еще в 1937 году здесь был основан Музей В. В. Владимира Маяковского. Но всерьез о нем заговорили только после реконструкции, которая закончилась в 1989 году. Авторы новой концепции – архитектор Андрей Боков, художник Евгений Амаспюр и музейщик Тарас Поляков – разрушили практически все внутреннее пространство бывшего доходного дома. Оставили только фасад, лестницу и ту самую «комнатенку-лодочку», в которой проживал поэт. Весь остальной объем отвели под некое художественное пространство, оформленное в эстетике ЛЕФа – так называемого «левого фронта», лидером которого был Маяковский. Стулья, торчащие из потолка, какие-то гигантские болты, покрашенные зеленой краской, синие шары, афиши того времени и покосившиеся фонарные столбы должны были погружать посетителя в эпоху двадцатых годов.
Погружаться хотели не все – многие возмущались экспозицией, видели в этом новаторстве кощунство, осквернение. Да что там осквернение? Фактически – разрушение подлинного архитектурного и исторического объекта, пусть и ассоциировавшегося у старых москвичей по большей части с коммунальным бытом.
* * *
А в Харькове, опять же в коммуналке, проживал поэт Велимир Хлебников. Мариенгоф вспоминал:
«Решили его проведать. Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфяка, в другом углу табурет. На нем обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.
Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него ботинок.
Он встал нам навстречу и протянул руку с ботинком.
Я, улыбаясь, пожал башмак. Хлебников даже не заметил.
Есенин спросил:
– Это что у вас, Велимир Викторович, сапог вместо перчатки?
Хлебников сконфузился и покраснел ушами – узкими, длинными, похожими на спущенные рога:
– Вот… сам сапоги тачаю… Садитесь…
Сели на кровать.
– Вот…
И обвел большими серыми глазами, чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, пустынный квадрат, оклеенный выцветшими обоями.
– Комната вот… прекрасная… только не люблю вот… мебели много… лишняя она… мешает.
Я подумал, что Хлебников шутит.
А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.
Голова у Хлебникова узкая и длинная, как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.
– И спать бы вот можно на полу… а табурет нужен заместо стола… я на подоконнике… пишу… керосина у меня нет… вот и учусь в темноте… писать… всю ночь сегодня… поэму…
И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися. Невозможно было прочесть ни одного слова.
– Вы что ж, разбираете это?
– Нет… думал вот, строк сто написал… а когда рассвело… вот и…
Глаза стали горькими.
– Поэму жаль… вот… Ну, ничего… я научусь в темноте…
На Хлебникове длинный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.
Подкладка пальто служит простыней».
Хлебников тоже чувствовал себя в этой эпохе словно дома.
* * *
И, как мы уже писали, пусть и изредка, но все же случались счастливые исключения. Коммуналки, из которых не хотелось уезжать. Своего рода коммунальные Эльдорадо. Одно из таких волшебных мест – коммунальную квартиру в центре города Одессы – описывала Мэри Шиф:
«В нашем квартале в центре города размещались в то время два театра, Дом офицеров, ресторан и кинотеатр. Веселый был квартал, но шумный. Там в коммунальной квартире я прожила ровно сорок лет.
В нашей коммуналке разместились три семьи. Две из них, в том числе и мы, жили там постоянно, а в одной из комнат соседи менялись за сорок лет десять раз. Представляете, сколько впечатлений! Жили в этой “нехорошей”, по Булгакову, тридцатиметровой комнате разные жильцы.
Первыми, самыми приятными за все время, соседями были очень интеллигентные люди: заслуженная артистка РСФСР Матильда Василянская с племянником, моим ровесником, который рассказывал, что родители его разведчики, выполняющие секретное задание за рубежом. Через какое-то время в квартире появилась несчастная больная женщина, его мать, отсидевшая длительный срок в ГУЛАГе, там погиб его отец. Оба были слушателями Института красной профессуры в Москве, учениками Бухарина, за что и пострадали. Самым неожиданным было то, что бывшая политзаключенная, с которой я была дружна и тогда, когда они, получив еще одну комнату, переехали этажом выше, оставалась верна идеалам юности.
Одинокая, после скоропостижной смерти сестры и отъезда сына на учебу в Ленинград, бывшая соседка была всегда рада мне, но отчаянно спорила, когда я, в ту пору уже студентка, знающая советскую жизнь лучше ее, указывала на бросающиеся в глаза недостатки, которые она не замечала или не хотела замечать. Рассказывая мне о прошлом, о жизни в лагере она не говорила никогда.
После них в квартиру въехала театральная портниха. Дочь ее, красавица, актриса одного из московских театров, была женой известного диктора радио Николая Александровича. А сын служил в армии адъютантом у генерала. Уже после окончания войны получила мать ужасную весть о его гибели. Боевой офицер застрелился в Вене из-за несчастной любви к молодой генеральше. Вскоре мать уехала к дочери, обменяв свою комнату на комнату в Москве.
Обменялась она с молодой парой москвичей с грудным ребенком. Молодой юрист получил назначение в таможню Одесского порта, приехал сначала один и через короткое время начал погуливать. Иногда, забыв ключи от входной двери, будил нас звонком, приводя среди ночи даму. Вскоре прибыла и его жена с маленькой дочкой. Жена только окончила географический факультет Московского университета и жила в Москве с родителями в маленькой, но отдельной квартирке с удобствами. В чужом городе, в коммунальной квартире она отважно сражалась с дымящей печкой, коптящим керогазом, на котором приходилось вываривать пеленки, с кричащим ребенком и вечно отсутствующим мужем. Соседи очень жалели ее.
Молодой ловелас, кроме работы, вечерами и в выходные дни, по его словам, солировал в хоре портклуба. Голос у него действительно был хороший. Так долго продолжаться не могло. Вскоре, собрав вещи, жена с ребенком сбежала в Москву, а прежняя соседка вернулась в свою комнату, видимо, это было оговорено. Но в Москве ее ждали дочка и внук, которые нуждались в ней, и был найден другой вариант обмена.
На этот раз в комнате поселилась привлекательная средних лет жиличка, не без сожаления оставившая столицу ради осиротевшей племянницы – девятиклассницы, с которой она вскоре съехалась, сменив две комнаты на смежные, но с отдельной кухней.
Следующий сосед, энергичный старик, бывший во время войны партизаном, избавил нас, наконец, от печного отопления, добившись подключения к теплоцентрали».
Даже ловелас скорее придавал пикантности, нежели отравлял соседям жизнь. Всерьез портил картину разве что старик-сапожник: «Въехал он вместе с женщиной, у которой была взрослая дочь, похожая на цыганку. Оказалось, что дочь была ей племянницей. Младший брат привез ребенка к ней прямо из роддома. Мать девочки, армянка, там же отказалась от нее и укатила на родину, у отца девочки была семья, и ребенок был не нужен и ему. Растить девочку пришлось бездетной сестре и ее мужу. Муж умер, девочка выросла и вышла замуж, а женщина сошлась с нашим соседом, но вскоре, оставив старика, уехала с детьми в Америку. Как часто бывает, доброе дело не осталось безнаказанным. Старик получил от женщины письмо, в котором та жаловалась, что приемная дочь с зятем насильно отобрали у нее все драгоценности и деньги, была она небедной, заявив, что в Америке капитализм и царят волчьи законы, ее же препроводили в дом престарелых, где она, по слухам, вскоре и умерла.
А сосед наш стал женихом. Неухоженный, неопрятный, он принимал дам в своей неубранной комнате, не убирал он и на кухне. “Дамы” иногда наводили порядок, иногда так и сидели в этом “бедламе”, иногда громко закатывали сцены ревности, расспрашивали мою дочь, кто к нему ходит. В расположенном неподалеку Городском саду, где на лавочках по вечерам собирались пенсионеры, преимущественно женского пола, старик пользовался успехом, видимо, из-за густых, почти без проседи, волос и белозубой улыбки. У него сохранились все зубы. Он считал, что это потому, что он никогда их не чистил щеткой с пастой.
Старик почти не болел, а умер, упав прямо на улице. К нему долго не подходили, принимая за пьяного бродягу, потом долго не хоронили. Когда разыскали дочь, она его хоронить не захотела, так как он оставил их с матерью, когда та потеряла ногу в результате несчастного случая. Как решился вопрос, не знаю, потому что все это было уже после того, как мы, получив наконец отдельную квартиру в районе Большого Фонтана, поселились на седьмом этаже в доме с видом на море».
А вот еще один одесский коммунальный дом. Его описывал в своих воспоминаниях Леонид Иосифович Слуцкий:
«В Одессе я впервые увидел, что такое настоящая советская коммунальная квартира. Мы в Алма-Ате тоже тогда жили в коммунальной квартире, но она не шла ни в какое сравнение с одесской. Опять же, наша была в относительно новом, советской постройки доме. Это была нормальная большая квартира, в которой по всем понятиям должна была проживать одна большая семья. По советским же нормам из нее сделали квартиру для трех семей.
Одесская же квартира в весьма старом многоэтажном доме еще, видимо, дореволюционной постройки была, возможно, и спроектирована как коммунальная. Возможно, в старые времена это был какой-то доходный дом, где все комнаты сдавались разным людям. Но факт остается фактом: никогда в жизни я не видел более необычной планировки. Это был длиннющий коридор, и в него выходили с обеих сторон двери, двери, двери… Не могу, конечно, сказать точно, но, возможно, таких дверей было порядка 20–25. В каждой комнате, естественно, проживала семья. Одной из таких семей была семья моих родственников. Упирался коридор в большую общую кухню, где находились столы или столики всех этих 20–25 соседей. Неудивительно, что, прожив много лет в такой – с позволения сказать – квартире и не имея никаких шансов изменить ситуацию к лучшему, эти одесские родственники были первыми из всей моей родни, кто подал заявление на выезд из Союза, как только эта дверь, ведущая наружу, приоткрылась. Они уехали в Штаты и, естественно, не прогадали.
Хотя мне как-то до сих пор любопытно: неужели какие-то люди до сих пор живут в таких же ужасных условиях? Скорее всего да.
В чем-то похожие коммунальные квартиры я видел только в Ленинграде. Там семья других моих родственников жила тоже в старинном доме за углом от Невского, наискосок от Московского вокзала. Там было то же построение коммунальной квартиры: длинный коридор с множеством выходящих в него дверей и кухней в конце. Но там было намного меньше соседей – может восемь-десять. Поэтому можно считать, что мои ленинградские родственники жили по-царски».
* * *
Собственно, все так называемое «арбатское братство», воспетое Булатом Окуджавой и множеством других поэтов и писателей, было по большей части жителями коммуналок. Братство раскинулось на территории от нынешнего Нового Арбата и до самой Пречистенки. Один из тамошних жителей, Надир Сафиев, вспоминал: «Здесь, в двух шагах от Арбата и вечно гудящего Садового кольца, каким-то чудом сохранялся прочный, неторопливый, я бы сказал, даже патриархальный уклад жизни. Здесь, в тихих переулках Собачьей Площадки, исстари жил артистический люд, и их куртуазные поклоны, громкие, поставленные голоса никого не смущали. Артист уважал дворника, дворник артиста, и для соседа он был просто соседом. Многие здесь по-прежнему топили печи, вместе получали дрова на Большой Молчановке; знали, кто чем занимается, у кого какие заботы, знали, что здесь, на Собачьей Площадке, в очень давние времена держали собак для царской псовой охоты, а рядом в Кречетниковском переулке жили кречетники; переулки и улицы продолжали называть по старинке, как, например, нашу Композиторскую улицу Дурновским переулком. И дома называли по своим приметам. Старые по старым: “Голландский”, Оперную студию – “Студией Шацкого” или Музфонд – “Домом купца Мазурина”, нашу двадцать пятую поликлинику – Снегиревкой… Новые дома по-новому: “Морфлотовский дом”, “Вавиловский дом”…»
Он же писал, что «арбатская аристократия» покупала еду в гастрономе поблизости, притом предпочитала брать всего по чуть-чуть, граммов по сто – сто пятьдесят, максимум двести – сыру, языковой колбасы, осетрины горячего копчения. И экономно, и вкусно.
Сообщали всем свой адрес так, что местные почтовики все время пребывали в этаком вялотекущем ужасе: «Москва, Собачья площадка», а дальше – улица и дом. Почтовики писали старожилам гневные открытки – дескать, одной улицы достаточно официально, в Москве нет никаких площадок.
Бесполезно. «Братство» было непреклонно, и в первую очередь в своих привычках.
* * *
До конца 1990-х годов в коммунальной квартире в Столешниковом переулке жил поэт Алексей Алексеевич Дидуров, автор слов культовой песни «Когда уйдем со школьного двора…». Коммуналка эта была густонаселенной, страшной. Люди там жили самые разные. Дидуров писал в мемуарах: «Был в квартире жилец вне иерархии. Вообще. Инопланетянин. Ему даже по телефону никто никогда не звонил. Я с ним чаи гонял. Домой он приходил только спать, за час до чего и ставил чайник. Утром уходил. Во MXAT. Там всю жизнь помощником завлита проработал. Пенсионером ходил в театр просто жить. Булгакова когда-то знал! Звался всеми “Юрич” – по отчеству. Вот Юрич говорил часто, похлопывая меня по коленке или вздымая перст с ухоженным ногтем: “Терпите, Алексей! Господь терпел и нам велел. Теперь в России надо либо терпеть, либо чемоданы собирать. Раньше еще выбирали – стрелять, как французы, как вообще европейцы. Из трех вариантов ‘терпеть’ – самый русский, потому что самый трудный. Но другие два – бессмысленны. Так-то, – дружок мой Алеша!” Еще, помню, философствовал тихим, обмелевшим голосом старого курильщика: “Прошлого нет – оно прошло. Будущего нет – не наступило. Есть настоящее. Но оно почти безлюдно – в нем живут, им живут только те, кто способен любить, а таких очень мало. Остальные живут прошлым и будущим. Остальные – это начальники и преступники. Они живут тем, чего нет. То есть – не живут. И потому это самые страшные люди. Алексей, им не жалко ни жизни своей, ни чужой, ни вообще жизни. Они погубили Россию…” Я молча слушал его речь на суде, который он вершил одиноко у края долгой, кончающейся своей жизни. У меня не было права говорить на этом суде. Юрич свое право оплатил. Глеб Юрьевич имел также право. Кстати, до революции в нашей квартире жила семья его жены. Во всей квартире – одна семья…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































