Текст книги "Повседневная жизнь советской коммуналки"
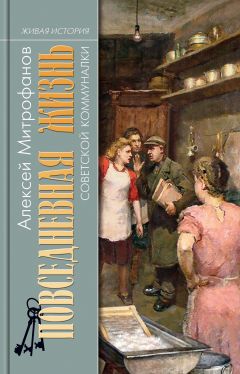
Автор книги: Алексей Митрофанов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В одном из ранних рассказов Булгакова сказано: кто жил в коммуналке, тот видел ад.
Про Булгакова Юрич говорил: “У него Воланд людей наказывает, но и жалеет, и прощает. Это дьявол-то! Этих-то людей! Учитесь жить у Булгакова, Алексей!”».
Главным врагом Алексея Алексеевича был отставной милиционер и пьяница Капусткин:
«Они приехали в Москву по лимиту. Он не пошел на завод, на производство – он пошел туда, где сразу дают ключи от собственной комнаты. Он пошел в милицию. Через полгода его оттуда, из нашего районного отделения выгнали. Начальник отделения мне потом нехотя откроет, за что – за садизм и пьянку. Но жилье князя за Капусткиным, конечно, оставили. Тетя Лида, – жива еще была, – мрачно шутила: “Из грязи в князи…” И понеслось, говорю…
Сначала, женившись (жену в сберкассе, в окошечке нашел), пытался город этот догнать – купил магнитофон, гитару – заходить ко мне стал, просить, в пол, а не в глаза глядя: “Дай записи переписать…” Заметив, что я к телефону общему выбегаю в кимоно (для дзюдо и каратэ) – накидывал для скорости, – Капусткин стал, выходя из комнаты, надевать домашний халат жены, по цвету и фасону похожий на мой. Даже сходил с супругой на пару моих творческих вечеров, где классные актеры московских театров исполняли мои песни и поэмы. Но… скорость сбавил. На столичных достопримечательностях вскоре поставил крест. Засел дома, запил, на магнитофоне крутил только Пугачеву. А потом стал Москве мстить. За что?
Начал с того, что кулаком разбил витрину старинного мехового магазина на Пушкинской. Он с витрины ничего не взял, только обрушил манекен – стройную печальную блондинку в пышной шубе. Получил пятнадцать суток. Вышел – пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку из нашего подъезда. В лифте. Прокусил ей губу, хорошо старухи, соседки по площадке, ее отняли – любимицу детей двора и пенсионеров, которым по магазинам бегала. Еле сослуживцы бывшие из отделения, братья по классу (лимитчики, из деревни), дело замяли, насилу замяли вскоре и поножовщину…
Придумал Капусткин с женой, видать по совету бывших его коллег, способ от тюрьмы спасаться – срочно, как только чего-нибудь, решеткой пахнущее, вытворит, ребенка делать. Два раза тюрьмой пахло – первых двоих родили. За избиения жены (а бил лежачую ногами, да не ее одну, а сестру с племянницей рядом валил, по троим ногами топотал – а я отнимал), за пьянку и прогулы засветило ему ЛТП – третьего штампанули.
Но, видать, с властями бодаться устал. Сначала на подъезд спикировал: как, бывало, станет его от выпитого мутить, сразу на лестничную площадку выбегает, вызывает лифт и в него все из нутра выхлестывает. Чтобы старухи и дети, не в силах на верхние этажи топать, по щиколотку в его содержимом, носы зажав, ездили до дверей. Но поймали его за этими шалостями мужики, отдубасили. Капусткин сконцентрировался на месте жительства. Бабкам в квартире стал убийством угрожать, ветерана, собутыльника, отлупил».
И, наконец, Капусткин обратил внимание на самого Дидурова:
«На меня, “московскую штучку”, переключился. Род занятий моих просек – в общую ванную комнату, что у меня за некапитальной тонкой стенкой, на удлинителе магнитофон дотянет, и – на полную катушку “Белую панаму” или “Айсберг в океане”, или – лично в полный голос – “Мурку”. Прикинул культурный уровень тех, кто звонит мне, – трубку снимет, когда меня нет, и – матом. А то – протянул в комнату к себе самовольно отвод от телефонной нашей линии и давай в разговоры мои телефонные встревать на своем-то язычке, или вообще меня от линии отключать во время моей беседы, когда захочет. И все драться провоцировал. Никак понять не мог, что я ненавижу насилие и, кроме того, что если бы он упал у меня как-нибудь не так, его закадычные собратья по классу и бывшей службе упекли бы меня, как я это смекал, с той же скоростью, с какой возвращали его домой из кутузки, когда он им попадался. А в тот злополучный день, вернее, в ту ночь, он, начав с вечера топором и молотком ладить на кухне, напротив моей комнаты какие-то ящики, в час ночи на мой вынесенный будильник и молча ему показанный, поднял топор… Помню, меня рассмешила нелепая в его устах, трагикомичная, провинциально-балаганная фраза: “Так умри же, собака!” Но не попал он по мне только чудом…»
* * *
В такой же поздней, правда, не настолько экстремальной коммуналке жил лирический герой повести Сергея Довлатова «Заповедник»:
«Мы сели в лифт. На каждом этаже мигала лампочка. Таня разглядывала свои босоножки. Между прочим, дорогие босоножки с фирменным знаком “Роша”…
За ее спиной я видел написанное мелом ругательство. Хула без адреса. Феномен чистого искусства…
Затем мы тихо, чуть ли не украдкой шли по коридору. Я с шуршанием задевал рукавами обои.
– Какой вы огромный, – шепнула Таня.
– А вы, – говорю, – наблюдательная…
Затем мы оказались в неожиданно просторной комнате. Я увидел гипсовую Нефертити, заграничный календарь с девицей в розовом бюстгальтере, плакат трансатлантической аэролинии. На письменном столе алели клубки вязальной шерсти…
Таня достала бутылку кагора, яблоко, халву, покоробившийся влажный сыр».
И дальше: «Прошел год. Я бывал у Тани все чаще. Соседи вежливо меня приветствовали и звали к телефону.
У меня появились здесь личные вещи. Зубная щетка в керамическом стакане, пепельница и домашние туфли».
К коммуналкам 1970-х приспособиться было значительно проще – если там, конечно, не безумствовали Капусткин и его многочисленные подобия.
Для Сергея Донатовича эта коммуналка не была каким-то новым социальным опытом. Как и практически все представители его поколения, он в детстве и юности вкусил коммунального быта сполна. Правда, в несколько улучшенном варианте. Писал в повести «Наши»:
«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками – удручающая хроника коммунального подсознания.
Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.
Жизнелюбивый инженер Гордой Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.
Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.
Техник Харин – бутылки с рюмками.
Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.
Я рисовал пистолеты и сабли…
Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)
Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала…
Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.
По коридору бегали дети. Грохотал военными сапогами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева…
Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину.
Однажды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях:
“Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!”
И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно.
Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:
– Тихо! У Довлатовой ночует политрук!
Полковник радовался, что мама обрела наконец личное счастье. Да еще с идейно выдержанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию…
Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт».
Как-то раз там случилось довольно характерное для коммуналок происшествие: «Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко.
Однажды к полковнику Тихомирову нагрянул дальний родственник – Сучков. Рослый неуклюжий малый из поселка Дулево.
– Дядя, – сказал он уже на пороге, – окажите материальное содействие в качестве трех рублей. Иначе пойду неверной дорогой…
– Один неверный шаг ты уже сделал, – высказался Тихомиров, – ибо просишь денег. А денег у меня нет. Так что не рассчитывай…
Племянник уселся на коммунальный сундук и заплакал. Так он просидел до обеда.
Наконец мать сказала:
– Заходите. Вы, наверное, проголодались?
– Давно, – подтвердил Сучков.
Он поселился у нас. Без конца ел и гулял по Ленинграду. Вечерами пил чай и смотрел телевизор. Он увидел телевизор впервые.
Полковник Тихомиров держался нейтрально. Только перестал здороваться с мамой.
Наконец мать спросила:
– Володя, каковы твои планы?
Сучков вздохнул:
– Мне бы денег раздобыть на учебники… И на дрова… Учиться хочу, – закончил он с интонацией молодого Ломоносова.
И строго добавил:
– А то, боюсь, пойду неверной дорогой.
Мать заняла для него у соседки пятнадцать рублей. Купила Сучкову билет на поезд.
За сорок минут до отъезда Володя попросил чаю.
Он пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное количество сахара. Так, словно хотел целиком исчерпать неожиданную благосклонность окружающего мира.
– Смотри, не опоздай, – тревожно говорила мама.
Сучков вытирал лицо газетой, неизменно отвечая:
– Что-то к воде потянуло…
И мать не выдержала:
– Так пойди и утопись! – закричала она.
Чужой родственник нахмурился. Укоризненно посмотрел на мать.
Воцарилась тягостная пауза.
– Какие вы мелочные, Нонна Степановна, – упрекнул будущий Ломоносов, путая разом – имя, отчество, факты…
Он встал. Окинул трагическим взглядом колбасу и сахар, расправил плечи и зашагал неверной дорогой…
Так мы и жили».
Так целые полстолетия жила вся страна.
* * *
Позднесоветские коммуналки смотрелись кон-трастом. Если первые коммунальные квартиры, приготовленные из конюшен и дворцов, откровенно гармонировали со всем окружающим укладом, то коммунальные квартиры 1970—1980-х, напротив, страшно диссонировали. Впрочем, взгляд со стороны видел и схожести. Фридрих Горенштейн в романе «Чок-чок» описывал впечатления европейской путешественницы о брежневской Москве: «Россия тоже красивая, – сказала Каролина, – но она, как это сказать… Неубранная… Неубранная квартира. Я была в коммунальной квартире, где живет Вадим, там в коридоре дорогой дубовый паркет, но разбитый, грязный, заплеванный, мокрый. Такая и Россия – неубранная. Много несчастных животных, много собак возле помоек, грязных, несчастных и злых, недоверчивых. Я хотела одну покормить, она мне показала клыки, зарычала. Злые и обиженные собаки мне русских людей напоминают с улицы. Тех, которые на улицах толкаются и ругаются. Ты, Серьожа, опять обижаешься. Вы, русские, очень обидчивые. Других вы ругаете, особенно евреев, а сами очень обидчивые, и вам нельзя говорить правду. Вот Сильва, она хорошая женщина, но очень обидчивая».
Собеседник ее, впрочем, сам жил в коммуналке: «Сережа жил на Сивцевом Вражке, где дешево, удачно снимал маленькую комнатку с туалетом в конце коридора, но зато с индивидуальным телефоном. Снять ее удалось по протекции Алеши у одной старушки, дальней родственницы Алешиной мамы. Старушка постоянно жила за городом на даче, у женатого сына. В комнатке едва помещались кровать, стул, столик и книжная полочка, окно заслоняла кирпичная стена соседнего дома, так что в комнате даже днем было темновато. И все-таки здесь было лучше, чем в муравейнике студенческого общежития, где Сережа жил раньше. Разве мог бы Сережа там так же безмолвно лежать во тьме, рассматривая счастливыми глазами кирпичный экран, по которому скользила бесплотная жизнь?»
* * *
Поздние коммуналки вообще – отдельное явление, заслуживающее своего места под солнцем академических исследований. Харьковчанин Евгений Кудряц, музыкант и хормейстер, писал в мемуарах:
«Самым большим завоеванием социализма можно назвать коммуналки, в которых постоянно бурлила жизнь, а кухня являлась эпицентром общеквартирного броуновского движения. Кстати, там шепотом обсуждались все насущные проблемы общества, соседи были идеологически подкованы и разбирались во всех вопросах внутренней и внешней политики, хотя споры возникали совсем по другому поводу – из-за уборки помещения или очередности попадания в ванную комнату. Между прочим, тот, кто был лишен радостей коммунального общения на Родине, почувствовал, что это такое, при переезде в Германию, прожив энное количество времени в общежитии и познав все прелести уборок и разборок по их поводу.
Я тоже – дитя коммуналки, правда, у нас было всего пятеро соседей, так что до классического варианта, объединявшего десять семей под одной крышей, мы недотягивали. Однако нам хватало и одного соседа – большого почитателя тяжелого рока, слушавшего это прогрессивное направление музыки постоянно. Ho так как стены были тонкими, а звуки громкими, то наша радость не знала границ, в то время как коллекция музыкальных опусов постоянно пополнялась и росла как на дрожжах за счет поступлений из-за бугра от родственников из Австралии. Следует отметить, что электроаппаратура также находилась на уровне мировых стандартов, поэтому я до сих пор не являюсь поклонником хэви-металл. Вообще сосед – очень колоритная личность и заслуживает отдельного рассказа, но сегодня у нас речь о другом.
8 утра. После продолжительного, но безрезультатного пробуждения и утреннего туалета я отправляюсь на кухню, где сидит соседский сынок и завтракает. Кухня у нас маленькая, в ней стоят два холодильника “Днепр” и два стола, электроплита поделена на две части: половина принадлежит нам, а остальное – соседям. Соседский отпрыск завтракает не один – у него на коленях сидит игрушечный волк Вова в джинсах, который с тоской в глазах взирает на то, как хозяин поглощает яичницу. Меню и обряд с выносом тела волка не меняются, поэтому мне понятна его постоянная печаль.
Одна из основных проблем коммуналки – попасть в ванную, так как кроме купания и стирки она одновременно является и лабораторией, где печатаются фотографии, а эта процедура при повальном фотопомешательстве требует много времени. Поэтому каждый раз, оказавшись в ванной, я испытываю неописуемое счастье. Я провел в коммуналке 15 лет, но до сих пор вспоминаю ее незлым, тихим словом. Кстати, я уверен, что у многих обитателей коммуналок сохранились более теплые воспоминания о соседях и совместно проведенных днях. Что ж, мне искренне жаль, что я не могу ничем похвастаться в этом плане».
* * *
Да, коммунальные квартиры заката эпохи выглядели совершенно иначе. С «первыми ласточками», о которых мы рассказывали в самом начале этой книги, их было не сравнить. Ясно было: коммунальная эпоха в кризисе, жить ей недолго. Но еще в 1970-е годы коммуналок хватало, особенно в центре.
Владимир Юринский, сотрудник жилищно-эксплуатационной конторы в самом начале Тверской улицы, писал о них:
«Квартиры коммунальные, с коридорами, потолки высокие, до четырех метров, с лепными розетками и крюками для люстр, окна широкие, трехстворчатые, с бронзовыми витиеватыми задвижками, двери громадные, двупольные. Все в толстом слое, вернее, в нескольких слоях краски, накопившейся за годы. В квартирах по пять-семь комнат. Дома днем, в основном, одни старые женщины-пенсионерки. Встречали вежливо, знакомились дружелюбно, иные ворчали, что толку от этих обходов никакого не бывает, больше года здесь ни один техник не задерживается.
– В нашем доме до войны Рихард Зорге жил, – сообщила словоохотливая худенькая старушка-общественница. – Только в какой квартире и комнате – никто не знает…
– А я в молодости с Сергеем Есениным встречалась! – похвасталась другая. – Познакомились с ним здесь в подвале, под магазином “Березка”, в двадцатых годах. Там было кафе поэтов. Он меня привел в свою квартиру в переулке Москвина – здесь недалеко – угощал вином, читал стихи, а потом стал рвать на себе рубашку, и я с испугу убежала».
Эти старушки со своими путаными, совершенно недостоверными воспоминаниями были как бы продолжением своих домов, со столь же запутанным прошлым. Им все обещали, обещали новое жилье. А не делали даже ремонт – смета жэков в центре города постоянно корректировалась в пользу многочисленных знаменитостей. Сделают какому-нибудь народному артисту шикарный ремонт – десять коммуналок вновь остались с совершенно невозможными местами общего пользования.
Дело, однако, пусть медленно, но все же двигалось. Жители перемещались в отдельное жилье.
Юринский писал: «Я видел этот снос старых домов, плачущих московских старушек, выселяемых на окраину, в Бибирево, протих их воли, просивших райисполком и Моссовет дать им квартиры в пределах района. Если не на Бульварном кольце, то хотя бы в пределах Садового… Экскаваторы ломали стены домов чугунными гирями на тросах, солдаты стройбатальона грузили скарб последних сорока семей.
Вокруг сносимых домов, оцепленных веревочными ограждениями до середины проезжей части улицы Горького, толпились люди. Художники делали поспешные зарисовки в блокнотах, щелкали фотоаппаратами наши и зарубежные корреспонденты. Выселяемые жильцы, некоторые известные художники, архитекторы, слали письма генсеку Брежневу. Свободные западные радиоголоса передавали обращения писателей-эммигрантов, возмущенных варварским отношением к историческому прошлому Москвы.
Страсти разгорелись еще больше, когда стало известно, что выселяемым людям предоставили в Бибирево дом с неподключенными коммуникациями: в нем не было ни воды, ни света, ни тепла, ни газа, не работали лифты».
Тем не менее дома снесли. Сейчас на этом месте – сквер перед «Макдоналдсом».
* * *
Коммуналки были редкостью, и отношение к ним было именно как к редкости, то есть к чему-то экзотическому. Помню, как в начале 1990-х приятели любили ездить ко мне в гости именно потому, что я жил в коммуналке. Для них это был аттракцион. Которым, кстати, еще надо было уметь пользоваться. А они, разумеется, не умели.
Никто не воспринимал всерьез очень важную информацию: звонить в дверной звонок нужно два раза. Звонили, разумеется, один – как и привыкли, как делали всю свою жизнь. Соседи, разумеется, бросали все свои дела, бежали открывать. Потом шипели мне сквозь зубы:
– Сколько можно просить: скажи своим гостям, что к тебе два звонка!
Я честно отвечал, что каждый раз им говорю, только они не слушаются. Не обвыкши.
Гости пользовались соседским полотенцем и мылом – и не усматривали в этом никакого криминала. Выходили покурить на кухню. Подолгу занимали общий телефон. Словом, вели себя совсем не так, как было принято в коммунальных квартирах.
Иной раз оставались ночевать. Утром могли уйти, не заперев за собой дверь – автоматически защелкивающегося треугольника у нас не было принципиально, чтобы случайно не уйти из дома без ключей. Соседи просыпались – видели дверь нараспашку. Как-то раз один нетрезвый гость вышел среди ночи в туалет, а путь назад найти не смог. Вошел в комнату к соседке, лег рядом с ней в кровать.
Случалось всякое.
* * *
Особой формой коммуналок были так называемые коммуны. Их по всей стране появлялось бессчетное множество. Чаще всего объединялись по профессиональному принципу – коммуна художников, коммуна поэтов. Впрочем, попадались и коммуны, образованные просто приятелями. От коммуналки они в первую очередь отличались тем, что там соседство было добровольным. Хотя и эта добровольность была относительной. У коммун были руководящие органы, которые принимали решение – принять того или иного члена или не принять. Остальным приходилось мириться с решением высокопоставленных коммунаров.
Самой, пожалуй, знаменитой коммуной был так называемый ДИСК – «Дом искусств», основанный самим Максимом Горьким и расположившийся в начале Невского проспекта, по правой стороне. Один из коммунаров писал: «Трехэтажная квартира Елисеевых, которую предоставили “Дому искусств”, была велика и вместительна. В ней было несколько гостиных, несколько дубовых столовых и несколько комфортабельных спален; была белоснежная зала, вся в зеркалах и лепных украшениях; была баня с роскошным предбанником; была буфетная; была кафельная великолепная кухня, словно специально созданная для многолюдных писательских сборищ. Были комнатушки для прислуги и всякие другие помещения, в которых и расселились писатели».
Здесь проживали многие знаменитости – Александр Грин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко, Ольга Форш, Владислав Ходасевич. Обитателей «Дома искусств» называли – «обдиски».
Ольга Форш посвятила коммуне роман «Сумасшедший корабль»: «Всем, густо вселенным в комнаты, тупики, коридоры, бывшие ванны и уборные, казалось, что дом этот вовсе не дом, а откуда-то возникший и куда-то несущийся корабль… Кроме писателей здесь жили портные, часовых дел мастера».
Атмосфера была колоритная. Михаил Зощенко писал:
«Этот дом на углу Мойки и Невского.
Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера…
Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.
Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов – отец-настоятель “Обезьяньей вольной палаты”.
Вот стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.
Он с кем-то разговаривает по-английски.
Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит – кроме себя и противника.
Я здороваюсь с Замятиным.
Обернувшись ко мне, он говорит:
– Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть…
Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.
У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.
Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского».
Случались, разумеется, конфликты. Горький, например, воспользовавшись своим абсолютным авторитетом, как-то поселил здесь Александра Грина. Ему выделили комнатку на самом непрестижном, первом этаже. Всеволод Рождественский описывал это жилище: «Как сейчас вижу его невзрачную, узкую и темноватую комнатку с единственным окном во двор. Слева от входа стояла обычная железная кровать с подстилкой из какого-то половичка или вытертого до неузнаваемости коврика, покрытая в качестве одеяла сильно изношенной шинелью. У окна ничем не покрытый кухонный стол, довольно обшарпанное кресло, у противоположной стены обычная для тех времен самодельная “буржуйка” – вот, кажется, и вся обстановка этой комнаты с голыми, холодными стенами».
Грина, однако, все это устраивало. И даже графин, которым он пользовался вместо ночного горшка. Когда завхоз сделала Грину замечание, он его обматерил. История дошла до Горького, который строго отчитал своего протеже. Тот, в результате, на всю жизнь обиделся на Горького. Словом, скандал был масштабный.
Надо ли говорить, что в подобных коммунах царила свобода любви. Журнал «Смена» воспроизводил в 1926 году призыв одного из строителей нового мира: «Половой вопрос просто разрешить в коммунах молодежи. Мы живем с нашими девушками гораздо лучше, чем идеальные братья и сестры. О женитьбе мы не думаем, потому что слишком заняты и к тому же совместная жизнь с нашими девушками ослабляет наши половые желания. Мы не чувствуем половых различий. В коммуне девушка, вступающая в половую связь, не отвлекается от общественной жизни. Если вы не хотите жить, как ваши отцы, если хотите найти удовлетворительное решение вопроса о взаимоотношении полов, стройте коммуну рабочей молодежи».
Встречались и совсем микроскопические жилищные объединения. Тем не менее они имели тот же статус и с точки зрения закона, были равны «кораблям». Одна из самых известных образовалась в Москве. Рюрик Ивнев писал:
«В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской (ныне ул. Горького). В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.
Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.
Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин так умел уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника – невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на “компромисс”: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мною “уплотнялся”, что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру “писательской коммуны”. Таким образом, “тыл” у меня был обеспечен…
Жизнь в “коммуне” началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю, – других напитков он не признавал…
Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное “дополнение” к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому, проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого “ледяного дома”. Есенин заметил мое “упадническое” настроение и как мог утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы “засядем за работу”. При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное “свободное место” в пятикомнатной квартире – это моя кровать, на остальных же – застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя…
Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой “ледяной дом”, проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в “коммуну”, оставил за собой мою прежнюю комнату, то разразился одобрительным хохотом».
Есенин, впрочем, долго еще увлекался коммунальным проживанием. Даже не регистрируя свои объединения как коммуны, он склонялся к совместному существованию с кем-нибудь из собратьев по писательскому цеху. Некто И. И. Старцев, приехав в Москву в 1921 году, побывал на квартире Сергея Александровича. И что же он там обнаружил?
«Есенин с Мариенгофом жили в Богословском переулке. При посещении в этот раз мне бросилась в глаза записка на дверях квартиры. Было написано приблизительно следующее: “Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить”. И тут же были указаны дни и часы для приема друзей и знакомых. Не относя себя ни к одной из перечисленных категорий, я долго стоял в недоумении перед дверьми, не рискуя позвонить. Все же вошел. Есенин действительно в эту пору много работал. Он заканчивал “Пугачева”.
Когда я пытался обратить внимание Есенина на установленный регламент в его жизни, он мне сказал:
– Знаешь, шляются все. Пропадают рукописи. Так лучше. А тебя, дурного, это не касается.
Усадил меня обедать и начал рассказывать, как они переименовали в свои имена улицы и раскрасили ночью стены Страстного монастыря».
Сам Мариенгоф писал об этом времени:
«Мы сидим возле буржуйки. От нее пышет уютным жаром. Черные железные щеки зарумянились.
– Ишь, потрескивает. Не дрова, а порох! – говорит Есенин. – Кто покупал? Небось Мартышон?
И подсаживается еще ближе к огню:
– Русская кость тепло любит.
На столе, застеленном свежей накрахмаленной скатертью, стоит глиняный кувшин с ветками молодой сосны.
Есенин мнет в пальцах зеленые иглы.
– Это хорошо, когда в комнате пахнет деревцом.
Подходит к ореховой тумбе. На ней еще совсем недавно стояли наши бритвенные приборы и обломок зеркала, прислоненный к флакону тройного одеколона. Теперь на ней: никритинский трельяжик, духи, круглая пудреница с большой пуховкой и синяя фарфоровая тарелочка с золотыми карандашами губной помады.
– Тумбочка-то наша холостяцкая, – говорит он, – каким туалетом стала!
Рассматривает себя со всех сторон в трельяжик и нюхает духи “Персидская сирень” парфюмерного треста “Жиркость”. Так в те годы именовалось “ТэЖэ”.
– Приятные…
И душится. Почему-то за ушами.
– У нас в Рязани сирени мно-о-ого!
Потом большой лебяжьей пуховкой пудрит все лицо, а не по-дамски – один нос.
– Мы-то с тобой, два дурака, аптекарской ватой после бритья пудрились.
И расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи.
– Красота!.. Только в кармане его носить неудобно.
И кладет гребень на прежнее место».
Сергей Александрович ощущал себя в этих условиях, что называется, как рыба в воде. И только сближение с Айседорой Дункан переместило его из подобных проказливых объединений в особняк на Пречистенке.
Некоторое время проектирование именно домов-коммун было первоочередной задачей для советских архитекторов. Там, как правило, не были предусмотрены кухни – жители будущего должны были, не отвлекаясь от строительства коммунизма, пользоваться столовой. Общая прачечная, иногда детский сад. Минимум жилых квадратных метров и максимум общественных пространств. То, что удалось все же построить, – например, «Дом Наркомфина» в Москве, на Новинском бульваре, – потом долго и по большому счету безуспешно пытались приспособить под обычное жилье. В первую очередь, ясное дело, коммунальное.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































