Текст книги "Частная коллекция"
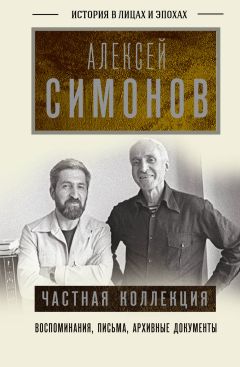
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Прощай, Индонезия!
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Г. Шпаликов
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
«Нельзя одинаково ставить Тургенева и Чехова, Шекспира и Бабаевского, хотя каждый из них по-своему хорош» (?!).
Моя индонезийская эпопея началась именно с этой фразы, произнесенной в аудитории ВГИКа, где шла консультация для покушающихся стать кинорежиссерами.
Мне еще не было девятнадцати, после смерти Сталина про шло пять лет, после XX съезда – неполных два. Фраза стояла ко лом. От меня лично она требовала немедленной реакции. Как сказано у любимого мною Маяковского: «Ни объехать, ни обойти, единственный выход – взорвать». Я встал и… вышел из аудитории, громко – но не вслух – заявив, что этому учиться я и во ВГИКе не стану, а если переступлю еще раз его порог, то только для того…
С дистанции прожитых лет очевидно, что надо объясняться и объяснять, почему именно эта фраза сработала как поворотный рычаг. Ну, забавная, ну, дурацкая, но что в ней такого, чтобы судьбу менять?
И как это: «громко, но про себя»? Это свойство автора или черта времени? Особое искусство или моровое поветрие?
С фразой, как ни странно, проще: кто, даже не из самых молодых читателей, помнит фамилию Бабаевского? Так что во фразе и сейчас слышится какая-то бредовая несоразмерность, все равно что сказать: великие музыканты Бетховен, Моцарт и Петров. А в том 1958 году любимый роман сталинской эпохи «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского был для меня хуже красной тряпки и «Кубанских казаков». Я его еще в школе презирал за бесталанное холуйство. Время подтвердило мою правоту. Разлив ностальгии по совковому прошлому даже «Кубанских казаков» отмыл, эмоционально реабилитировал, но «Кавалер» не всплыл даже при этом наводнении не лучших чувств.
Что же касается формулы «громко, но про себя», то она выражала суть нашего тогдашнего поведения: несогласных было много, протестующих – единицы. Мы так гордились своей смелостью не соглашаться, что порой забывали, что делаем это молча. Кое-кто предпочитает не вспоминать об этом до сих пор. А те, кто вспоминает этот способ самовыражения, ставят его в вину другим и очень редко себе.
Так что я облек свое несогласие в типичную для 1958 года форму – не более того.
Итак: ВГИК накрылся, в армию меня совсем не тянуло, а чему учиться, кроме кинорежиссуры, в принципе было все равно: хотелось бы чего-то нескучного, но и необременительного. Из четырехугольника филфак – журфак – иняз – литинститут возник выход по тем временам достаточно экзотический – то бишь нескучный: Институт восточных языков при МГУ (ИВЯ). А уже среди этой экзотики трезвая лень подсказала выбор: не забивать голову иероглифами, не писать справа налево, не терзать голосовые связки многотональным произношением, а идти на отделение индонезийского языка – единственного, где все как произносится, так и пишется, да еще латинскими буквами.
То, что это был брак не по любви, а по расчету, никого не касалось, и когда в приемной комиссии мне объяснили, что пожелания пожеланиями, но окончательное распределение по странам будет производить специальный совет, и после экзаменов, меня это возмутило.
– А как у вас попадают именно на индонезийский? – спросил я и в ответ услышал сказанное не без язвительности:
– А вы сдайте все пять экзаменов на «пять», тогда и попадете.
Подробности дальнейшей эпопеи я опущу, скажу только, что в отличие от других абитуриентов, приходивших сдавать экзамены, я приходил воевать за «пятерку», и этот подход себя оправдал: в тот август 25 из 25 выбил я один, и меня за меткость чуть сразу не включили в сборную ИВЯ по стрельбе – любимую игрушку военной кафедры. Правда, на совете они попытались запихнуть меня на отделение хинди, но тут уж я устроил бучу вслух: потребовал документы, чтобы в министерстве доказывать свои права. Словом, обретя репутацию способного, но само уверенного скандалиста, я прорвался в мир трех тысяч островов и получил заслуженный отдых на ближайшие пять лет.
Нет, прошу понять меня правильно: я вовсе не собирался отдыхать эти пять лет, они были самыми насыщенными, самыми веселыми годами самопознания, испытания себя в самых различных профессиях и жанрах, увлечения общественной деятельностью и разочарования в ней, романами и женитьбами, – словом, чем я только не занимался. И ни разу не пожалел о своем выборе: индонезийский язык не мешал мне делать то, что я в этот момент хотел делать. Но по справедливости – среди всех и всяческих увлечений было увлечение и самим индонезийским: на втором курсе я сделал первый поэтический перевод, съездил с первой своей делегацией и заложил тогда основу своей будущей твердой «четверки» по специальности. Поэтому будет уместно произнести здесь панегирик этому замечательному языку.
О ЯЗЫКЕ
Большинство языков, которые мне довелось изучать (я надеюсь, все ощущают разницу между изучать и знать?!), были языки старые, устоявшиеся, с кристаллизованной грамматикой, железными правилами и не менее железными из них исключениями. Индонезийский – язык молодой, меняющийся, текучий, обретающий себя, сохраняющий какую-то первобытную образность.
Ну вот все помнят знаменитую индонезийку – шпионку первой мировой войны, но мало кто знает, что mata по-индонезийски – глаз, hari – день, а имя Матахари означает «глаз дня», т. е. солнце. Или айр – вода, а в сочетании с тем же mata дает два дивных образа: mata air – глаз воды, родник, air mata – вода глаз – слезы. Или известный всем орангутан – это ведь по-индонезийски лесной человек: hutan – лес, orang – соответственно, человек. А как вам понравится, что множественное число образуется в индонезийском языке повторением единственного?! Мне нравилось чрезвычайно. И когда популярный у нас в те годы президент Индонезии доктор Сукарно начинал свои речи: Saudara-saudara sekalian, т. е. дорогие соотечественники, это умиляло всех, не индонезистов в том числе, неожиданным созвучием «sudara» с полузабытым русским «сударь». Грамматическое русло еще не закостенело, и язык свободно, в соответствии с не устоявшимися пока правилами, то тек в эту сторону, а то не тек – что-то ему запрещало в ту сторону течь, и объяснения этому не было никакого, кроме: «так говорят, а так – не говорят».
А еще мне очень нравилась версия, что индонезийский, как и его отчая основа – малайский, – это язык пиратов Больших и Малых Зондских островов, и что в Сингапуре и на Филиппинах на этом языке можно объясниться. Зато в самой Индонезии язык еще не был един. Он был государственным, то есть вторым. А первыми для абсолютного большинства оставались языки местные, региональные – яванский, сунданский, батакский и т. д.
И это определяло свойства уже не столько индонезийского языка, сколько самих индонезийцев, похожих на азиатских итальянцев: склонные к юмору и к некоторой аффектации да к тому же не всегда твердые в своем собственном языке, они охотно дополняли, а то и заменяли часть слов жестами, что для меня – ученика Ильи Рутберга в занятиях пантомимой и артиста Эстрадной студии МГУ, знамени того «Нашего дома», – было большим и радостным подспорьем.
Так и прошли эти замечательные пять лет с 1958-го по 1963-й, за которые я во многом преуспел: писал в газеты и журналы, играл в спектаклях и концертах, переводил стихи и прозу, руководил народной дружиной и художественной самодеятельностью. Не преуспел только в одном: не завоевал доверия партии. Когда понадобилась характеристика для поездки в Индонезию на языковую практику, мне решительно отказали, причем не раз и не два. А учить язык и не съездить в страну – это, извините, как всю жизнь ласкать любимую женщину, проводя по фотографии пальцем.
МОРЯМИ ТЕПЛЫМИ ОМЫТАЯ[15]15
Так начиналась одна из самых популярных песен интернационального репертуара советских ресторанов 1956–1960 гг. – «Страна родная Индонезия».
[Закрыть]
Поехал я туда дуриком. У одного нашего студента был отчим, и был он не то генерал, не то профессор, но по какому-то хитрому ведомству. Собирал он группу в Индонезию и искал переводчика. Приятель мой порекомендовал ему меня. Я ли ему так понравился (что менее вероятно), или ему лестно было облагодетельствовать и получить в переводчики сына Константина Симонова (что более похоже на правду), только после беседы со мной и рассказа о моем фиаско перед лицом парткома МГУ он сказал:
– Никому ничего не говори, ни у кого ничего не спрашивай, мы этих дураков обойдем.
Через две недели я был принят на работу в какой-то сверхзакрытый НИИ. Вводили меня туда два раза в месяц тетки-охранницы с пистолетом на боку, доводили до кассы, там я получал аванс или получку, и меня выводили на свежий воздух. Ни одной живой души, кроме этих теток и головы кассирши, я за два месяца службы не видел, а в самом конце мая генерал-профессор позвонил мне по телефону и сказал: вылетаем (не помню какого) июня. На мой вопрос, как быть с институтским начальством, он отрезал: «Скажешь им, что едешь на год, а с кем и как – ты не вправе разглашать!»
Боже, какое лицо было у нашего декана! За все парткомовские унижения я на нем отыгрался: дескать, прошу оформить годичную практику, а от кого и куда я еду, извините, не велено… Причем сам я был настолько наивен, что только сейчас, излагая эту историю, я осознал, что же именно он должен был подумать…
Группа была большая, человек сорок. Все это были штатские люди из организаций, создававших военную технику. И задача у всех была простая: посмотреть и описать, как ведет себя наша техника в условиях тропиков: самолетчики, ракетчики, электронщики, катерщики, химики, связисты – самый, можно сказать, цвет технической интеллигенции, народ ушлый, рукастый, но – чуть ли не все подряд, как и я, первый раз за рубежом.
А советский человек первый раз за рубежом – это отдельная песня. К счастью, три тетрадочки моих индонезийских дневников сохранились, и кое-что из незамысловатых ее куплетов о нашей тогдашней жизни можно прочитать. Во избежание недоразумений даю к записям 1963–1964 годов краткие пояснения 1999 года.
Это впечатления о Сурабайе, втором по величине городе Индонезии. Маршрут от военно-морской базы, где находилось наше kapalu – общежитие, до советского консульства. Я даже удивился, перечитывая, надо же – предугадал: целый год за границей, по сути – мимо, мимо жизни, мимо страны, так и оставшейся чужой, заоконной экзотикой.
Шлагбаум отсекает нас от территории базы. Но автобус еще долго тащит за собой обрывки колючей проволоки. Они оседают на оградах домов и превращают их в казармы. Но вот они «отстают и остаются позади».
Гниловато-пряный запах моря уступает место запаху пыли, сладкому, как будто жарят клубнику. Блекло-желтые окна словно освещены не изнутри, а снаружи: луч уперся в стекло и растворился, оставив бледное пятно. Неживой свет.
Огонек. Еще один, еще, и вдруг вокруг начинают колесить, крутиться, исчезать и рождаться, двоиться и разлетаться искрами живые, глазастые, как мартовские коты, огоньки бечаков[16]16
Бечак – велорикша.
[Закрыть]. Их не просто много, их тьма. Тьма на тьму и, как колесо обозрения, свергнутое, опрокинутое, но все еще пляшущее кругами, все убыстряя и убыстряя бег, меняя цвета. Персональные кабинки отрываются от него и летят в сторону, исчезая из глаз, и снова цепляются, вынырнув из-за поворота.
– Хотите в кофейню, мистер?
– Хочу!
– Хотите девочку, мистер?
– Хочу!
– Хотите…?
Хочу, хочу, хочу, я готов захлебнуться от хотения. А автобус неумолимой болванкой прет нас сквозь тело города, раздирая его узкие бока.
Жизнь на колесах – это не шофер, это город Сурабайя. Велосипед – это не спорт, а транспорт. И священнодействующий папаша с двумя огольцами на багажнике дамского велосипеда понимает это лучше меня.
– Здравствуйте, дядя, пойдемте в кофейню. Я только не знаю, где она. Не беда? Но я этого и не узнаю. Я буду переезжать, перелетать, пере… пере… А я хочу в… Не через, не сквозь, не мимо. Я хочу в…
Пролетели. А где же были звуки? Человек создан для того, чтобы ходить пешком.
Ворота консульства. Стоп. Здесь сегодня показывают кинокартину.
– Товарищи, берите стулья сами, никто за вас ставить их не будет. И не забудьте их потом убрать. Ну, начали…
Когда 35 лет спустя я снова оказался в Индонезии, новые мои знакомые (а за 10 дней я узнал больше индонезийцев, чем за 12 месяцев тридцатью пятью годами раньше) спрашивали меня, что я помню или узнаю в Джакарте, а потом и в Сурабайе, я отшучивался, говоря, что то ли у меня плохая память, то ли они тут построили новые города. Но на самом деле все, что я сумел вспомнить, это дворец президента и советский посольский городок – всё!
В той давней жизни мы были не просто «ленивы и нелюбопытны». Мы были советским народом. А эта общность – как ост ров, который, куда ни помести, живет по своим законам, тупо и наглухо задраивая окна в окружающую действительность. Вот уж воистину прав Ежи Лец: «Вчера мне приснилась действительность. Боже, с каким облегчением я проснулся». У нас не было друзей среди иностранцев, только контрпары. Да, да, они и у себя на ро дине оставались для нас иностранцами!
Два колеса и коляска с тентом впереди, ведущее – третье – сзади. Нам, советским, было запрещено на них ездить, чтобы не угнетать трудящихся. Ночью в притороченных к раме фонарях зажигался огонь. Я проехал на бечаке один раз: отошел три квартала от нашей общаги, сел в коляску. Потный от страха, что меня кто-нибудь засечет, проехал четы ре или пять кварталов, заплатил какую-то несусветную цену – тоже от страха. Слез, оглядываясь, и снова пешком три квартала прошел до советского посольского городка, сопровождаемый все тем же недоумевающим бечаком, который никак не мог взять в толк, что за идиот пассажир ему попался.
Когда в 1965-м я попытался написать очерк о своей работе в Индонезии, я не смог продвинуться дальше первой страницы: все мои примеры были непроходимы, подрывали основы, казались даже мне самому жуткой пародией на советского человека, издевательством и очернительством.
В ЗАГОРОДНОМ БАССЕЙНЕ
Мы с девочками-переводчицами сталкиваем друг друга с бортика в воду. Подходит парень, улыбается, фотографирует.
Потемкин:
– А потом они наши фотографии в своих газетах напечатают?!
Пасюта:
– Сейчас я им сделаю… Правда, у меня пленка не заряжена, но нахальство же…
Берет аппарат. Идет. Возвращается:
– 0:0 в нашу пользу. Он, оказывается, нас тоже без пленки щелкал.
Потемкин:
– Правильно, расквитались. А то они бы о всей нашей группе плохо подумали. И потом, тут всякие русские… и невозвращенцы с женами, русскими и индонезийками… Правильно!
Мужики всего стесняются. Спрашивают шепотом: а кокос-то мы попробуем? Что ж, что мы в черных трусах! А разве нельзя пешком в посольство пройтись? А в ботанический сад нас не свозят?
На вечере дружбы какой-то мальчик робко: где бы встретиться? Но я же не могу дать даже номер телефона – это категорически запрещено шефом, чтоб вам всем…
Если советский человек за рубежом был отдельной песней, то бдительность была постоянным припевом этой песни.
Мы просыпаемся. Собственно, просыпаюсь я, а начальство уже бдит. Пухлое, рыхлое его лицо, с прилипшими от пота соломенными волосами еще хранит след ночной сласти. Значит, воды опять нет. Солнце еще не добралось до нашего засетченного окна, так что пока сравнительно прохладно: каких-нибудь 26–27. (…)
Я встаю. Спать приходится вразборку, чтобы один член другого не касался, иначе в месте соприкосновения становится мокро. По этому кровать еще хранит мой мокрый силуэт в позе статуи бегуна.
– Сегодня поедешь со мной в контору, – говорит начальство.
– На Германе?
– Да. Знаешь, мне за него вчера была буча.
– За него?
– Зачем взяли на работу? Ну, я им ответил! Я говорю: у вас Лапин есть – отдел кадров, а они мне… так я им… В общем, как уедем, его уволят.
– За что?
– А он до нас, оказывается, работал, знаешь, у кого?
– Знаю. У американского атташе.
– Откуда ты знаешь?
– Из его анкеты, так же, как и ты.
– Какой еще анкеты?
– Я ж тебе переводил.
– Ты мне ничего не переводил, – он трезвеет от сна.
– Ну хорошо, переводил, не переводил, а в чем дело-то?
– Нет, не переводил. И еще – они говорят, он понимает.
– По-русски?
– Ну… я вчера проверял – врут.
– Как же ты проверял?
– Он едет прямо, я ему: налево! А он все равно прямо едет – улыбается.
– Но он же лучший наш шофер.
– Вот я и сказал, чтоб хоть пока оставили. Они тоже говорят: пусть. А то еще эти подумают, что мы боимся.
– Кто говорит-то?
– Кадры. В общем, Герману ничего. И смотри!..
– Ты что, в самом деле думаешь, что он шпион?
– Я ничего не думаю. (…)
– А зачем я в конторе?
– Перевести анкету.
– Какую анкету?
– Германа.
– Так ее же перевели, если кадры…
– Ничего ее не перевели. Там штамп стоит – атташе. А перевести надо. Пошли на первый – может, там вода есть. Только трусики свои белые переодень, сколько раз говорил – черт-те что. Наших, штоль, нормальных нет?..
С носа как две толстые ветки – брови. Лицо треугольное книзу, интересное. Низкий, чуть всхлюпывающий баритон. Он входит и останавливается против лощено-черного владельца индийской лавки.
– Хау ду ю ду, – а?!
Это «а» – Райкин, с прихохатыванием, с выражением опереточной простаковщины на лице.
– Ай эм вери глед ту си ю, – а?!
Еще опереточнее, еще более по-идиотски.
– И еще – ай лав ю!!! а? а? а – ха-ха – как вам нравятся мои успехи в английском? Чего это у вас не угощают сигаретами? Обеднели, Адвани? А? Давай – давай сигарет…
Он – военный атташе.
О, ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Здесь, пожалуй, нужно кое-что прокомментировать. Две или три индийские лавки в Джакарте были меккой советской колонии. Советским людям деньги (даже как бы их собственные) доверять было не положено. Поэтому получаемая в валюте часть зарплаты автоматически переводилась на ваш текущий счет в бухгалтерии посольства, где ее можно было накапливать или переводом оплачивать выписку товаров из третьих стран по каталогам. Поэтому, скажем, маленькая японская кинокамера проделывала такой путь: Япония – Quelle или Neckermann (до сих пор помню названия этих компаний в ФРГ), оттуда – посылкой в Индонезию, оттуда со счастливым владельцем – в СССР. Накладно? Зато удобно… для контроля расходов. А вот те самые индийские лавки позволяли делать заказы в Сингапуре или Малайе по образцам, т. е. хотя бы пощупать и рассмотреть товар, как теперь принято выражаться, «в натуре», а не на глянцевом листе каталога.
С точки зрения надзора это давало еще одно преимущество: наличных индонезийских денег у совработников практически не было. Точнее, не должно было быть. Потому что 10 процентов нашей валютной зарплаты нам все-таки выдавали в индонезийских рупиях, но – по официальному курсу рубля, что в условиях чудовищной индонезийской инфляции давало тебе возможность за 1/10 своей зарплаты купить до трех бутылок местного пива. Всё!
Впрочем, как вы понимаете, голь на выдумки хитра. И, выписав через того же Адвани пару блоков дешевых американских сигарет, можно было загнать их (конечно же по дешевке, но по курсу черного рынка) и обеспечить себе хоть какие-то карманные деньги на месяц.
Впрочем, эти индийские «отдушины» были тоже строго регламентированы, – подозреваю, что с дозволением иметь клиентами советских специалистов была связана обязанность постукивать на них в соответствующую службу.
И тем не менее это были вожделенные заповедники капитализма, где тебе подносили пива или минералки, заглядывали в глаза, советовали и обольщали.
Там же я был свидетелем еще одной милой беседы, следов которой не нашел в дневнике, так что излагаю по памяти – очень уж врезалось.
У Адвани, как обычно, в рабочее время сидят человек десять совклиентов. Вдруг, бросив недопитое пиво и недокуренные сигареты, восемь из них сигают через черный ход, прервав торговые негоциации. Входит Раиса. Этой кликухой все звали жену посла Михайлова – истинную хозяйку советской колонии. С Раисой – начальник протокольного отдела посольства в качестве личного переводчика.
Лощеные Адвани (а их три брата) расплываются улыбками, как масло по горячей сковороде.
С торгашами первая леди строга, поэтому, не здороваясь, сразу:
– Скажите, Адвани, вот вы патриот своей родины, Индии? Протокольный переводчик пулеметно переводит слово в слово. Адвани кланяется, молитвенно сложив розовые ладошки домиком, подтверждает.
– Спроси, известно ли ему, что скончался вождь индийского народа, большой друг Советского Союза Джавахарлал Неру?
У растерявшихся Адвани никак не стирается привычная улыбка, мало подходящая к случаю. Адвани тоскуют. Адвани знают.
– Он чувствует, какое это горе для индийского народа?
Адвани пытается выдавить что-то приличествующее случаю, толком не понимая, чего от него хочет мадам посольша, а она без перехода выстреливает:
– И скажи ему, что если скидка на десять грюндиков[17]17
«Грюндик» (Grundig) – популярная в те годы фирма первых, еще катушечных, но уже стереофонических магнитофонов.
[Закрыть] будет толь ко десять процентов, то мы примем меры, чтобы к нему больше советские не обращались.
И пулеметная очередь перевода.
ЕЩЕ ИЗ ДНЕВНИКА
В конечном счете неприлично, потому что так считает посол.
– Почему это ты в коротких штанах пошел в магазин? Посол запретил.
– Значит, он дурак, если это запретил.
– Ты много о себе воображаешь… – Он всерьез не понимает, как это можно не бояться. (…) – А если я вправду не боюсь испорченной характеристики, если мне эту характеристику испортит дурак, а не я сам? Если напишут, что плохо работал, – ложь, а об остальном мне судить первому.
Нормы поведения? Что значат ваши нормы по сравнению со следующими китами:
Не предавать.
Не угодничать.
Не делать подлостей.
Я себя сужу так и потому не боюсь. А ты боишься, потому что ты хоть и при деле, и при хорошем, но ты рассуждаешь: кому дело до дела, когда характеристика – швах? И тогда все швах, даже дело. Оно становится меньше, чем характеристика. Чего боится Л. – он ведь – и это самое удивительное – чувствует себя на месте. И все равно боится. Посла, Богданова, Аванесова, даже меня.
С одной стороны, понятно, почему меня с такими «закидонами» потом 18 лет не выпускали в загранку. Но какой пафос! Точно по Евтушенко:
Я был жесток. Я резво обличал,
О человечьих слабостях печалясь,
Казалось мне – людей я обучал,
Как нужно жить. И люди обучались.
А с другой стороны, приятно было это прочитать и убедиться, что хоть что-то в себе сохранил из заблуждений молодости. Я ведь и теперь так думаю.
Пасюта сказал мне:
– Тебе надо чаще ругать капиталистов вслух.
– Чего-чего?
– Ну я ведь не зря говорю, у меня есть основания…
Надо непременно хотя бы раз в неделю гасить во всем СССР электричество. Когда темно – люди начинают собираться в кучки и говорить откровенно и вслух. Как сегодня.
Спор о дубинке. Что такое дубинка – символ власти или пережиток капитализма? И метод ли это социалистического воспитания. Большинство все же за дубинку (…). А потом свет загорелся, и все заговорили о футболе.
ПОРТРЕТ
В Джакарте наши строили в подарок индонезийцам госпиталь. Надзирать за строительством приехал автор проекта, архитектор Г. Пока надзирал, рисовал картинки: пейзажи, уличные сценки, портреты. Из этого сделали выставку, открыли с помпой, приехал сам Сукарно – он был большой любитель собирать живопись. У деспотов, а Сукарно, несомненно, был деспот, всегда много подражателей. И вот на выставке командующий ВВС генерал Омар Дани заказал в свою живописную коллекцию собственный портрет работы архитектора Г. Поскольку Г. никакими языками не владел, меня попросили пару-тройку раз съездить с ним на сеансы в дом генерала, чтобы этот акт дружбы народов не проходил совсем уж молча.
Какой архитектор был Г. – не знаю, подарочному госпиталю, как известно, в зубы не смотрят. Рисовальщик он, на мой взгляд, был так себе. Но все это было не важно, а важно, что он этой своей миссией, обстановкой генеральского дома, а главное, сановной болтливостью генерала был перепуган до такой степени, что руки у него дрожали, а из слов как-то сами собой лепились лозунги, которыми он пресекал любую попытку генерала создать непринужденную обстановку.
Ну, скажем, генерал пускается в рассуждение о международном положении, которое вчера разбирали на совете министров. Я перевожу, ушки у меня на макушке, того и гляди, генерал и вправду расскажет что-то интересное, недоступное мне ни по связям, ни по положению.
На это наш Г., вобрав голову в плечи, отвечает что-то вроде:
– Советско-индонезийская дружба является важным фактором международной политики!
Генерал – про то, как он учился в академии в России, какие там еще были слушатели и преподаватели.
А архитектор-портретист:
– Военная помощь странам, пострадавшим от колониализма, – священный долг Советского Союза. – Он не только говорить, он эти генеральские откровения и слушать-то робеет.
Тут я стал вынянчивать дерзкую мысль устроить двойную игру: говорить с генералом про то, что мне интересно, а архитектору сочинять что-нибудь типа политически-корректной манной кашки. И остановило меня только упоминание Омара Дани про московскую академию – вдруг он там более или менее по-русски стал понимать?! Рискованно. И хотя срок мой в Индонезии уже заканчивался и особенно бояться было нечего, духу на такую аферу у меня не хватило, отчего архитектора своего я запрезирал еще больше. Спасибо хоть за то, что он в три сеанса уложился. Денег ему генерал не предлагал, слава богу, а то бы его кондратий хватил, но предложение слетать на Сулавеси на личном самолете Омара Дани мы оба получили. Воспользоваться этим гонораром нам запретил посол.
А московская академия вышла генералу боком. Омар Дани после переворота 1965 года провел почти тридцать лет в тюрьме, и я чуть-чуть не прорвался к нему в свой второй приезд в 1998-м, но кто-то с кем-то неточно сговорился – у индонезийцев это тоже часто бывает. Так мне и во второй раз не довелось узнать, что говорил Сукарно на совете министров. А ведь мог спросить и у самого…
ПЕРЕВОДИМ ПРЕЗИДЕНТАМ
В Индонезии довелось мне пообщаться и с тогдашним президентом г-ном Сукарно, и с малоизвестным еще в тот год генералом Сухарто – будущим правителем республики.
Чтобы кое-какие нюансы этих встреч было легче разъяснить, сделаю одно, даже не лирическое, а скорее технологическое отступление: о профессии толмача.
У каждого человека, перетолковывающего смысл сочетания слов с одного языка на другой, могут быть три профессии: толмач, переводчик, синхронист. Переводчик по моей версии – человек, занимающийся переводом речей, статей, стихов, драмы, прозы, преимущественно письменным. Синхронист – перетолковывает устную речь говорящего на иной язык одновременно с ее произнесением. Толмач – человек, который устанавливает связь между людьми, не имеющими общего языка. Или, еще точнее, помогающий людям находить общий язык вопреки различиям в культуре, традициях, навыках речи.
Мне лично приходилось заниматься всеми тремя профессиями, причем в двух из них я достиг некоего профессионализма, и прошу поверить мне на слово, что профессии эти разные. В этом смысле знание языка или языков подобно общефизической подготовке для спортсменов – необходимое, но недостаточное условие: футболист и баскетболист могут одинаково бегать кроссы, но один, как известно, потом играет ногами, а другой – руками.
О профессии переводчика я когда-нибудь еще напишу. А толмач, особенно в те далекие годы, когда я эту профессию осваивал, была профессия редкая не столько по причине ее сложности, сколь ко потому, что она требует внутренней свободы, равного чувства достоинства у говорящего и переводящего, а главное, отсутствия страха у толмача и наличия доверия к нему у работодателя, нанимателя, специалиста – назовите как хотите.
Для этой профессии советский человек был плохо приспособлен именно по этим причинам. Могу и с примерами.
Президента Индонезии любящий народ, а за ним и мы, иностранцы, часто именовали Бапак – что-то вроде Батьки или Папаши.
Раз в год Бапак приезжал в советский посольский городок с неофициальным визитом, так сказать, продемонстрировать неформальную дружбу двух стран. Повод был славный: он приезжал по лить дерево дружбы, посаженное им в городке несколькими годами раньше.
Ажиотаж, дамам выдают газетные кулечки с лепестками роз – восторженно посыпать высокопоставленного друга советского народа, сотрудники индонезийских спецслужб повсюду: в канавах возле городка, вдоль прилегающих улиц, на крышах и в других наблюдательных точках. В толпе совспециалистов снуют те же сотрудники, но в штатском. Тронувшая меня деталь: чтобы никто не усомнился, что они здесь не прохлаждаются, а пришли по делу, они время от времени выныривают из толпы на открытое пространство и, напружинив лицо, медленно обводят демонстративно тяжелым взглядом окружающую праздничную суету, а потом, стянув маску подозрительности, быстренько сливаются с толпой.
Сукарно просят сказать несколько слов собравшейся элите советской колонии. Он поднимается на сцену открытого летнего клуба и…
Надо сказать, что оратор он был гениальный. По три-четыре часа мог держать речь, не теряя контакта с аудиторией, владел высшим искусством популизма, заставляя аудиторию восторжен но ахать от неожиданности преподносимых откровений, меняя темы и ритмы, как перчатки, – словом, мастер. Длина его речей измерялась количеством солнечных ударов, получаемых слушателями, особенно когда Бапак выступал перед военными. Так и говорили: «Вчера Бапак наговорил на шесть жмуриков!»
Но тут ситуация особая: дружеский визит, сравнительно малая аудитория, и Сукарно, сопровождаемый главным переводчиком посольства, вместо классической симфонии решает преподнести аудитории сочинение малой формы.
Я не случайно перекинулся на музыкальную терминологию: представьте себе симфоническое сочинение, прелесть которого вам пытаются изложить с помощью одного барабана. Так выглядела речь Сукарно в переводе официального толмача. Вальяжный, милостиво-доброжелательный, я бы даже сказал шаловливый, Бапак и потный, напряженный от гипертрофированного ощущения ответственности, зажатый и торопливый толмач.
Я хорошо знал этого довольно молодого карьерного дипломата, он превосходно владел индонезийским, никаких лингвистических сложностей в сукарновской речи для него не было. Он просто боялся сделать что-то не так, не ощущал особенностей ситуации, а точнее, не смел перейти на неофициальный тон, позволительный, как ему казалось, только президенту.
Первым этот диссонанс ощутил сам Сукарно: аудитория уходила из-под гипноза его речи. И тогда он сделал ход, после которого я и понял, что в этом деле он гений. Он обнял толмача за каменно-напряженные плечи, вывел на середину сцены и стал давать оному паузы для его барабанного перевода, столь точно выверенные по времени, что это стало напоминать джазовую импровизацию, где основная тема, повторенная на ударных, становилась лихим соло, предусмотренным в общей композиции. И все мгновенно изменилось: аудитория была завоевана – у людей, не понимающих двух слов по-индонезийски, возникло ощущение, что никакого перевода и нет, они напрямую понимают речь президента, не замечая, что смысла-то особого в этой речи нет, и проглатывая банальности с восторженностью неофитов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































