Текст книги "Неизвестность"
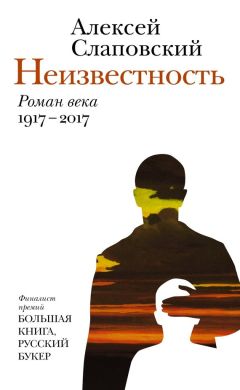
Автор книги: Алексей Слаповский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Когда я первый раз обнял Фрицу, я не боялся. Я тогда ничего не помнил. А тут я испугался. Мы разделись, она сильно меня обхватила, вся дрожала и была холодная. В комнате было холодно, они топят дровами, а мы, когда пришли, не топили. Но мы были под одеялом.
Я испугался за наше будущее, что мы его испортим. Поэтому на этот раз я сумел сдержаться. Я просто лежал и ничего не делал.
Она вдруг сказала: «Ты меня не любишь».
Я догадался, что это провокация. Она уже не управляет собой, поэтому делает все, чтобы совершилось непоправимое, она потеряла контроль. Надо было нести ответственность за двоих. И я это сумел. Я сказал, что она потом пожалеет и будет меня ненавидеть, а я этого не хочу. Поэтому оделся и пошел пешком в интернат.
А сегодня она с утра очень нервничала. Не говорила со мной, только посматривала с какой-то тревогой. Я на перемене подошел и тихо сказал:
«Тася, я очень тебя люблю, но давай больше не подходить к этой опасной черте». Она вдруг рассмеялась и сказала, что проверяла меня. И что я молодец, выдержал проверку.
После этого мне стало легче. И ей, кажется, тоже.
Все это очень отвлекает.
22 февраля
Впереди экзамены. Еще рано, но я уже настроился на отличный аттестат. С осени я организовал в классе соревнование под лозунгом «Нет “неудам”!» Я распределил, кто кого возьмет на буксир. Удивила Соня Ильчина, которая занималась с неуспевающим Степой Кравченко, и тот вдруг стал хорошистом. У них, кажется, начались дружеские отношения. Это многим понравилось, наши ребята тоже начали стараться. И так получилось, что мы все учились лучше и лучше. Начался какой-то азарт, все сидят и зубрят, и дома и в школе.
И вот на прошлой неделе нам сказали, что у нас будет комиссия из-за того, что по результатам мы получаемся лучшим классом в масштабе всего Поволжья, и это хотят проверить. То есть понять, как это у нас случилось.
Приехало много людей, на каждом уроке сидело столько же взрослых, сколько учеников, если не больше. По всем стенам на стульях, а некоторые за партами, рядом с нами, где было свободно. Было сочинение, потом контрольные по всем предметам. Были каждый день устные опросы, в том числе со стороны членов комиссии. С учениками также беседовали отдельно. Меня спросили, какую личную цель я преследую такой упорной учебой и зачем организовал в классе движение за учебу. Я сказал, что хочу поступить в военное училище, а движение организовал не только я, нас инициативная группа. Меня спросил про состав группы, я назвал. Потом еще спросили, в какое училище я хочу поступить, я ответил, что еще выбираю, написал во многие, но нет ответа или отвечают, что нужно ждать до окончания школы и приехать лично, чтобы подать документы. Вообще-то мне хотелось бы стать пограничником. Для того, чтобы первым встретить врага, если он осмелится напасть на нас. Их было трое, две женщины и мужчина. Они все время кивали, улыбались, но все время переглядывались, будто я говорил что-то не то. Какая-то неприятная была обстановка.
Потом комиссия уехала. Дмитрий Степанович пришел к нам в класс, хвалил нас, но потом сказал, что учиться надо не для того, чтобы похвастаться своими знаниями и стать лучше всех, а чтобы приготовить себя к труду на благо Родины. А в этом труде участвует весь народ. И не очень красиво быть выскочками. Он сказал, что мы учимся так, будто соревнуемся, как спортсмены, будто бьем какие-то рекорды. А в нашей стране хоть и ориентируются на лучших, на передовиков, но главная идея – идея равенства, выставлять себя напоказ некрасиво, особенно не поодиночке, а всем классом.
«Вы устроили какую-то игру наперегонки, а мне это отзывается вот тут», – сказал он и похлопал себя по шее, и мы поняли, что почему-то наши старания не всем понравились.
Я мог бы промолчать, но ты, товарищ Павел, как всегда, незримо возник передо мной и поставил вопрос, имею ли я право молчать, когда чувствую, что происходит несправедливость? Поэтому я поднял руку и спросил:
«Дмитрий Степанович, я верно понимаю, что нам предлагают учиться хуже?»
Он очень рассердился, покраснел и сердито сказал, что я понял неверно.
«Хуже не надо, а надо по-человечески!»
Все рассмеялись.
Он отругал нас и ушел.
Я сказал, что он просто боится лишнего внимания и проверок. И что надо гнуть свою линию. И наоборот, учиться еще лучше. Чтобы все стали отличниками.
2 марта
Наш план выполняется почти на 100%, не все стали отличниками, хотя все учат с утра до вечера и читают дополнительную литературу, научные журналы и т.п., но все-таки не у всех одинаковые способности. И учителя нас сбивают, задают дополнительные вопросы. То есть они задавали их сначала, а когда мы стали отвечать так, что видно было, что сами учителя этого не знают, они растерялись.
Дмитрий Степанович собрал нас и родителей, у кого они есть и кто сумел приехать (то есть родители интернатских), и говорил на тему, что в классе под видом хорошей учебы налицо издевательский заговор против учителей. С неизвестной целью мы насмехаемся над ними, выхваляемся, будто хотим доказать, что наши педагоги хуже, чем ученики. И что он знает, кто организовал этот заговор, хотя пока не будет называть имен. Но при этом посмотрел на меня и еще на некоторых.
Родители начали спрашивать, какие из этого конкретные сделать выводы, но Дмитрий Степанович сказал, что выводы они должны сделать сами.
20 марта
История с нашей слишком хорошей учебой кончилась сама собой. Многие просто устали, многие этой весной болеют и пропускают, из-за этого успеваемость снизилась.
У меня остался неприятный осадок, хотя я учусь, как и учился, только на «отлично». Роман сказал: «Пусть попробуют ему снизить отметки, он тут же напишет в “Комсомольскую правду”!» Я не собирался никуда писать, о чем сказал ему в резкой форме. Он так же резко ответил, что у меня все родственники враги народа, поэтому я так стараюсь. Чтобы меня не раскусили. Я сказал, что меня нечего раскусывать, я весь на виду.
Отношения у нас с ним все хуже и хуже, но с остальными нормальные.
А с Тасей как-то странно. Мы не ссоримся и не ругаемся, но перестали ходить в кино или куда-нибудь еще. То есть мы видимся только на уроках.
Может, и к лучшему. Любовь не должна мешать жизни.
15 апреля
Усиленно занимаюсь. Мне нужен только отличный аттестат. Во многие вузы с отличным аттестатом принимают без экзаменов. В военные училища тоже, если пройдешь комиссию. Это сказал Степа, он тоже собирается в училище.
22 апреля
Вчера я встретил Фрицу. Она сказала, что приезжала продавать свинину и возвращается обратно. Вечером едет с кем-то, кто едет в направлении ее села, а пока собирается пойти в кино. И предложила мне тоже пойти. Я честно сказал, что у меня нет денег на билет. Она засмеялась и сказала, что угощает.
Я не хотел ее обидеть, это же поход в кино, а не что-то. Тем более что мы пошли на фильм «Арсен» про революционера-разбойника, а не про любовь. Перед фильмом была хроника, в том числе про День рождения В.И. Ленина. А в фильме многое оказалось все-таки про любовь. И героиня очень похожа на Фрицу. Очень красивая, темноволосая, но все равно похожа, хотя у Фрицы волосы светлее. И еще Фрица немного располнела, пока я ее не видел. Мы сидели на заднем ряду, потому что других билетов не было. С самого края. Фрица спрашивала меня про то, как я живу. Я думал, что она спросит про Тасю, но она не спросила.
Про то, что случилось дальше, я должен рассказать честно.
Она сначала взяла меня за руку, а потом начала рукой меня обшаривать. Вокруг были люди, и я не мог возразить. И тут она очень тихо сказала, что уезжает в Германию. И что мы никогда не увидимся.
После кино мы пошли в какой-то дом, она там оставила свои вещи. Мы вошли в комнату, где у нее были эти вещи. Она накинула на дверь крючок и стала меня обнимать. И шептала, что это в последний раз.
И это произошло.
Я читал, что это называется помутнение рассудка. У меня было это помутнение, потому что я говорил ей, что поеду с ней в Гейбель, а потом в Германию. И что никогда больше с ней не расстанусь. Но она сказала, что меня никто не отпустит. Потом я не хотел уходить, но она меня прогоняла. Закричала, что я много о себе думаю, а на самом деле я для нее карамелька, леденец, вот я растаял у нее во рту, и вот меня нет, и больше ей не хочется. Я видел, что она нарочно меня обижает, чтобы я рассердился. И сказал ей об этом. Она сказала, что я слишком умный для своего возраста, но Ende gut – alles gut, то есть все хорошо, что хорошо кончается, поэтому надо кончить, пока все хорошо, дальше будет только хуже.
Но все-таки она оставила меня на ночь. А утром я проснулся, и ее уже не было.
Сейчас я пришел в себя.
Плохо я поступил? Да, конечно. Но не я один в этом виноват.
Предал ли я Тасю? Кажется, что да. Но, если подумать, я с Фрицей перебил в себе те желания, которые у меня были по отношению к Тасе. Не окончательно, но намного. Получается, я это сделал в какой-то степени и для Таси.
Я слишком запутался. Я себя чувствую то очень взрослым человеком, то ребенком, который хочет кому-то на что-то пожаловаться.
Иногда хочется куда-то уехать, где меня никто не знает.
25 апреля
Бабушка Мария дала мне тетрадь. Она сказала, что уезжает вместе с тетей Иммой. К сыну тети Иммы, тот где-то устроился на хорошую работу. А тетрадь ей оставил мой отец, чтобы она не читала, а просто сохранила. И она ее где-то прятала. Сказала, что не читала, но мне кажется, это не так. Иначе она не сказала бы мне, чтобы тоже не читал. Вернее, она сослалась на то, что отец просил сохранить тетрадь до его возвращения и не читать, а если почему-то не вернется, то отдать мне в 18 лет. Но она не может ждать, потому что ей надо уехать.
27 апреля
Два дня лежит тетрадь, а я не знаю, читать или нет. До восемнадцати мне еще год с лишним. И возраст ничего не значит. Я сдаю нормы на взрослую ступень ГТО, мне даже по виду все дают больше, чем 16.
28 апреля
Начал читать.
29 апреля
Прочитал за вечер и половину ночи.
Товарищ Павел, у меня поднялась буря мыслей, и я обязан поделиться с тобой, ничего не скрывая, хотя тебе не все понравится.[36]36
До конца страницы все густо зачеркнуто. И еще две страницы вырваны из тетради.
[Закрыть]

2 сентября 1939 года
Товарищ Павел, я дал себе (и тебе) слово ничего больше не записывать до моего 18-летия.
Когда я прочитал дневник отца, во мне возникли сложные мысли и чувства, о которых я тебе написал[37]37
Наверное, на тех самых страницах, что вырваны.
[Закрыть]. Но я подумал, что мой дневник ведь тоже кто-то может прочитать. И не все пойдет на пользу тем, кто читает. Я решил на время прекратить вести его.
У меня ощущение, что я освободился от шелухи, слишком забивавшей мою голову. В частности, от постоянных личных переживаний. Мне теперь не до них.
На Халхин-Голе идут победоносные бои с японскими империалистами. Я мог бы уже быть там, сражаться, но меня там нет.
Фашизм шагает по Европе, немецкие войска вторглись в Польшу и скоро могут оказаться у наших границ. И опять я останусь в стороне?
И я ведь не для того, чтобы сделать военную карьеру, я этого хотел всегда. Бороться, воевать. В том числе чтобы последовать твоему примеру. Но не только. Еще причина: я не знаю, насколько виноват отец. Есть возможность, что что-то напутали слишком бойкие исполнители приказов. И я бы хотел службой Родине не искупить его вину, я в ней не уверен, но доказать за себя и за него, что мы готовы пролить кровь за наши идеи, что я сын трудового народа, как назвал свою книгу писатель Катаев, я прочитал ее с большим интересом.
Эту мысль я впервые четко сформулировал в прошлом году, в декабре. Тогда открылся новый кинотеатр «Родина». Мы шли после фильма «Митька Лелюк» – Тася, Роман и я. Тася приехала к родителям, она училась (и учится) в медицинском, а Роман остался в Энгельсе на комсомольской работе, а учится заочно.
В этом фильме рассказывается о мальчике, который поступил на службу к польским военным, захватившим село, чтобы выведывать секреты и кормить раненого красного командира. Но его считают предателем. Когда я видел эти кадры, у меня ком волнения стоял в горле.
Мы шли, обсуждали, Роман смеялся и говорил, что это детское кино. Я сказал, что показать мужество человека, который вынужден скрывать свое лицо, это не детское кино, это серьезно.
Тася согласилась. А Роман со свойственной ему усмешкой стал намекать, что мне близок герой, потому что я тоже скрываю свое лицо. Я рвусь в военные училища и в армию, чтобы выбиться в люди, чтобы меня перестали упрекать отцом.
Вот тут я и сказал, что, во-первых, мне не надо выбиваться в люди, я и так человек, а во-вторых, что плохого, если я хочу за себя и отца доказать свою преданность нашим идеям и Родине, которая у меня искренняя? В отличие от некоторых.
Он это «некоторых» принял на свой счет и стал уверять обратное.
Но я немного ушел в сторону.
Итак, в прошлом году, после окончания школы, я хотел поступить в пограничное училище. У меня был аттестат с отличием, грамоты за учебу и спортивные достижения. Но документы мне вернули. Я добился, чтобы меня принял ответственный товарищ и объяснил. Он сказал, что хотя в армию теперь иногда в виде исключения берут детей кулаков, бывших дворян, врагов народа и других, кто сомнителен по классовому принципу, но в военные училища отбор строгий, только сыновья рабочих и крестьян. Особенно в пограничное училище.
Я не стал спорить, но не сдался и подал документы в бронетанковое училище, еще было время. Тоже не приняли. И даже не стали ничего объяснять.
Я пошел в военкомат, чтобы узнать, можно ли записаться на какие-то курсы или пойти в Красную Армию добровольцем на вспомогательную службу, если такие есть. Мне сказали, что до восемнадцати лет могу не беспокоиться.
Я пошел в депо и там работал в слесарном цеху вплоть до последнего времени.
Весь этот год я иногда виделся с Тасей и мы переписывались. Она очень увлечена учебой.
И вот теперь главное, Павел. Только что принят закон о всеобщей воинской обязанности. Призывной возраст теперь с 19 лет, а для окончивших среднюю школу – 18. После средней школы и раньше можно было, но в училища или добровольцами, а теперь обязательно всем.
Я узнал, что во дворце культуры железнодорожников сегодня открылся призывной пункт. Пошел туда, меня записали, но только на очередь, сегодня всех не принять. Сказали прийти завтра.
4 сентября
Вчера тоже не приняли, пошел сегодня. Взяли документы, направили на медкомиссию. Всю не прошел, осталось на завтра.
Англия и Франция объявили войну Германии.
5 сентября
Оказалось, что у меня проблемы со зрением. Теперь я понимаю, почему стрелял не очень хорошо, хотя много тренировался. Эти проблемы небольшие для мирной жизни, но врач сказал, что для военной службы я непригоден.
«Радуйся, ты получишь белый билет».
Я даже закричал на него. Я не дезертир, чтобы радоваться. Как он смеет думать про меня такое? Он испугался, потому что стали заглядывать другие, успокоил меня, взял мои бумаги и куда-то пошел.
Я взял лист, карандаш и быстро записал таблицу.
Он вернулся с другим врачом. Наверное, главным. Седой, в очках. Тот сказал, что правила есть правила. Я негоден.
6 сентября
Вчера весь день учил таблицу. Она у меня перед глазами. Вот я пишу по памяти, с учетом масштаба:

Сверяю – все точно. Я никогда не забуду эту таблицу.
7 сентября
С утра пошел на призывной пункт. Но меня не пустили дальше учетно-контрольного стола, дали конверт, в нем документы и тот самый белый билет, на самом деле обычная справка. Не годен. Я потребовал провести меня к главврачу комиссии. Это был не тот старик, на которого я подумал, а пожилой человек в военной форме. Я сказал ему, что нервничал, поэтому не прошел по зрению, готов повторить. Он позвал сначала старика, потом окулиста. Меня повели в кабинет. Окулист в присутствии старика и военного главврача показывал мне буквы. Он показывал указкой, я ошибся только два раза в нижней строчке, не разглядел, где кончик указки.
Сказали прийти завтра.
8 сентября
Я – годен!
Но мне не выдали документы, велели прийти 11-го в военкомат.
11 сентября
В военкомате со мной говорил человек, который не представился, но я по форме понял, что он из НКВД. Он знает про меня все. Про отца, про деда. Еще он сказал, что моя мать, Олка Берндтовна Штильман-Люсина, осуждена и отбывает срок по делу пособничества мужу Люсину, расстрелянному еще в 37-м году. Я сказал, что ничего про это не знаю, мать давно меня не навещала. Но она мать формальная. Да, она меня родила, но я ее почти не видел, а моя мама, которая меня воспитала, погибла.
Я спросил, какое это имеет значение, я напомнил (уже в который раз) слова Сталина: сын за отца не отвечает. Он сказал, что помнит эти великие слова, но речь не об этом. Начал спрашивать (не он первый), почему я хотел поступить в пограничное училище. И почему я так рвусь в армию. Я сказал, что это странные вопросы для любого советского молодого человека. Кто не хочет в армию?
Тогда он зачем-то начал вспоминать школу, опять задавал странные вопросы: зачем я организовал соревнование учащихся, зачем написал в «Комсомольскую правду», зачем мне такие успехи в ГТО и почему я так стремлюсь куда-то наверх?
«Какая твоя цель, вот что я хочу понять?» – он спрашивал меня и так смотрел, будто знал больше, чем я сам.
Но я понял смысл его вопросов. И задал ему тоже вопрос, но прямой:
«Вы меня подозреваете, что я хочу пробиться, чтобы стать диверсантом? А какие у вас для этого основания? Что в моей жизни было такого, хоть один раз, за что меня можно подозревать? Если вы не скажете этого, я ведь тоже могу вас обвинить в том, что вы на пустом месте делаете из меня чуть ли не врага народа!»
Он был спокойным и сказал:
«Хоть один раз? Пожалуйста. Половая связь с немкой Фрицей Келлерман. Нам все известно».
Я даже не сразу понял, о чем он.
А когда понял, удивился и спросил:
«А какое отношение имеет половая жизнь призывника к его службе в Красной Армии? И почему вы уточняете, что она немка, она полноправная гражданка СССР, а в СССР все народы имеют равные права!»
Он засмеялся и сказал:
«Да ты с юмором!»
И стал со мной прощаться.
Но я не хотел неопределенного результата.
Я применил не совсем честный, но вынужденный прием. Я сказал:
«“Комсомольская правда” приглашала меня в сотрудники. Мне было некогда, но теперь у меня будет время, если не возьмут в армию, и я напишу и попрошу через газету ответить мне и всем, кто хочет служить, почему нам ставят такие препятствия».
«Ты еще и не дурак, – сказал он. – Ладно. Учти, органы не спускают глаз с таких, как ты».
Кончилось тем, что он сказал идти и ждать повестки.
18 сентября
Красная Армия перешла польскую границу для освобождения украинцев и белорусов и недопущения вторжения на эти территории немецких войск.
А я сижу дома. То есть в комнате в общежитии. Конечно, днем я опять хожу на работу, а вечером сижу и читаю газеты. Больше ничего не могу делать. Давно не писал Тасе в Саратов. Нет настроения. А она приезжает все реже.
Сижу и жду.
1 декабря
Боевые действия с Финляндией. А я все жду.
8 декабря
Получил повестку. С вещами на сборный пункт в военкомат, 9-го в 12:00.
Из нашего цеха ездят грузовые машины в Саратов через Волгу, по льду, я попросился к знакомому, поехал. Хотел увидеть Тасю. Но у нее была практика в военном госпитале, меня туда не пустили. Жаль, не успел попрощаться.
Вернулся. Дневник отца упаковал, этот сейчас тоже упакую и отдам Кате. Ей 10 лет, а умная, будто ей 12 или 13. Она сказала, что у нее есть место, про которое никто не знает и никогда не найдет. Пусть спрячет. На службе вряд ли мне разрешат вести дневник. Да это и неуместно. Буду писать Тасе.
18.12.1939[38]38
Стопка писем, завернутая в целлофан и перевязанная шпагатом, хранилась вместе с тетрадью-дневником В. Смирнова.
[Закрыть]
Моя хорошая Тася!
Я сейчас довольно далеко. Мы на карантине.
Мы ехали трое суток с остановками. Ехали в теплушках. Некоторые ставили в укор, что там грязно и холодно, но я напомнил, что страна должна экономить ради будущих побед.
Кое-что меня удивило. Я привык к культурной среде, в нашем классе, как ты знаешь, никто не ругался нецензурно. А в теплушке говорили только матом и очень громко. Я объясняю это радостным возбуждением перед новой жизнью. И немного страхом.
Еще странность: пели не революционные песни или песни из фильмов, не патриотические, как можно было ожидать, а кто-то начал и другие подхватили песню, которую я слышал раньше, но не знал, что она такая популярная. Я даже приведу тут один куплет, извини, если это тебя покоробит.
Стучат колеса, я еду скорым,
И позади мелькают города.
Я был мальчишка, а стал я вором,
И уезжаю отсюда навсегда.
Пели во весь голос, умолкали и начинали заново. Я попробовал начать песню из «Трех танкистов», кто-то подхватил, но тут же чей-то голос перебил и спел:
Три танкиста выпили по триста,
А четвертый выпил восемьсот.
И опять начали петь про мальчишку-вора. При этом у многих, как я узнал, за плечами тоже десятилетка, а некоторые даже поучились в институте.
Но это детали.
Настроение у меня и у других сейчас отличное, несмотря на то что нас всех остригли и обули в ботинки с длинными обмотками. Я думал, что таких уже нет. Может, это временная форма, для карантина. И еще буденовки.
Кормят нас великолепно. Много занимаемся строевой подготовкой, проводят политинформации.
Нас уже распределили, я стал вторым номером пулеметного расчета. Это вовсе не хуже первого, во вторые берут тех, кто крепче, потому что надо носить на плечах станок пулемета весом в 32 килограмма.
Ну вот, пока и все, за исключением того, что не написал, как я думаю о тебе. Но это и так ясно.
Не удивляйся, что получишь письмо не через военную почту. У нас письма сдают в штаб, но я заранее купил несколько конвертов с марками и, когда оказываемся в городе, я бросаю их в обычный почтовый ящик. Это не для какой-то секретности, у меня нет никаких секретов. Просто в штабе, мне сказали, почту отправляют раз в неделю, а мне хочется, чтобы уходило в тот же день.
Прости, я забыл сказать самое главное: мы приняли присягу.
В.С.
25.12.1939
Родная Тася! Тебя не смущает, что я так к тебе обращаюсь? Напиши об этом прямо.
Наш полк участвовал в выборах в местный Совет депутатов трудящихся. Мы опускали листки с фамилиями кандидата в депутаты. Я спросил одного из командиров, кто этот кандидат. Все-таки это не совсем правильно, если мы не знаем ничего про этого человека. Он резко ответил, что, если его выдвинули, уже это значит, что он достоин. Какие могут быть вопросы? Наверное, он прав.
Мы ждем, что нас отправят на финский фронт. Я усиленно занимаюсь, как и все. В наш город, в том числе в госпиталь при нашем полку, прибывают раненые с финского фронта. Нас позавчера послали туда помочь с уборкой и разгрузкой продуктов. Меня назначили старшим. Мы говорили с ранеными, хотели узнать, что на финском фронте, но они хранили военную тайну и отвечали нам грубо. Проще сказать, «посылали». Когда возвращались, я увидел, что один из наших будто забеременел. Оказалось, он набил полную гимнастерку картошки. Я сделал ему замечание и велел отнести картошку назад. Он спорил и не хотел этого делать. Но надо отдать должное остальным товарищам. Они поддержали меня, стыдили этого солдата, и он понес картошку назад.
У тебя скоро начнется сессия, придется туго, но ты умница, ты все сдашь на отлично. Я желаю тебе успехов! Постараюсь быть тебя достойным. У меня все хорошо, только жду, не дождусь когда нас отправят.
В.С.
15.1.1940
Родная Тася, не удивляйся, что получишь письмо, где я ничего не напишу. У меня служба, учеба, все то же самое. Я просто очень хотел послать это письмо. Мне нравится представлять, как ты его получаешь, смотришь на рисунок, на марку (или не смотришь?), а потом вскрываешь и читаешь.
Вот и все.
Извини, если это неудачная шутка.
Такой я странный,
Владимир Смирнов.
2.2.1940
Родная Тася!
Мы переместились. Теперь мы уже не запасной полк, а настоящий.
На новом месте устроились хорошо, в казармах. Все отлично, но почему-то перебои с водой. То есть она есть для питья (баки в казармах), в столовой в виде чая, а умыться можно только в банный день. Но я придумал – я выбегаю голый по пояс, растираюсь и умываюсь снегом. Сержант Ващенко похвалил мою инициативу и приказал всем это делать. Некоторые из-за этого на меня обиделись. Я убеждал их, что это полезно для здоровья. Но один указал мне на красноту на лице – какая-то реакция на снег, второй показал фурункулы, и так далее, у многих нашлись причины. Я засомневался и сказал Ващенко, что растирания снегом можно делать в виде личной инициативы и желания, а получилось, что теперь это происходит в приказном порядке. Вряд ли это правильно. Ващенко рассердился, я получил наряд вне очереди. А Ващенко тех, кто жаловался, заставил не только умываться снегом, но ползти по-пластунски.
Тася, я обиделся на него, но потом стал размышлять. И понял, что он прав. Во-первых, надо привыкать к тяготам войны. Во-вторых, пусть даже Ващенко не совсем прав, пусть он грубоват (Витя Малышкин, например, обижается, что он всем тыкает, а его презрительно называет студентом, Витя действительно успел побыть студентом), у него всего три класса образования, он говорит неграмотно, он, прямо скажем, по уму не академик, но приказ есть приказ. Смешно представить, если на передовой такой же сержант скажет: «Будьте любезны, товарищ Малышкин, не хотите ли подняться в атаку?» Он крикнет: «В атаку!» Да еще добавит пару русских слов, как у нас тут принято. Потому что нет времени на другие слова.
Мы ждем отправки на фронт. Я выполняю все нормативы по сборке-разборке винтовки и пулемета, по стрельбе (не блестяще, сказываются 0,2% близорукости, которая у меня, увы, имеется), но вполне нормально.
Уверен, что ты хорошо сдала сессию.
До встречи!
В.С.
14.2.1940
Родная Тася, все ощутимее приближение настоящих боев. Совсем не занимаемся строевой подготовкой, зато много стрельбы и тактики.
Полк объявлен на военном положении. Никаких увольнительных, все личные вещи при выходе на полевые занятия иметь в ранце. Потому что могут отправить прямо с поля.
Пишу наскоро.
Кончаются конверты, а купить их тут почему-то нельзя. В части есть безмарочные для красноармейских писем, если что, пошлю в таком конверте.
Нас переодели: теперь каски вместо буденовок и сапоги.
Все предвкушают, что будет впереди.
Мы второй раз приняли присягу, потому что прежние документы то ли остались в том городе, где мы были, то ли как-то затерялись. Малышкин начал шутить по этому поводу, Ващенко дал ему наряд. И правильно: в таком лихорадочном ритме жизни все может случиться. И с такими вещами не шутят.
В.С.
28.2.1940
Дорогая Тася, мы каждую ночь тренируемся, погружаемся в вагоны по тревоге. А потом выгружаемся. И так уже почти неделю, а отправки все нет.
Пишу, как видишь, совсем мало, времени нет.
Обнимаю тебя (извини за наглость, но это только образное выражение).
В.С.
2.3.1940
Родная Тася, уже вовсю отправляют эшелоны. Мы на очереди.
Спасибо, что простила мне мою письменную (ведь не на самом же деле) наглость. Теперь с полным правом пишу: обнимаю тебя.
А ты – как хочешь, это твое право.
Если тебе кто-то понравится, я это пойму.
Я стал понимать намного больше, в том числе в отношениях людей.
Например, Котусов, тоже, как и Малышкин, студент и москвич, начал тут бегать к какой-то женщине. И всем про это рассказывал. Я не вытерпел и сказал ему:
«Заткнись! Ты не имеешь права рассказывать про женщину такие вещи!»
А он ответил:
«Это такая женщина, что про нее все можно рассказывать, она обслуживает полгорода!»
Тася, разве это правильно? Зачем ходить к женщине, если ты ее не уважаешь?
Обнимаю и целую тебя (очередная наглость с моей стороны!)
Вл. Смирнов
13.3.1940
Родная Тася, пишу тебе из нового места.
Во-первых, ты зря вспомнила Фрицу в своем предыдущем письме. Да, там тоже не было полного уважения с моей стороны, но она, кроме меня, ни с кем больше в это время не была, не надо сравнивать. Я ее не защищаю, просто не хочу, чтобы о человеке судили меньше, чем он является на самом деле.
Мы два дня назад прибыли с эшелоном. Уже не пели песен, были все немного притихшие. Думали, что ждет впереди. Я тоже думал. Я не боюсь смерти, я боюсь одного: что она придет преждевременно, когда я еще ничего не успею сделать. Я поделился мыслями со своим первым номером Сашей Свинаренко. Он старше меня, но не закончил школу, работал на заводе. И очень умный от природы человек. Он сказал: «Самое лучшее – совсем не думать о смерти. Ты попал на линию фронта, тебе дали цели, ты должен по ним попасть. Все, больше ни о чем думать не надо».
Он прав. Я часто чувствую, как мои мысли мне мешают. То есть я осознанно не боюсь смерти, а тот, кто совсем о смерти не думает, а просто готов выполнить задачу, они на самом деле умнее.
Но все это оказалось напрасно.
Мы опоздали.
Война кончилась нашей победой.
И я рад, что это так, но гнетет ощущение, что мне не хватило какого-то дня, чтобы успеть, как говорится, понюхать пороха. Это немного обидно.
Но наша победа превыше всего.
Обнимаю и целую тебя!
Твой (опять наглость!) Володя.
18.3.1940
Уважаемая Таисия, здравствуйте!
Я не нарочно называю Вас на Вы, просто теперь не имею другого права.
Не расстраивайтесь, я не обижаюсь, что Вы начали серьезные отношения с Романом Кашиным. Но меня удивило то, что у Вас это началось еще зимой, а Вы мне не написали об этом ни слова. Вы разрешили письменно обнимать и даже целовать себя, а сами в это время… Но – замнем.
Про то, что Кашин с зимы в Саратове, я тоже не знал.
В общем, я не знал ничего.
Почему?
Вы считали, что нельзя меня беспокоить, когда я мог погибнуть на фронте? Это благородно с Вашей стороны, но неправильно. Я достаточно мужественный человек. Я бы не полез под пули из-за этого. То есть я пошел бы под пули, но совсем по другим причинам.
Я желаю Вам счастья. Не передаю привет Кашину, это будет лицемерием, я не хочу врать. Да, отношение у меня к нему плохое, и я этого не скрываю.
Последняя просьба: пожалуйста, уничтожь мои письма.
Или передай их Кате, моей сестре, упаковав и попросив не читать, пока я не вернусь. Твои письма, которые у меня сохранились (а сохранились не все по понятным причинам), могу выслать в любой момент по твоему желанию.
Извини, по привычке перешел на ты.
Всего Вам доброго, Таисия, счастья в личной жизни и успехов в учебе.
И это не злая ирония, я пишу это от чистого сердца.
Не Ваш теперь (да и никогда им не был),
Владимир Смирнов.
4.5.1940
Катюша, сестренка!
Меня огорчило, что ты обиделась на то, что я писал посторонней девушке, а не тебе. Пойми, мой сестреныш, ты хотя и очень у меня умненькая, но есть вещи, которые тебе знать рановато. Поэтому я присылал тебе только открытки.
Прости, моя родненькая, я исправлюсь.
У нас недавно был Первомайский парад. Было много техники, людей, в том числе военных. Катя, когда такая масса орудий, танков, другого транспорта и вооруженных солдат идет по площади и земля аж дрожит, когда чеканят шаг тысячи ног, тогда понимаешь, как сильна наша Родина, как трудно нас победить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































