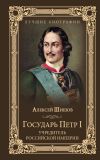Текст книги "Петр I. Том 2"
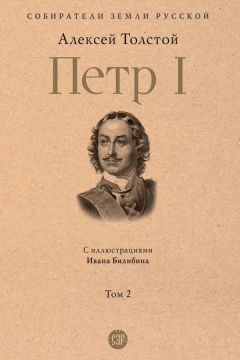
Автор книги: Алексей Толстой
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.
– Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо, схожу – подышу, вернусь.
Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий, мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома – из-за колонны – отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.
– Тебе чего? – спросил Петр Алексеевич. – Ты кто? Встань, – указа не знаешь?
– Великий государь, – сказал человек тихим, проникающим голосом, – бьет тебе челом детинишка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков… Погибаю, государь, смилуйся…
Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз – встать:
– От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?
– Здоров я, государь, от работы не бегаю, вожу камень и землю копаю, бревна пилю… Государь, сила чудная во мне пропадает… Живописец есмь от рода Голиковых – богомазов из Палехи. Могу парсуны писать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно… Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму, – весьма искусно…
Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито:
– Корабли умеешь писать? А – как тебе поверить, что не врешь?
– Мог бы сбегать, принести, показать, да – на стене написано, на штукатурке, и не красками – углем… Красок-то, кистей – нет. Во сне их вижу… За краски, хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил – в огонь бы кинулся…
В третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом: «Пойдем!» – и, подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.
Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли, крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков – вне себя – кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать спало на нарах, – из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, – латал рубаху.
Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви – черному лику.
– Жалуйся! – отрывисто сказал Петр. – Еда плохая?
– Плохая, государь, – ответил человек просто, ясно.
– Одеты худо?
– Осенью выдали одежонку, – за зиму – вишь – сносили.
– Хвораете?
– Многие хворают, государь, – место очень тяжелое.
– Аптека вас пользует?
– Про аптеку слыхали, точно.
– Не верите в аптеку?
– Да как тебе сказать, сами собой будто бы поправляемся.
– Ты откуда? По какому наряду пришел?
– Из города Керенска пришел, по третьему, по осеннему наряду… Мы – посадские. Тут, в землянке, мы все – вольные…
– Почему остался зимовать?
– Не хотелось на зиму домой возвращаться, – все равно – с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе, – возим лес. А ты посмотри – какой хлеб дают. – Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах. – Плесень. Разве тут аптека поможет?
Андрей Голиков тихонько переменил лучину в светце, – в низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землянке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку, пронзительно, – в глаза, – глядел на бородатого мужика:
– А дома, в Керенске, что делаешь?
– Мы – сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить, денег ни у кого нет.
– Я виноват, всех обобрал? Так?
Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустился медный крест на его тощей груди, – с усмешкой качнул головой:
– Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные… Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было… А ныне – все деньги да деньги давай… Платили прежде с дыму, с сохи, большей частью – круговой порукой, можно было договориться, поослобонить, – удобство было… Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал, – около каждой души комиссар крутится, земский целовальник, плати. А последние года еще, – сюда, в Питербург, тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей… Легко это? У нас с каждого десятого двора берут человека, – с топором, с долотом или с лопатой, с поперечной пилой. С остальных девяти дворов собирают ему кормовые деньги – с каждого двора по тринадцати алтын и две денежки… А их надо найти… Вот и дери на базаре глотку: «Вот он, сбитень горячий!» Другой бы добрый человек и выпил, – в кармане ничего нет, кроме «спасиба». Сыновей моих ты взял в драгуны, дома – старуха да четыре девчонки – мал мала меньше… Конечно, государь, тебе виднее – что к чему…
– Это верно, что мне виднее! – жестко проговорил Петр Алексеевич. – Дай-ка этот хлеб-то. – Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман. – Пройдет Нева, привезут новую одежу, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь. – Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал: – Ну, богомаз? Показывай…
Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:
– Вельми преславная морская виктория в усть Неве майя пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шнява «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову.
На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля, в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки. «Ну и ну!» – проговорил. Все было правильно, – и оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексашку с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя, – принаряженного слишком, но – действительно – он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки, кричал и кидал гранаты.
– Ну и ну! Откуда же ты знаешь про сию викторию?
– Я тогда на твоей лодке был, гребцом…
Петр Алексеевич потрогал пальцем рисунок, – и верно, что уголь. (Голиков за спиной его тихо застонал.)
– Эдак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю – учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов…
…Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали. Гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склонясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у мин херца подергивается уголок рта, и быстро соображал – с чего бы это?
– На, закуси! – вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба. – Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!..
– Мин херц, тут не я виноват, хлебными выдачами ведает Головкин, ему подавиться этим куском… Ах, вор, ах, бесстыдник!
– Ешь! – У Петра Алексеевича бешено расширялись глаза. – Дерьмом людей кормишь – ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью…
Александр Данилович повел на мин херца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы…
Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Киста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, а все-таки ему там нравилось.
Денщик Нартов тепло натопил печь, на столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все – чем писать, готовальни – чертежные, столярные и медицинские – в толстых кожаных сумках, подзорные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял – в полроста человека – медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости; лежало несколько якорей для ботиков и буеров, смоляные концы, бокаутовые блоки.
Тут бы Петру Алексеевичу – после бани и хорошего ужина – и заснуть сладко на деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше – порывами, взвывал в печной трубе, тряс ставней. На полу, на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный – Алексашка и рассказывал про денежные трудности короля Августа, о которых постоянно доносил – письменно и через нарочных – посол при его дворе князь Григорий Федорович Долгорукий.
Короля Августа вконец разорили фаворитки, а денег нет; в Саксонии подданные его отдали все, что могли, – говорят, там ста талеров не найти взаймы; поляки на сейме в Сандомире в деньгах отказали; Август продал прусскому королю свой замок за полцены, и опять – не то черт ему подсунул, не то король Карл – одну особу – первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь; когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему кумплимент и отъехала от него, увозя полную карету бархатов, шелков и серебряной посуды. Ему стало и есть нечего. Прибыл он ко князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать: «Мои, говорит, саксонские войска другую неделю грызут одни сухари, польские войска, не получая жалованья, занялись грабежом… Поляки совсем сошли с ума, – такого пьянства, такой междоусобицы в Польше и не запомнят, паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар; до Речи Посполитой им и горя мало… О, я несчастный король! О, лучше мне вынуть шпагу, да и напороться на нее!»
Князь Долгорукий, человек добрый, послушал-послушал, прослезился над таким несчастьем и дал ему без расписки из своих денег десять тысяч ефимков. Король тут же залился домой, где у него бесилась новая фаворитка – графиня Козельская, и давай с ней пировать…
Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул письмецо и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был силен в грамоте:
– Мин херц, вот, – к примеру, – что нам отписывает из Сандомира князь Григорий Федорович: «Польское войско хорошо воюет в шинках за кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно… Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом вконец, не пощажены ни костелы, ни гробы. Но польские паны ни на что не глядят: думают только каждый о себе. Не знаю – как может стоять такое государство! Нам оно никакой помощи не принесет, – разве только отвлекать неприятеля…»
– На большую пользу и не рассчитываю, – сказал Петр Алексеевич, – а Долгорукому я писал, что как хочет – так сам и взыскивает с короля десять тысяч ефимков, я в них не ответчик… Фрегат можно построить на эти деньги. – Он зевнул, стукнув зубами. – Евины дочки! Что делают с нашим братом! В Амстердаме ко мне ходила одна, из трахтира, – врунья, прыткая, но – ничего… Тоже – не дешево обошлась…
– Мин херц, разве тебе равняться по этой части с Августом. Ему одна Аврора Кенигсмарк стоила полмиллиона. А трактирщице, – я хорошо помню, – ты подарил не то триста, не то пятьсот рублев, – только…
– Неужто – пятьсот рублев? Ай-ай-ай… Бить некому было… Август нам не указка, мы – люди казенные, денег у нас своих нет. Поостерегись, Алексашка, с этим «только», – полегче рассуждай насчет казенных денег… – Он помолчал. – У тебя тут человек один есть, лес возит… Вот Бог дал таланту.
– Это Андрюшка Голиков, что ли?
– Здесь он – зря, не при своем деле. Надо его послать в Москву… Пусть напишет парсуну с одной особы. – Петр Алексеевич покосился. Алексашка, – не разобрать, – кажется, начал скалить зубы. – А вот – встану – так отвожу тебя дубинкой, куманек, будешь знать – как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все… Закрою глаза – и вижу ее, живую, открою глаза – ноздрями ее слышу. Все ей прощаю, всех ее мужиков, с тобой вместе. Евина дочка, – и сказать больше нечего.
Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном – в шуме ветра – начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда.
– Нева тронулась, мин херц!..
Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла:
– Да ну! Теперь нам – не спать!

 ОХОД на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые гребные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве, – на берегу, из поломанного ельника, выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте позади гребной флотилии, услышав, как кричит этот человек: «Э-эй, лодошники, где государь? К нему грамота!» – он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно-испуганными глазами, проговорил осипшим голосом:
ОХОД на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые гребные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве, – на берегу, из поломанного ельника, выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте позади гребной флотилии, услышав, как кричит этот человек: «Э-эй, лодошники, где государь? К нему грамота!» – он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно-испуганными глазами, проговорил осипшим голосом:
– От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.
Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский.
Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмецо, прочел еще раз внимательно, нахмурился. Прищурясь, стал глядеть туда, где по солнечной зыби плыли тяжело груженные лодки, враз взмахивая веслами.
– Отдай лошадь матрозу, садись в лодку, – сказал он Ягужинскому и вдруг закричал на него: – Зайди в воду, видишь, мы – на мели, отпихни лодку, потом прыгай.
Он молчал весь путь до Питербурхской стороны, куда пришлось плыть, лавируя против ветра. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус, кинулись, стуча башмаками, на нос лодки, где на заевшем кливерштоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, покуда они в порядке, по регламенту, не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему домику. Тотчас туда собрались встревоженные Меньшиков, Головкин, Брюс и вице-адмирал Крейс. Петр Алексеевич приоткрыл окно, впуская ветер в душную комнатку, сел к столу и прочел им письмо Петра Матвеевича Апраксина, начальствующего гарнизоном в крепости Ямбурге, расположенной в двадцати верстах к северу от Нарвы:
«Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с тремя пехотными полками и пятью ротами конницы к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей Россонь. Вскорости пришло пять шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер два боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно, один корабль у шведов разбили ядрами и неприятеля из усть-Наровы выбили.
После этого боя шведы вторую неделю стоят на якорях на взморье, – пять военных кораблей и одиннадцать шхун грузовых, чем приводят меня в немалое сомнение. Я посылаю непрестанно разъезды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег. А также посылаю драгун по ревельской дороге и к самой Нарве и разбиваю неприятельские караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли наровское устье.

Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к нарвскому коменданту Горну с цифирным письмом. Оный нарочный объявился презнатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарву ждут самого Шлиппенбаха с большим войском и шведы уже отправили туда караван в тридцать пять судов с хлебом, солодом, сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал де Пру, француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях – свыше двухсот пушек и морская пехота.
Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но – вот, государь, – сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше сорока вымпелов. Силы мои слабы, конницы – самое малое число, пушек – только девять и то одну на днях разорвало при стрельбе… Кроме конечной погибели, ничего не жду… Помоги, государь…»
– Ну? Что скажете? – спросил Петр Алексеевич, окончив чтение.
Брюс свирепо уткнулся подбородком в черный галстух. Корнелий Крейс не выразил ничего на дубленом лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидал полсотни шведских вымпелов в Нарвском заливе; Александр Данилович, всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал, насупясь.
– Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в сей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру: одним ловким ходом на Нарву оборонил Кексгольм? Или продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм, отдавая Нарву Шлиппенбаху?
Корнелий Крейс затряс лицом, – противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек матросского табаку, вареного с кайенским перцем и ромом, и сунул за щеку.
– Нет! – сказал он.
– Нет! – сказал Брюс твердо.
– Нет! – сказал Александр Данилович, стукнув себя по коленке.
– Кексгольм нам не трудно будет взять, – проговорил Гаврила Иванович Головкин смирным голосом, – но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл, на сей раз – ферзя.
– Так! – сказал Петр Алексеевич.
И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву – значило отказаться от овладения главными крепостями – Нарвой и Юрьевом, – без которых оставались открытыми подступы к Питербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом – повернуть обратно в Питербург войска и гребной флот.
Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено – без сомнения положить печаль свою на господа бога и стоять с войском крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб:
– На словах передашь ему: через неделю всеми войсками буду под Нарвой…
Короля Карла разбудило заливистое пенье петуха; открыв глаза в полусвете палатки, он слушал, как петух с придыханием прилежно надрывает глотку; его возили в обозе и на ночь ставили в клетке у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю, – королю вспомнилось туманное ущелье, рога, собачий лай и нетерпение – пролить кровь зверя… У самого шатра затявкала собачонка, по голосу – дрянь, из тех, что дамы возят с собой в карете… Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: «Узнать – откуда собачонка». Неподалеку у коновязи забились лошади, одна дико закричала. Король отметил: «Жаль, но, видимо, „Нептуна“ придется охолостить». Протопали мерные, тяжелые шаги. Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронеслись птицы, разрезая со свистом воздух. Отметил: «Будет погожий день». Звуки и голоса становились все отчетливее. Слаще всех виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающегося лагеря.
Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели, под шинелью, пахнущей дорожной пылью и конским потом. О да, было бы в тысячу раз приятнее проснуться от петушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане оттуда тянет дымком его костров… Тогда – одним прыжком с постели – в ботфорты, и – на коня… И спокойным шагом, сдерживая блеск глаз, – выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят, усатые, суровые…
Черт возьми! После роковой битвы при Клиссове король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает, вот уже целый год отступает, петляет, как заяц, по необъятной Польше… О трус, о лгун, интриган, предатель, развратник! Он боится открытой встречи, он принуждает своего противника разменивать прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и Клиссове на бесплодную погоню за голодными саксонскими фузилерами и пьяными польскими гусарами… Он принуждает своего врага валяться, подобно куртизанке, все утро в постели!..
Король Карл приложил два пальца к губам, свистнул. Тотчас откинулся край парусины, и в палатку вошли камер-юнкер барон Беркенгельм, с бородавочкой на приподнятом носике, и вестовой – телохранитель – ростом под самый верх палатки; он внес вычищенные ботфорты и темно-зеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопанные следы от пуль и ядерных осколков.
Король Карл вышел из шатра и подставил ладони, – вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К летящим ядрам король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за ушами… Бросив полотенце вестовому, он причесал коротко остриженные волосы, – не глядя в зеркальце, поднесенное ему бароном Беркенгельмом. Он оправил застегнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток – на зеленом склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей; пушкари начищали тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: «Сколь великолепнее – брызги грязи на лафетах и медь, закопченная порохом!» Внизу, у берега ручья, солдаты мыли рубахи, развешивали их на ветвях низеньких ракит. По другую сторону ручья – по болоту – важно расхаживали аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше – торчали голые трубы сожженной деревни, за ней – на бугре – из-за вековых деревьев желтели две облупленные башни костела.
Королю Карлу до оскомины надоел такой, столько раз повторявшийся, скучный пейзаж! Три года колесить по проклятой Польше! Три года, которые могли бы отдать ему полмира – от Вислы до Урала!
– Ваше королевское величество изволят принять завтрак, – сказал барон Беркенгельм, изящно холеной рукой указывая на откинутые полотнища шатра.
Там, на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, стояла миска с вареной морковкой и другая – с солдатской похлебкой из полбы. Вот и все. Король вошел, сел, развернул на коленях салфетку. Барон стал за его спиной, не переставая удивляться упрямым королевским причудам: сокрушать свое здоровье столь постной пищей! Может быть, это необходимо для будущих мемуаров? Король честолюбив… В золоченом кубке работы великого мастера Бенвенуто Челлини – из коллекции короля Августа, захваченной после битвы при Клиссове, – налита вода из ручья, пахнущая лягушками. Несомненно, мировая слава – не легкое бремя!
– Откуда в лагере появилась паршивая собачонка, кто-нибудь приехал? – спросил Карл, жуя морковку.
– Ваше величество, поздно ночью в лагерь приехала фаворитка короля Августа, графиня Козельская, в надежде, что вы окажете ей милость – принять ее…
– Граф Пипер знает об ее приезде?
Барон ответил утвердительно. Король Карл, окончив печальный завтрак, отважно испил воды из кубка, скомкал салфетку и вышел из шатра, нахлобучивая на затылок маленькую треугольную шляпу без галунов. Он спросил, где карета графини, и зашагал в направлении ореховых кустов; там, между ветвями, поблескивали на солнце золоченый купидон и голубки, украшавшие верх экипажа…
Графиня Козельская спала в карете среди груды подушек и кружев. Это была пышная, еще свежая женщина, с очень белой кожей и русыми кудрями, выбившимися из-за помятого чепца. Пробудившись от визга собачонки, попавшей королю под ботфорт, она раскрыла большие изумрудные славянские глаза, которые король Карл презирал у мужчин и ненавидел у женщин. Она увидела придвинувшееся к стеклу каретной дверцы землистое худощавое лицо с презрительным мальчишеским ртом и большим мясистым носом, – графиня вскрикнула и закрылась руками.
– Зачем вы приехали? – спросил король. – Прикажите немедленно запрячь ваших лошадей и отправляйтесь обратно со всей скоростью, иначе вас примут за шпионку грязного бесстыдника короля Августа… Вы слышите меня?
Графиня была полькой, – напугать ее было не легко. К тому же король сразу повернул дело не в свою пользу: начал с невежливости и угроз… Графиня отняла от лица пухленькие руки, голые по локоть, приподнялась в подушках и улыбнулась ему с очаровательным простодушием.
– Bonjour, sir, – сказала она грациозно, – примите тысячу извинений, что я испугала вас моим криком… Виновата Бижу, моя собачка, она доставляет мне столько тревог, неуклюже попадая под ноги… Я выпустила ее из кареты, чтобы она поискала какую-нибудь корочку или куриную косточку… Сир, мы обе умираем от голоду… Весь вчерашний день мы мчались по пустыне мимо разоренных деревень и сожженных замков, – мы не могли достать крошки хлеба, я предлагала по червонцу за куриное яйцо… Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор, только воздевали руки к Богу… Сир, я хочу завтракать… Я хочу вознаградить себя за все ужасы путешествия, взываю к вашей доброте, вашему великодушию – позвольте мне завтракать в вашем присутствии.
Говоря без умолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надушиться и переменить ночной чепец на испанские кружева… Король Карл тщетно пытался вставить слово, – графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку:
– О мой король, от вас – без ума вся Европа, больше не говорят о принце Евгении Савойском, о герцоге Мальборо, – Евгений и Мальбрук принуждены уступить венок славы королю шведов… Можно извинить мое волнение, – за минуту видеть вас, героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь… Обвиняйте меня в чем хотите, сир, я наконец слышу ваш голос, я счастлива…
Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую, косматую собачонку и так крепко вцепилась королю под локоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму.
– Я ем овощи и пью только воду, – отрывисто сказал он, – сомневаюсь, что этим вы могли бы удовлетвориться после излишеств короля Августа. Идите в мою палатку…
Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали – барон Беркенгельм в изящной позиции, с золотым лорнетом, в преогромном парике, и мужиковатый, громоздкий, спокойно-насмешливый граф Пипер.
Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы:
– Этого я вам долго не прощу. – И Беркенгельму: – Найдите, черт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы…

Король сел на барабан напротив графини, она – на подушки, подсунутые ей бароном. Завтрак, накрытый на пороховой бочке, превзошел все ожидания, – здесь был паштет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенуто Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично! Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке…» Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать:
– Ах, Иезус-Мария, зачем ненужное притворство!.. Сир, вы читаете мои мысли… Я приехала сюда с одной надеждой – спасти Речь Посполитую… Это моя миссия, внушенная сердцем… Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты… Польша – в развалинах. Сир, не хмурьте брови, – во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона, Иоганна Паткуля, и стал вашим врагом… Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль, только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем – царем Петром… Но разве ошибки неисправимы? Разве не выше всех добродетелей – великодушие. О сир, вы – великий человек, вы – великодушны…
Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды. Но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Карл с трудом догонял их, и едва только намеревался произнести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркенгельм сдерживал вздохи. Пипер, расставя в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался.
– Мира, только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы – женщины… Три года войны и смуты, – это слишком много для наших коротких лет…
– Не мир – капитуляция, – проговорил наконец король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. – Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице. Вы насытились, сударыня? Вам более не в чем упрекнуть меня?..
– Сир, я совсем сошла с ума, – торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики, после того как расправилась с отлично зажаренным бекасом. – Я забыла сообщить самое важное, – для чего я мчалась к вам сломя голову. – Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее. – Сир, вот депеша голубиной почты, полученной вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву. Мой долг предупредить вас об этом опасном марше московского тирана…
Граф Пипер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной депеши. Графиня перевела прекрасные глаза на Беркенгельма, легко вздохнула и, подняв кубок Бенвенуто Челлини, отпила из него…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.