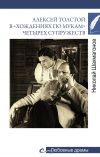Читать книгу "Сестры"

Автор книги: Алексей Толстой
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Эй, воротись, стрелять будем… Воротись, черт длинный!..
Но он шагал, не оборачиваясь. За ним, гуськом, рысью, пошло все больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лед, бежали черными фигурами по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки ко рту и тоже кричали. Один из солдат вскинул было винтовку, но другой толкнул его в плечо, и тот не выстрелил.
* * *
Как выяснилось впоследствии, ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана, но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрестках, то всем, как повелось это издавна, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено: ходить через мосты и собираться в толпы. Распалялась и без того болезненная фантазия. По городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся.
К концу второго дня на Невском залегли части Павловского полка и открыли продольный огонь по кучкам любопытствующих и по отдельным прохожим. Обыватели стали понимать, что начинается что-то похожее на революцию.
Но где был ее очаг и кто руководил ей, – никто не знал. Не знали этого ни командующий войсками, ни полиция, ни, тем более, диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в Троицкой гостинице в Симбирске помещик Наумов проломил голову, прошибив им дверную филенку, каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверена в управление Российская империя, – к роковой растерянности. Очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обуреваемой фантазиями, злобой и недовольством. Это ненахождение очага революции было зловеще. Полиция хватала призраки. На самом деле ей нужно было арестовать два миллиона четыреста тысяч жителей Петрограда.
* * *
Весь этот день Иван Ильич провел на улице, – у него, так же, должно быть, как и у всех, было странное чувство неперестающего головокружения.
Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие, – все люди растворились в общем каком-то головокружении, превращались в рыхлую массу, без разума, без воли, и эта масса, бродя и волнуясь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, воли, которая, ослепив, слила бы эту рыхлость в один комок.
Растворение всех в этом встревоженном людском стаде было так велико, что даже стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по-звериному собирались к двум трупам – женщины в ситцевой юбке и старика в енотовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы… Когда выстрелы становились чаще – люди разбегались и снова крались вдоль стен.
В сумерки стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо, и в тяжелых тучах, грудами наваленных за морем, запылало мрачное зарево заката. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте, где небо было угольно-черное.
Фонари не зажглись в эту ночь. Окна были темны, подъезды закрыты. Вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья. На перекрестках виднелись рослые фигуры часовых. Лунный свет поблескивал то на зеркальном окне, то на полосе рельс, то на стали штыка. Было тихо и покойно. Только в каждом доме неживым, овечьим голосом бормотали телефонные трубки сумасшедшие слова о событиях.
Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед Северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых, тонконогих, танцующих лошадках. Пешие полицейские, в черных шинелях, расположились вокруг памятника и кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, с тороками сена за седлами, бородатые и веселые. Со стороны Невского виднелись грязно-серые шинели павловцев.
Иван Ильич с чемоданчиком в руке взобрался в каменный выступ вокзального въезда, отсюда была хорошо видна вся площадь. Посреди ее на кроваво-красной глыбе гранита, на огромном коне, опустившем от груза седока своего бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная тяга, Император, – угрюмые плечи его и маленькая шапочка были покрыты снегом. Он стоял лицом на север. К его подножию, на площадь, напирали со стороны пяти улиц толпы народа с криками, свистом и руганью.
Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно, шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили. В кучках городовых, рослых и хмурых людей, было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою, – враг уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медлят, и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнула вокзальная дверь, и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами, в короткой шинели, с новенькими, накрест, ремнями снаряжения. Вытянувшись, он оглянул площадь, – светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича… Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то есаулу, подняв к нему бородку. Есаул с кривой усмешкой слушал его, развалясь в седле. Полковник, говоря, кивнул в сторону Старого Невского и пошел через площадь по снегу легкой, стремительной походкой. К нему подбежал пристав, туго перепоясанный по огромному животу, рука у него тряслась под козырьком, багровели щеки… А со стороны Старого Невского увеличивались крики подходившей толпы, и, наконец, стало различимо пение. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за ногу, и рядом с ним вскарабкался сильно пахнущий потом, возбужденный человек в ватном пиджаке, без шапки, с багровой ссадиной через грязное лицо.
– Братцы, казаки! – закричал он тем страшным, надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью, диким, степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. – Братцы, убили меня… Братцы, заступитесь… Убивают!
Казаки, повернувшись в седлах, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись.
В это же время на Старом Невском черно и густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепало красную тряпку на шесте. Конные полицейские отделились от фасада Северной гостиницы, и вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Неистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника, – он бежал, поддерживая кобуру револьвера, и другою рукой махал казакам. Из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конных городовых. Тонконогие, золотистые лошадки пуще заплясали. Слабо захлопали револьверные выстрелы, появились дымки у подножия памятника, – это городовые стреляли в колпинских. И сейчас же в строю казаков, в десяти шагах от Ивана Ильича, взвилась на дыбы рыжая, горбоносая, донская кобыла; казак, нагнувшись к шее, толкнул ее, и в несколько махов долетел до жандармского полковника и на ходу, выхватив шашку, наотмашь свистнул ею, и снова поднял кобылу на дыбы.
Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади… Кое-где хлопнули выстрелы, и были покрыты общим криком: – Уррра… уррраа…
– Телегин, ты что тут делаешь?
– Я должен во что бы то ни стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе, – все равно.
– Плюнь, сейчас нельзя уезжать… Голубчик, ведь – революция… – Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкаченных глаз, впился Ивану Ильичу судорожными пальцами в отворот пальто.
– Видел, как жандарму голову смахнули?.. Как футбольный мяч покатилась, – красота!.. Ты, дурак, не понимаешь, – ведь революция! – Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они, прижатые толпой, в проходе вокзала. – Утром Литовский и Волынский полки отказались стрелять… Рота Павловского полка с оружием вышла на улицу… В городе кавардак, никто ничего не понимает… На Невском солдаты, как мухи, шатаются, боятся идти в казармы…
XXXVI
Даша и Катя в шубках и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской. Хрустели под ногами тонкие пленки льда. На захолодавшее зеленоватое небо поднимался двурогий месяц, ясный и узкий. Кое-где брехали за воротами собаки. Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки.
– Катя?
– Даша, милая, не останавливайся, – опоздаем.
– Катя, если бы выдумать такой инструмент и приставить сюда, – Даша положила руку на грудь, – можно бы записывать необыкновенные вещи… – Даша тихо и ясно напела. – Понимаешь – это повторяется, но уж другим голосом, а этот голос так. – Она напела и засмеялась. Катя взяла ее под руку: – Ну, идем, идем. – Через несколько шагов Даша опять остановилась.
– Катя, а ты веришь, что – революция?
– Да, да, – в самом воздухе какая-то тревога.
– Катюша, – это от весны. Смотри – небо зеленое.
Вдали желтел огонек электрической лампочки над подъездом Юридического клуба, где сегодня, в половине десятого вечера, под влиянием сумасшедших слухов из Петербурга, было устроено кадетской фракцией публичное собрание для обмена впечатлениями и для нахождения общей формулы действия в эти тревожные дни.
Сестры вбежали по лестнице во второй этаж и, не снимая шуб, только откинув платки, вошли в полную народа залу, напряженно слушающую румяного, бородатого, тучного барина с приятными движениями больших рук.
– …События нарастают с головокружительной быстротой, – говорил он, блестя зубами, – в Петрограде вчера вся власть перешла к генералу Хабалову, который расклеил по городу следующую афишу: «В последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождавшиеся насилием и посягательством на жизнь воинских и полицейских чинов. Воспрещаю всякое скопление на улицах. Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено в войсках употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка в столице…»
– Палачи! – прогудел чей-то семинарский бас из глубины залы. Оратор тронул колокольчик.
– Это объявление, как и следовало ожидать, переполнило чашу терпения. Двадцать пять тысяч солдат всех родов оружия Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших…
Он не успел договорить, – зала треснула от рукоплесканий. Несколько человек вскочило на стулья и кричало что-то, делая жесты, будто протыкая насквозь старый порядок. Оратор с широкой улыбкой глядел на бушующий зал, – снова тронул колокольчик и продолжал:
– Только что получена чрезвычайной важности телефонограмма. – Он полез в карман клетчатого пиджака, не спеша вытащил и развернул листочек бумажки. – Сегодня председателем Государственной думы Родзянко послана государю телеграмма по прямому проводу: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. На улице происходит беспорядочная стрельба. Частью войска стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на Венценосца…».
Румяный барин опустил листок и веселыми глазами обвел зал. На всех лицах выражалось неистовое любопытство: такого, захватывающего дух, спектакля не помнили москвичи.
– Мы стоим, господа, на грани готового совершиться величайшего события нашей истории, – продолжал он бархатным, рокочущим голосом, – быть может, в эту минуту там, – он вытянул руку, как на статуе Дантона, – там уже свершилось чаяние стольких поколений, и скорбные тени декабристов отомщены…
– Ох, Господи! – не выдержав, ахнул из самой глубины чей-то женский голос…
– Быть может, завтра вся Россия сольется в одном светлом, братском хоре, – свобода…
– Уррра!.. Свобода!.. – неистово закричали голоса.
Барин опустился на стул и провел обратной стороной ладони по лбу своему. С угла стола поднялся вялый человек с соломенными, длинными волосами, с узким лицом, с рыжей, мертвой бородкой. Не глядя ни на кого, он начал говорить ленивым, насморочным голосом:
– Заслушанные здесь сообщения весьма любопытны. Дело, видимо, всерьез идет к ликвидации дворянско-бюрократического правящего класса. Неожиданного в этом ничего нет: не завтра, так через месяц, войска взбунтуются, и рабочие будут стремиться захватить власть. – Он вытащил из бокового кармана носовой платок, высморкался, сложил его и засунул за потертый пиджак. Позади Даши, сидевшей в дверях на одном стуле с сестрой, чей-то голос спросил:
– Кто это говорит?
– Товарищ Кузьма, – ответили быстрым шепотом, – в 1905 году был в совете рабочих депутатов, недавно вернулся из ссылки, замечательная личность.
– Я не разделяю восторгов предыдущего оратора, – продолжал товарищ Кузьма, сонно глядя на чернильницу, – если даже на этих днях царское правительство и сдаст власть, глупо впадать в восторг: власть попадет в руки буржуазному классу, и драки в дальнейшем все равно не избежать. – Он, наконец, поднял глаза, и все увидали, что глаза у него зеленоватые, холодные и скучные. – Давно бы пора бросить маниловские бредни… Революция – штука серьезная… Братский хор с пением свободы – занятие для безземельных дворянчиков да для разжиревших купеческих сынков…
– Кто он такой?.. Что он говорит?.. Заставьте его замолчать, – раздались злые крики. Товарищ Кузьма возвысил голос:
– Уже двенадцать лет в стране идет революционный процесс. Сейчас его можно считать назревшим. И наша задача – сделать глубокий надрез, чтобы выпустить весь гной на поверхность. Мы должны поставить, наконец, лицом к лицу без посредников пролетариат и буржуазно-дворянские классы. Не свобода нам нужна, затасканная, как проститутка, за сто лет мелкими лавочниками и слюнявыми поэтами, нам нужна гражданская война…
Последние его слова едва можно было разобрать за шумом в зале. Несколько человек в визитках подбежало к столу. Товарищ Кузьма попятился, слез с эстрады и ушел в боковую дверь. На его месте появилась знаменитая деятельница по детскому воспитанию – полная дама в пенсне, с тиком:
– Мы только что слышали возмутительную…
В это время кто-то у самого уха прошептал Даше взволнованно и нежно:
– Здравствуй, родная моя…
Даша, даже не оборачиваясь, стремительно поднялась, – в дверях стоял Иван Ильич. Она взглянула: самый красивый на свете, мой собственный человек. Иван Ильич снова, как это не раз с ним бывало, был потрясен тем, что Даша совсем не та, какой он ее мысленно представлял, но бесконечно краше: – горячий румянец взошел ей на щеки, сине-серые глаза прозрачны, бездонны, как два озера. Она была так совершенна, так ничего ей не было больше нужно, что Иван Ильич побледнел. Даша сказала тихо: – Здравствуй! – взяла его под руку, и они вышли на улицу.
На улице Даша остановилась и, улыбаясь, глядела на Ивана Ильича. Вздохнула, подняла руки и поцеловала его в губы. Он закрыл глаза. Ее губы были нежны и доверчивы. От нее пахло мехом и женственной прелестью горьковатых духов. Молча, Даша опять взяла его под руку, и они пошли по хрустящим корочкам льда, поблескивающим от света лунного серпа, висящего низко в глубине улицы в черно-зеленой бездне неба.
– Иван, ты любишь меня?
– Даша!
– Ах, я тебя люблю, Иван! Как я ждала тебя…
– Я не мог, ты знаешь…
– Ты не сердись, что я тебе писала дурные письма, – я не умею писать…
– Знаешь, когда ты сейчас встала, я взглянул на тебя, – у меня сердце оторвалось…
Иван Ильич остановился и глядел ей в поднятое к нему, молча улыбающееся, милое лицо. Особенно милым, простым оно было от пухового платка, – под ним темнели полоски бровей, и глаза были странными и ласковыми. Он осторожно приблизил Дашу к себе, она переступила ботиками и прижалась к нему, продолжая глядеть в глаза. Он опять поцеловал ее в губы, и они опять пошли.
– Ты надолго, Иван?
– Не знаю, – такие события…
– Да, знаешь, ведь – революция.
– Ты знаешь – ведь я на паровозе приехал…
– Знаешь, Иван, что… – Даша пошла с ним в ногу и глядела на кончики своих ботиков…
– Что?..
– Я теперь поеду с тобой, – к тебе…
Иван Ильич не ответил. Даша только почувствовала, как он несколько раз пытался глубоко вдохнуть в себя воздух и не мог. Ей стало нежно и жалко его.
XXXVII
Следующий день был замечателен тем, что им подтверждалось понятие об относительности времени. Так, извозчик вез Ивана Ильича из гостиницы с Тверской до Арбатского переулка приблизительно года полтора. «Нет, барин, прошло время за полтиннички-то ездить, – говорил извозчик, – сказывают, в Петрограде волю взяли. Не нынче – завтра в Москве волю будем брать. Видишь ты – городовой стоит. Подъехать к нему, сукиному сыну, и кнутом его по морде ожечь. Погодите, барин, со всеми расправимся».
В дверях столовой Ивана Ильича встретила Даша. Она была в белом халатике, пепельные волосы ее были наскоро сколоты. От нее пахло свежей водой. Колокол времени ударил, время остановилось, – мгновение начало раскрываться. Все оно было наполнено Дашиными словами, смехом, ее сияющими от утреннего солнца, легкими волосами. Иван Ильич испытывал беспокойство даже тогда, когда Даша уходила на другой конец стола. Даша раскрывала дверцы буфета, поднимала руки, с них соскальзывали широкие рукава халатика. Иван Ильич думал, что у людей таких рук быть не может, только две белых оспинки выше локтя удостоверяли, что это, все-таки, человеческие руки. Даша доставала чашку и, обернув светловолосую голову, говорила что-то удивительное и смеялась.
Она заставила Ивана Ильича выпить несколько чашек кофе. Она говорила слова, и Иван Ильич говорил слова, но, очевидно, человеческие слова имели смысл только во времени, движущемся обыкновенно – сегодня же в словах их смысла не было. Екатерина Дмитриевна, сидевшая тут же в столовой, слушала, как Телегин и Даша, удивляясь восторженно и немедленно забывая, говорят необыкновенную чепуху по поводу кофе, революции, какого-то кожаного несессера, срубленной в Петрограде головы, Дашиных волос, рыжеватых, – как странно, – на ярком солнце.
Горничная принесла газеты. Екатерина Дмитриевна развернула «Русские ведомости», ахнула и начала читать вслух роковой приказ императора о роспуске Государственной думы. Даша и Телегин страшно этому удивились, но дальше читать «Русские ведомости» Екатерина Дмитриевна стала уже про себя. Даша сказала Телегину: – Пойдем ко мне, – и повела его через темный коридорчик в свою комнату. Войдя туда первая, она проговорила поспешно: – Подожди, подожди, не смотри, – и что-то белое спрятала в ящик комода.
В первый раз в жизни Иван Ильич увидел комнату Даши – ее туалетный столик со множеством непонятных вещей; строгую, узкую, белую постель с двумя подушками – большой и маленькой: на большой Даша спала, маленькую же, засыпая, клала под локоть; затем, у окна – широкое кресло с брошенным на спинке пуховым платком.
Даша сказала Ивану Ильичу сесть в это кресло, пододвинула табуреточку, села сама напротив, облокотилась о колени, подперла подбородок и, глядя, не мигая, в лицо Ивану Ильичу, велела ему говорить, как он ее любит. Колокол времени ударил второе мгновение.
– Даша, если бы мне подарили все, что есть, – сказал Телегин, – всю землю, мне бы от этого не стало лучше, – ты понимаешь? – Даша кивнула головой. – Если я – один, на что я сам себе, правда ведь?.. На что мне самого себя? – Даша кивнула. – Есть, ходить, спать, – для чего? Для чего мне эти руки, ноги?.. Что из того, что я, скажем, был бы сказочно богат… Но ты представляешь – какая тоска быть одному? – Даша кивнула. – Но сейчас, когда ты сидишь вот так… Сейчас меня больше нет, я не ощущаю себя… Я чувствую только – это ты, это счастье. Ты – это все, ты – моя… Гляжу на тебя, и кружится голова, – неужели ты дышишь, ты живая, ты – моя?.. Даша, понимаешь что-нибудь?
– Я помню, – сказала Даша, – мы сидели на палубе, дул ветерок, в стаканах блестело вино, я тогда вдруг почувствовала, – мы плывем к счастью…
– А помнишь, там были голубые тени?
Даша мигнула, и сейчас же ей стало казаться, что она тоже помнит какие-то прекрасные, голубые тени. Она вспомнила чаек, летевших за пароходом, невысокие берега, вдали на воде сияющую солнечную дорогу, которая, как ей казалось, разольется в конце в синее, сияющее море-счастье. Даша вспомнила даже, какое на ней было платье… Сколько ушло с тех пор долгих лет… Она взяла руки Ивана Ильича, спрятала в них лицо, вздохнула, и он между пальцами почувствовал капли слез.
Вечером Екатерина Дмитриевна прибежала из Юридического клуба, взволнованная и радостная, и рассказала:
– В Петрограде вся власть перешла к Думскому комитету, министры арестованы, но ходят страшно тревожные слухи: говорят, государь покинул Ставку и на Петроград идет на усмирение генерал Иванов с целым корпусом… А здесь на завтра назначено брать штурмом Кремль и арсенал… Иван Ильич, мы с Дашей прибежим к вам завтра с утра смотреть революцию…