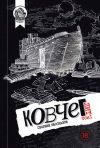Текст книги "Перевоплощение"

Автор книги: Алер
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Сон
3
Сделав правильный шаг, Констант изменил пространство, точнее, пространство подчинилось очередному таинственному закону, открыв невидимый коридор, если позволительно назвать коридором прозрачный туннель лишь с одной раскрашенной (изумрудным) гранью. Это выглядело фантастично, яркая зелёная полоса прорезала унылую красную пустыню, то уходя в толщи песка, то возносясь над ними, нисколько не смущаясь невозможностью самой конструкции, где верх и низ попеременно менялись местами, а песок вдруг становился твёрдым, образуя своды над удивительной дорогой, или исчезал вовсе, позволяя этой дороге парить, будто внутри пустыни, но без всякого на неё намёка. Всё, всё вокруг кричало об иной геометрии, иной возможности, об ином мире.
Существование данного пути спорно, поскольку видели его немногие, а помнят – и того меньше, но он есть, в череде таких же межпространственных сообщений, пронизывающих некоторые из материальных миров, где есть физическое тело, и неважно, насколько оно прозрачно. Интересно и то, что эти трассы не стабильны, а существуют как вероятности, реализуемые степенью допуска ищущих их и необходимостью перемещения по заданным пространственным координатам, время не учитывается, так как перемещение во времени требует своего механизма, а время на перемещение не требуется вовсе (условно). Тем не менее путь имеет прочерченную траекторию, а не точку входа и точку выхода, видимо, так проще, видимо, устройство модели телепортационного типа не давало принципиальных преимуществ, а излишества в таком деле отвергаются.
Ступив на дорогу, он успел лишь почувствовать, как вспыхнуло красное облачение мира, тут же обернувшегося в зелёное, и всякое движение прекратилось – статика, стоп-кадр, тело тоже окаменело, и ничто вокруг не желало переменить своего положения. Он принялся наблюдать, поскольку осмотреться в его состоянии звучало как издевательство. Первое, что обрадовало, – цвет неба и солнца в традиционном исполнении, собственно, этим радость и ограничилась, если не считать смены общего цвета. Остальное удивило. Вот деревья, их тут полно, но они подозрительно малы, примерно с него ростом, рядом небольшой водоём, практически лужа, а на земле нет травы – вместо неё сплошной ковёр. Ковёр зелёный, но неестественно однородный, а на нём маленькие проплешины (как поляны), невнятные утолщения (как кусты), или это такая трава (?), дико, но у всего какой-то карликовый размер, налёт глупой кукольности, декоративности, точно воспоминания стареющего идиота о пластмассовом детстве. Это верно ещё и потому, что окружение оставалось безжизненным, лишённым смысла, лишённым подлинности, здесь нельзя говорить даже о фотографической статике, скорее, это неудачная картина (точнее, рисунок) неизвестного примитивиста (или нездорового ребёнка), не ставшего изображать всяких зверушек, птичек, бабочек, будто не желая наполнять звуками и шорохами свою убогую идиллию. Правда, имелись следы чьего-то присутствия, но слишком мимолётные, совсем эфемерные, подлинность которых подтверждалась лишь летающими вокруг него сущностями, неразличимыми и неведомыми, имеющими немыслимую, невозможную скорость. А в остальном – настоящий покой. Но безмятежность походила и на тюрьму, делаясь нестерпимой что, наконец, породило необычное ощущение сверхбыстрого нарастания напряжения (как реактивный двигатель) и болезненного, с криком и кровью, ожидания отрыва… и это произошло.
Рядом сидела птица, точнее, она сидела в его волосах, ничуть этого не смущаясь, как и не причиняя особых неудобств, разве что излишней суетливостью и шумливостью, но пока это радовало, как радует пробуждение после плохого, но не забытого сна (символично?). Поблизости были и другие птицы, и не птицы, и тоже были, двигались, издавали звуки, освобождая от меланхолии обездвиженного и одинокого истукана. Впрочем, последнее осталось верным и в новом состоянии, что испортило общее удовольствие от произошедшей перемены, это только начало, пройдёт немного времени, и он начнёт беситься от невозможности получить хоть каплю того покоя и умиротворения, от которых недавно отказался… Птица становилась невыносимой, затеяв какой-то дурацкий спор со своими товарками, как он мечтал отряхнуться, или взмахнуть руками, или сделать ещё какой-нибудь жест протестующего человека, но в ответ лишь щебет в волосах. Нет, уже не щебет, птиц он видеть перестал, то мухи, многочисленные гадкие мухи, сводящие с ума своим монотонным жужжанием и маниакальной привязчивостью, от них и отмахнуться-то сложно, если птиц достаточно прогнать, то мух требуется убить. Но он не убил, он убежал, при помощи того же напряжения, вновь сделавшего его частью чего-то целого, маленькой и очень плотной частью, ставшей вдруг подвижной, способствуя достижению следующего состояния.
Показалось, что ничего не произошло, но тут его подхватило и швырнуло в неведомую бездну, закружилась голова, исчезло чувство реального (тот ещё юмор) и он закрыл глаза, чтобы, открыв их через мгновение, увидеть бабочку. Право, на такую бабочку грех не посмотреть, тем более, она никуда не улетала и что ещё чуднее – висела в воздухе, просто висела, расправив крылья, никакой паутины, никакой веточки и никакого движения, энтомолог принялся бы описывать её расцветку, но Констант не энтомолог, а потому определил бабочку как пёструю. Гораздо больше его занимал размер – с него самого – и то, что это не выглядело невероятным, подумаешь, бабочка величиной с человека. Забавно удивляться тому, что не особенно удивляет. Неподвижность насекомого наскучила, и взгляд переместился на что-то совсем большое, оказавшееся деревом (!), среди таких же великанов – мир переменился, из игрушечного он стал громадным, дремучим и первобытным, при этом застывшим, как поддавшимся действию неведомого, но зловредного (отчего-то именно зловредного) заклинания. Замерли птицы, не шелестели листья, передохли мухи (хочется верить), и растерялся ветер – всё готовилось ожить, но не оживало, ожидая тайного освободителя, смеющего противостоять грозной неведомой воле. Сказки. Действительность проще и обыденней (если речь о действительности), и это начинает проявляться.
Живое (речь о живом) обладает своей частотой, ритмом, взаимодействующим с полевой структурой мира, позволяя проводить безошибочную идентификацию объекта, в том числе регулируя и его метаболизм (так, частный случай), при трансформации меняется ритм, меняется метаболизм, а соответственно и представление об окружающих предметах, причём скорость смены ритма – одна частотная модуляция, то есть мгновенно. Констант догадался что, оставаясь с сознанием человека, он постоянно менял тело, тем самым переключая параметры пространственной и временной оценки, это интересный опыт, где изменения корректировались под влиянием некоторой постоянной величины, и эта величина – срок его жизни (!). Разумом он понимал, что эта цифра известна всегда, известна ещё до рождения – встречное время информативно, главное, уметь снимать информацию – и даже идея об изменении первоначального срока (что не редкость) не особенно смущала, время отражает и многовариантность, но теперь он видел теорию в действии и готов поклясться, что не во сне…
Он определил, что первоначально оказался деревом, причём очень древним деревом, каких и быть-то не должно, а если ещё не древним, то со значительным сроком предстоящего существования. Отсюда и видимые масштабы, и невидимые сущности – конечно, птицы, насекомых время растворило, немного посчитав, Констант ещё раз ужаснулся времени, отпущенному этому дереву (для простоты счёта себе он отвёл сто лет). После перехода он стал веткой кроны, имевшей иное время жизни, но, как ни странно, сравнимое с его временем, пугаться здесь или восхищаться (?), немного подумав, он согласился, что ста лет не проживет (ветки ломаются), но и молодым не умрёт – уже неплохо. Настоящее же положение Константа говорило о мимолётности бытия, о такой короткой жизни, что разгадка удалась не сразу, прежде он ещё раз посмотрел на бабочку и убедился, что она ни на микрон не изменила своего положения, подтверждая, что жизнь его меряется на секунды. Крона состоит из листьев, а листья, отрываются и падают, пребывая в этом состоянии лишь на время падения, здесь разная логика, но важно то, что после приземления произойдёт последний переход, фатальный для него. Констант посмотрел на вероятное место посадки и понял: приземление отменяется – его ждёт приводнение, но это не в его власти. Осталось решить главную задачу – как ускорить действительность, не причинив себе вреда, перспектива остаться падающим листом, до конца жизни разглядывая бесполезную бабочку, привлекала мало.
Конечно, решение недоступно, но ему помогли (кто или что – неважно, вернее всего помог он сам – много всяких способов, об одном уже говорилось, а как откликнуться на свой же зов (?) – так ведь у него высший допуск, кроме иных способностей).
Бабочка чуть шевельнула крыльями, стараясь сложить их над собой, она прилагала титанические усилия, противостоя вязкой среде, сделавшей воздух осязаемым, движение повторилось, ещё и ещё раз, достигнув, наконец, привычной лёгкости и плавности. Бабочка улетела. Вода приближалась, на ней всё внимание, но не в смысле будущего, а просто как зрелище – вон расходящиеся круги, созданные рыбой, а вон вертолётом висит стрекоза, самая обыкновенная стрекоза, а вон бежит водомерка, совсем близко…
«Кожа на берегу, но надевай в воде».
Опять голос, но он сейчас не занимал Константа, вновь обретшего себя, плывущего как человек, дышащего как человек, да и выглядевшего… похоже на человека-невидимку, попавшего под дождь, как в кино. Утолив жажду движения, он увидел свёрток – на берегу у самой воды, белый на зелёной траве, окаймлявшей это действительно небольшое озеро. Свёрток оказался обыкновенной простынёй (выглядел как простыня), но, помня предостережение, облачение (вернее – завёртывание) Констант произвёл в воде. Как результат – вместо простыни – тело. На берегу он себя разглядел и пришёл к выводу, что данный образ ему незнаком, но в чём отличие, вспомнить не сумел, выходит, он забыл, как выглядел раньше, а значит, мог выглядеть и так. Гадать без резона, и Констант пошёл через парк, ничем не примечательный парк, ни намёка на необыкновенность, даже статуя имелась, изображавшая то ли водяного, то ли исторический персонаж, но вернее первое, так как постамент частично уходил под воду.
Слишком мало эмоций, слишком много созерцания, а тут ещё странный мысленный диалог, с тем, кто не желает идентифицироваться:
– Теперь ты постиг цели, ради которой призван?
– Да.
– Тебя не смутило испытание?
– Теперь нет.
– Оно не предполагалось.
– Ошибка?
– Влияние. Вместо статуи ты вышел в дереве.
– Почему я им стал?
– Здесь нельзя без тела, защищает только вода, куда попадают из статуи.
– Кто мой противник?
– Богоборец, но влиял не он.
– Кто ещё?
– Не думай о нём, пусть он думает о тебе.
– Когда появится Богоборец?
– Скоро, но не жди его, он избегает прямого контакта, в поединке ты сильнее.
– Когда мне идти?
– Сейчас, и возьми плащ Константа, теперь он твой.
Как и в первый раз, туннель появился ниоткуда, но грань светилась тёмно-красным, перед тем как сделать шаг, он подумал: «Почему я сказал, что знаю цель, или это не я, или я, но в другое время?».
Между времён
2
Зачем всегда искать причину, оценивая каждый шаг, считая разум за вершину, откуда разгоняют мрак; зачем пытать себя сомненьем, оценивая каждый шанс, зачем дряхлеть над постиженьем того, что ведомо до нас? Нельзя читать в пустой тетради, выискивая тайный знак, есть то, что предано бумаге, но всё прочесть нельзя никак. То, что найдут, давно открыто, то, что хотят, уже дано, пусть многое надёжно скрыто, оно не зря запрещено. И глядя из иных пределов на вопрошающий изгиб просящих радости для тела, забывших радость для души, хочу кричать, хочу стараться, чтоб донести простую весть: коль хочешь лучшего дождаться – прими сперва всё то, что есть.
Я здесь очень давно, все привыкли, что я здесь дольше других, но я действительно дольше других и всегда был дольше других, хотя я не первый, в том, известном понимании, я просто появился раньше первого, а сошёл позже, много позже. Кому из нас повезло больше? Повезло обоим, потому что Он любит нас обоих, нас всех, находящихся в этих воздушных чертогах. Удивительно, но в этом месте никто не подвержен скуке, хандре, апатии, несмотря на груз тысячелетий, измеряемый, конечно, не годами, а той священной оценкой, сейчас видимой и осязаемой, но не там, где нужнее всего знать, знать и следовать, чтобы исправлять и просветляться. Я вижу и чувствую, что мой груз неизменен, ничего не сделано из того, что должно. Счёт – не на малое, счёт – на всё. Похоже, помощь признана явной, и от этого дополнительные сложности, то есть противная сторона получает новые шансы, через которые принуждает меня к очередному вмешательству, я иду по краю, сужая свои возможности лишь до одного верного варианта, это почти поражение. Но груз неизменен, тяжесть не прибавилась (!), значит, мне по-прежнему верят, меня по-прежнему любят. Хорошо, я отстраняюсь, я прекращу вмешиваться, прекращу помогать… себе, но не другим. Я помню, и эту память не стереть, ту всеохватывающую радость, заполнившую меня после появления здесь, помню ощущение великой воли и собственного желания распорядиться этой волей и то, как я распорядился. Когда мне удалось подняться над водой, иные пребывали в прекрасном сиянии дел своих, вознёсшись так высоко, что допустимо лишь знать об их существовании, знать, а не видеть, но они любили меня, любили и ждали моего взлёта, ждали завершения миссии, завершения дела, где быть первым – это уже миссия, уже дело.
Мне не велели думать о том, кто сам думает обо мне, но это там, в земной жизни, а здесь я знаю своего врага, знаю всегда и знаю почему. Мы много пересекались, и он старался доказать, что сильнее меня, пусть так, он много древнее, но не из самых. Обычно он побеждал, выбирая жестокие способы, после чего я оказывался в кромешной тьме, готовясь распластаться в одном из маломерных миров возмездия, но он нарушал законы, и мои поражения становились его поражениями, не принося, впрочем, победы и мне, и так из раза в раз.
Жизнь 1098-я
Стихающий вечер отползал куда-то в сторону, не замечая одинокого молодого человека, но обнимая других, идущих вслед, нашёптывая им заманчивые предложения и комплименты. Разговоры за спиной становились возбуждённее, громче, а потом уносились вперёд, оставляя тишину безнадежно отставшему, убегая навстречу смеху и страсти.
А дома ужин при свечах, чтобы не жалить ярким светом скользящие воспоминания, которые как призраки, пленяясь сумраком, опутали сознание. И он дремал, поникши в мягком кресле, и слушал ночь, которая душила редкий звук, беспомощный и бесполезный, рождая странную симфонию свою – тоски и мира. Но, не успев плениться наважденьем, очнулся вдруг, затем, дабы коснуться поражений своей недолгой жизни, возможно, навсегда закрытой от других. Альбом поможет в этом, там каждое хранимое мгновение, каждая фотография устремлялись куда-то внутрь самих себя, порождая необычное ощущение, когда недоступно движение, но легко вписать бесконечность в выхваченный, ничтожно малый отрезок жизни.
Он листал, словно дышал, вглядываясь в напряженные сосредоточенные лица; он листал, словно бежал, выбирая лишь открытые улыбки, но и на них не мог остановиться; он листал, словно писал эту выдуманную судьбу, потому что помнил, как пытался принять серьёзный вид, когда хотелось веселиться, или, наоборот, нелепый смех сквозь желчный шёпот – удавиться б…
Так прошлое мы предаем, стирая грани меж времен своим желанием быть лучше. И породив ненужный страх, от воли собственной устав, мы забываемся…
Прошло с полчаса, он задремал, но сон сорвался, он встал, отдёрнул штору и посмотрел на город из окна. Пробило полночь. Как странно, каждый новый день берёт начало ночью и, блуждая в её чреве среди надежных, но столь далёких звёзд, обречён видеть всего-то на шаг вперёд и безропотно ёжиться от холода. С рассветом же обретаешь смелость идти, не боясь глупо покалечиться, но тепла надо ждать, ждать полдня, ждать полжизни. А когда достигнешь желаемого – разучишься ценить радость, а потом не сумеешь отвратить нового вторжения.
Конечно, часто обманывают наступающее равнодушие глубоким сном или удовлетворяются искусственным освещением, укрывшись в тёплой квартире, а по утрам окунаются в плащи и свитера, начиная дышать и распрямлять онемевшие спины, лишь поверив в смятение неудач. Не слишком ли дорого? Ужели все лучшие месяцы и годы должно бросить в топку преодоления, а, достигнув успеха, получить седую голову, слабые нервы, шалящее сердце, плюс целый ворох иных всевозможностей. Но самым величественным подарком окажется разрушительное отчаяние, обезличивающее все блага и аплодисменты, уже бесполезные и во многом неприятные. Будет до боли жаль потраченных усилий, но, видя перед собой пустоту, как отречься, как повернуть время, коль близок страх перед осыпающейся, зарастающей травой могилой. Да, кричишь, да, мечешься, да, играешь роль до конца, но и в нём не сыщется искренности, увы, мёртвому часто говорят слова мнимой скорби, и, скрючившись в роскошном гробу (финал – всегда абсурд) и притянув большой хоровод людей, вершишь обычный ритуал.
Мир был цветным, но кто лишил его окраски, запечатлев на киноплёнке, не потому, что резь в глазах от хаоса соцветий, а потому, что ненавистна их игра, и страшно… страшно умереть. Но разве жизнь лишь повод для надежды, когда ползёшь, не видя чёрной крови, но чувствуя, куда она стекает, чтобы платить за это откровенье пока еще нетронутым сознаньем. А много ль раз окажешься спасённым от всех ударов ярости и боли и не шагнёшь ли в пропасть, где безумство? Вот если б изменить течение жизни, сейчас, пока не поздно… вот если б стрелку часовую рвануть вперёд, делений на двенадцать и полдень обратить началом суток.
Глупо желать будущего, старея и слабея по дороге, лучше сегодня, сразу, тогда рассвет судьбы, рассветом жизни станет. А остальное не находит страха, ведь ликовать лишь половину срока…
Это рубеж, за которым бессвязное бормотание обретает форму. Это рубеж, за которым начинается сказка, ставшая явью, воскрешением и болью. Это рубеж ослепления и приглашения смерти. Скорее, к столу, гости собрались и желают отведать лакомство из хозяина. Конечно, тогда он говорил слова, которых не знал, а если знал, то не понимал их значения и смысла, говорил слова на чуждом для себя языке. Знание подошло очень близко и вошло в него, знание вообще рядом с нами, вокруг нас. Он говорил, и это становилось похоже на заклинание, на какой-то порядок, на какое-то требование, на какой-то призыв… время ослабило объятия… и минул полдень.
Представьте, что сидите на берегу реки, причём противоположного берега не видно. Собственно, почему реки, а если это озеро, море, океан? Вокруг никакого движения, а воздух и вовсе исчез. Или его не было? Вода застыла, теперь это не вода, предположим, это лёд. Впрочем, нет, это не лёд, это стекло, под которым скрыта бесполезная картинка. Или это экран, и следует предположить стоп-кадр? (Что? Это из другого времени? Наплевать. При чём здесь время. Здесь нет времени) Но кто включил этот стоп-кадр, и при чём здесь берег? Так-так, ещё предлагалось что-то представить… Ах, да, экран и картинка, и что же там…
Человек лежал на траве. На искусственной траве, среди искусственных цветов и нарисованных деревьев. Человек смотрел в небо, оно настоящее. Человек видел звёзды, белым днём, но не это новость, а то, что там кто-то был. Человеку важно узнать, кто это, и он закрыл глаза…
Одинокая незнакомая фигура оцепенела среди звёзд, опираясь на что-то чёрное, бескрайнее и твёрдое. А рядышком дверь, просто дверь, сделай шаг, протяни руку и она откроется. Но это означает поддаться чувствам, подсказывающим выход, а зачем уходить, если только пришёл. Но закрытая дверь притягивает любопытство, а шаг – слишком мало против соблазна, шаг – и ты на поляне, если сидишь, поднимись и подойди к берегу, вот и пульт с манящим призывом «play», слегка надави на кнопку. Подул ветерок, верно, кто-то добрый пожалел покойника и включил вентилятор.
Молодой человек двадцати лет (необязательное совпадение) расположился в уютном кресле, среди привычных вещей и знакомой обстановки, но в чужой комнате. Это совершенно точно, нет окна, нет двери и нет одной стены (архитекторы рыдают – и дверь, и окно на одной плоскости). Наверно, стена далеко и её не видно, а, впрочем, какая разница, никто не требует идти и выяснять. Ему безразлично, где он, наверно, появилось понимание того, что объяснение не заставит ждать, иначе какой смысл, а смысл обязателен – слишком целенаправленное перемещение. Кем?
Тем, кто пришёл из пустоты – оттуда, где нет стены, где нет окна, где нет двери – пришёл и сел напротив, в такое же кресло. Он молчал и смотрел своими чёрными глазами, он ждал, ритмично поглаживая чёрную бородку. Юноша тоже ждал, не чувствуя ни важного, ни должного – ни любопытства, ни страха. Гость достал чёрную папиросу из чёрной коробки и прикурил от чёрной зажигалки (воплощения подчас меняют вкусы), жаль, пламя не идеально чёрное, а с красными прожилками, но всё равно ирреально (кто такое раньше видел?).
– Я думаю, мы договоримся, – неожиданно заскрипело в голове молодого человека. – Я Раанг, один из меньших Гагтунгра, служитель ипостаси его – Гистурга.
– Я звал тебя, – вот так неожиданность. Но это говорил не молодой, ленивый оболтус, что-то диктовало чужую волю, и приходилось подчиняться.
– Я знаю. Но ты должен понять суть происходящего, понять сам, и вот тебе подсказка…
Масса исказилась, она увеличилась многократно, он на мгновение осознал все свои многочисленные повторения, но, увидев и услышав, тут же ослеп и оглох, захотев понять и запомнить, невольно погасил чувства, пытаясь воссоздать открытое безбрежие. Минуты, часы, дни без всякого сна, а тот всё сидел напротив и ждал. Он знал, что нельзя понять, поэтому позволил увидеть, а увидеть – не значит понять, но значит допустить, что понял.
Когда удалось очнуться – удалось и вернуться, но возникло слово «почти», оно мешало, оно сковало, требуя оглядеться, не подавая признаков пробуждения, и взгляд нашёл искомое – записную книжку, из-под которой исходило странное мерцание. «Прятки» окончены, он отодвинул книжку, а там… Господи! Маленький нательный крестик и удивительный нежный свет, этот крестик был скорее вещью, чем символом, потому и попал сюда:
«Что же делать? Кто я? Где я? Ах да, дверь, вход – он же выход, меня пытаются вывести отсюда, надо только надеть крестик и все кончится», – рука потянулась к нему… «Стоп. А куда я вернусь? В прежнюю суету?.. Нет», – он отдёрнул руку.
Боль расколола голову пополам, а страх разорвал на меньшие части. Он увидел перед собой себя. Никакого обмана, настоящий двойник (не хватает таблички: «Руками не трогать») точно напротив, улыбается уголками рта, как с рекламного плаката: спокойный взгляд, правильные черты лица, идеально уложенные волосы, красивый костюм и так далее. Сомнения подавлены посредством предъявления зеркала, теперь они отражались друг в друге, выделяя лишь вещи, отличающие их.
Резкий удар в голову и снова боль, но другая, обжигающая (выжигающая?), а следом ритм, ритм, вбивающий слова прямо в мозг:
«Прогони! Забудь! Не верь! Боль! Душа! Смерть!».
«Нет!» – он понял – влияние исходило от маленького крестика, ставшего окном в призрачный мир, пусть где-то светлый и радостный, но сейчас не отпускающий и терзающий (Господи! Прости неразумного!).
Крестик пылал, божественный огонь – последняя защита, но мыслимо ли сомневаться, когда постигнут путь, ведущий к манящему благополучию. Молодой человек накрыл крестик записной книжкой, накрыл сам, разметав огонь, брызнувший миллионом отражений в закрывшихся глазах, но нет восторга. Есть скрытая боль, глубокая тоска, есть нечаянное касание откровения, не постигнутое и канувшее в грядущее. Ночь нескончаемо длинна, день невообразимо далёк.
– Тебе ненавистны будни, – ночной пришелец «не заметил» борьбы и раздвоения. – И правильно, пусть жизнь сольётся с праздником. Ничего не спрашивай, только запомни – это шествие не вечно, пройдет двадцать пять лет, и великолепие выбросит тебя к своему подножию, карабкайся на уже недосягаемую вершину. А саму смерть увенчают унижение и ненависть беспощадного мира… итак, ты согласен…
…И минул полдень.
«Я потопил этот таинственный мираж, он перестал манить, бесследно исчезая в пучине громоздящихся желаний. И из воды, дымящейся от зноя, ступил на берег, юностью дышащий, дарованный мне крепостью от страха. Я рвал цветы для радостного вздоха, но тяготился видеть увяданье и поскорее оставлял их в прошлом, лишая стати новые создания. Мне пели облака и реки, и я летал, и плавал, словно голос, притягивая новые успехи. Здесь числа не стыдили, и не били, и, завершаясь множеством нулей, являлись тем, чем изначально были – сравнением для памяти людей. Так в гуще тем, под пылью золотой, я ликовал, не слыша воя ветра, что выстроил дни страшной чередой, унесшие на крыльях год мой первый».
Да, единение с мечтой вознесло на гребень, казалось, недоступный. Возможно ли предположить столь яркое будущее, вглядываясь из тусклой полувоенно-полумирной реальности конца гражданской войны, любая из тогда нарисованных картин, сейчас не более чем заштрихованное воспоминание. А ведь история бы повторилась, только значительно позже, не будь этого сдвига во времени. Кто он теперь? Тот старик, познавший ток лет и после долгих скитаний получивший, наконец, признание – нормальная человеческая судьба, или глубокомысленный юнец, странным образом вылупившийся посреди жизни и имеющий наглость обращать на себя внимание и даже наставлять идущих рядом, воспользовавшись их удивлением и доверчивостью.
Но музыка? Разве, оставаясь в настоящем, ажурное, воздушное, радостное звучание не сломалось бы долгими муками преодоления и продвижения, неужели стремление и предначертание выдавливают из человека память собственной крови и, сбрасывая бремя странствий, позволяют войти в элегию. Или что должно искромсать невинную пока душу, обрывающую на людей невозможную тяжесть, граничащую с сумасшествием – взрыв эмоций, уничтожающий мелодию, гармонию, несущий лишь нестерпимую боль, вдруг воплощённую и физически, а следом – страх, кидающий в первобытную истерику.
«Мне говорят – мэтр, а я никто, говорят – художник, а ещё очень далеко, меня приглашают и выбирают, а я прихожу и соглашаюсь – я этого хотел».
Но, забыв на миг вызванную неуверенность, увидим роскошь и комфорт, положение и защищенность, деньги за работу, которая нравится, – совсем неплохо, особенно, когда взрастил дерево поклонения сим идеалам, видя их гарантией счастья.
Если ставишь себе выбор: мир или забвение, обычно рассчитываешь на мир, но всегда получаешь забвение, подобной власти не существует, поскольку угнетающее «вечно», подавляет вдохновляющее «некоторое». Надежда на возможность объединить молодость с плодами изнурительной борьбы убедила отбросить сомнения в воровстве, предлагая на всё смотреть сквозь очки займа. Но придёт время, и будут ли силы выдержать давление? Ведь есть и альтернативный вариант. А годы шли.
«Кем я буду? Безродным сморщенным старцем, одиноко стучащим клюкой и живущим на подаяния? И рвань – моя одежда, и грязь – моё жильё, и плесень – моя пища, и больше ничего. А плата – униженье и отнятая честь, я превращу стремленья в желание поесть… Меня забудут? Те, что носили на руках и на словах, те, что влюблялись в мою музыку и тело, и как поймут звучание концертов и сюит, не помня автора, чьи ноты предадут отца, довольные начертанной судьбой, и то, что я живой совсем не интересен. Мгновение слепое, сгиб листа, в осадке равнодушие и пустота в кармане тряпки – пиджака. Да. Так и будет».
Порой, погружаясь в работу, ему удавалось отстраниться от нашёптываний смерти, в эти часы и окружающий комфорт исполнял истинную функцию, переставая бесцельно блестеть. Но как он притягивал других, как манил их, не знающих и не дошедших:
«А, даже лучше, пусть стремятся, грызутся из-за мнимого благополучия, они не заслуживают правды, и их не жаль. А как придётся, в той, грядущей жизни, я посмеюсь, упиваясь их притворным спокойствием, прикрывающим ночные вопли и бессонные кошмары. Но никогда не позавидую ни единому жесту, улыбке, счёту».
Впрочем, полно сравнивать эту драму с непрерывающимся самоистязанием. Случалось и редким вспышкам света пробивать мрак, проявляя те самые маленькие радости, имеющие причастность к каждому из нас. Закройте глаза, спрячьте мечты, охладите страсти, заприте память, и тогда удастся услышать одно чудное наваждение, таковым и растаявшее навсегда.
…Вот он, грустный голос рояля, повествующий о чём-то малоинтересном и скучном, но особенно не досаждающий, и, может быть, чья-то чувствительная душа поплачет вместе с ним. Нет, смахнем слёзы, гул литавр заставит вздрогнуть и забыть – неся новые краски. А рояль уже и не пытается удержать прежнюю мелодию, слишком простую и монотонную, чтобы следовать ей постоянно, он ищет новые неизведанные созвучия, но, слишком часто обращаясь к крайним регистрам, переполняет свои ощущения излишней нервозностью и сентиментальностью, срываясь порой к хаотическим нагромождениям. Литавр недостаточно, вступают многочисленные колокольчики, треугольники – всё, что звенит и предвещает, готовя некую неожиданность, но ничего не происходит, смолкает перестук и перезвон, вновь оставляя нас со знакомым роялем, однако от былой сбивчивости не осталось следа, словно возникшее знание и обретённая уверенность ведут музыку по строго очерченному пути. Новый круг, и внутри внешне нехитрого построения улавливается масса подголосков – живописно оттеняющих одинокую меланхолию – это и льющаяся песнь медных, и мягкий завораживающий ритм гобоя, и лёгкое дыхание флейты от чьего-то таинственного присутствия. Очень осторожно его начинает приоткрывать скрипка, и мы прекрасно понимаем подобную бережность, зная, как сами создаём идеалы, боясь малейшего неверного порыва. Постепенно туман рассеивается – воздушная игра, чистые и нежные линии выдают женственность и доверчивость плывущего образа. Он приближается, становится прозрачно осязаемым, тянется к тебе, не признавая мимолётности встречи, но какая-то условность мешает дальнейшему развитию, внося свой диссонанс в общую ткань сюжета. Действие смолкает на полуфразе. Короткая пауза включает струнную группу, обрамляемую рваным ритмом контрабаса, и теперь отчётливо воспринимается надежда, ожидание и вера в преодоление обязательных препятствий. В принципе, сменив тональность, можно обратить надежду в тревогу, и тогда финал представится по-другому (по-настоящему). Вот, все инструменты выравнивают ход относительно друг друга и сплетаются в едином порыве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?