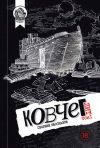Текст книги "Перевоплощение"

Автор книги: Алер
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Диалоги
3
– Мы остановились на формировании личности в рамках развития общей теории. Формирование личности, на мой взгляд, процесс предопределённый, субъективный, хотя и требующий среды, и высоко результативный в обозримой исторической перспективе. Начало сумбурно, но я уточню.
– Предопределённый – значит закономерный, так?
– Предопределённый – значит неизбежный, кармичный, а потому и закономерный, ты права. Неизбежность в том, что личность обязательно появится (понятно как – родится ребёнок), если есть предпосылки её возникновения, а предпосылки есть всегда, в любую единицу времени существования общества. Таким образом, неизбежность исторична, но не избирательна, ребёнок-то пока самый обыкновенный, без нимба и прочих атрибутов исключительности. Кармичность в том, что это за ребёнок, с какими способностями, грузом ответственности и мессианства пришёл он в мир, в какую среду попадёт при рождении и, наконец, какая ему уготована судьба – в целом, потому что выбор стороны силы (добро, зло) остаётся за ним. Следовательно, кармичность избирательна, определительна и судьбоносна. А закономерность в том, что ребёнок обязательно пройдёт путь формирования личности, обязательно начнёт развиваться как личность, даже если об этом никто не подозревает, а вот станет или нет – тема отдельного разговора.
– Всё-таки предопределённость не настолько предопределена, как ты думаешь, я не верю в безупречность этого алгоритма (неизбежность – кармичность – закономерность), в то, что не будет сбоев, а ведь сбой, в твоём изложении, это торможение развития.
– Не надо верить, очевидно, что сбои были, есть и будут, а торможение развития происходило множество раз, и это нормальный исторический процесс. Безупречность алгоритма в том, что предопределённость имеет историческую протяжённость и не меняет общей тенденции под влиянием частных случаев, этих самых сбоев. Причём суть – в центре обозначенной цепочки, а края (неизбежность и закономерность) – связующие звенья с соседними категориями. Но говорить о значении мировой кармы, пусть и в данном контексте, мне кажется пустым занятием, потому что переоценить это трудно (или невозможно), а всякая недооценка уже кармична по своей сути. Зацепившись за закономерность предопределенности, приходим к субъективности процесса формирования личности, иначе не получится, иначе всё рухнет. А субъективность – это доминирующее влияние самой личности на своё развитие, то есть саморазвитие; противоречий нет, поскольку личность (как и индивидуальность и, собственно, человек) категория двойственная, не монистическая, а потому способная к самостоятельному развитию. Фактически саморазвитие – процесс непрерывный, имманентный, но качественно неустойчивый, именно качественно, что отражается на результатах последующей деятельности личности. А раз так, необходима среда, способная, пусть частично, нивелировать фактор неустойчивости; среда, обладающая общественным статусом (исходя из общественной полезности личности) и способствующая всестороннему развитию (осуществляя качественное воздействие), эта среда, а точнее, категория – воспитание.
– Ага, субъективизм в объективных условиях, скромно названных средой. Песня! Зачем маскировать приоритет воспитания в процессе формирования личности, когда сложно поверить, что заложенные способности выявятся и сформируются самостоятельно. А если нет? К чему рисковать? Лучше развивать, вместо угадывания личности в кругу индивидуальностей, угадывания опирающегося на неясные предчувствия и косвенные проявления скрытых способностей (иногда дремлющих подолгу), по-моему, смысл в параллельном развитии всех индивидуальностей, в равном воздействии на них, для чего и призвано воспитание.
– Воспитание не приоритетно, поскольку воспитание, как общественная категория, насильственно и искусственно, оно не диалектично, что видно и из модели формирования личности, где воспитание совсем не следует из предопределённости, если рассматривать общий случай, то воспитание, не являясь диалектической категорией, не является и исторической. А множество частных случаев укажет, что воспитание, как комплекс мер и приемов, определённых обществом, применялось не всегда, не везде и не всеми (отделим воспитание от воздействия – более широкой категории), речь о воспитании личности, влияющей на прогресс, а не о воспитании просто хорошего человека. Иными словами, я использую категорию «воспитание» близко подходящую к категории «образование», но не тождественную ей. А вот трансформационный пример. Воспитательный процесс всегда признавался необходимым и в разной степени достаточным, то есть – инструкционный, формальный подход, основанный на принятии необходимых условий, а в ряду достаточных – время, отведённое на воспитание (в том числе и обучение) и примерный, на глазок, качественный состав знаний и умений, по схеме – обо всём помаленьку. Если же под достаточностью принять право человека самостоятельно выбрать (после закладывания начальных, необходимых, основ) сферу усиленного обучения и приложения своих интересов (признав его способным изучать, принимать, отвергать, создавать – самостоятельно), то произойдёт гармоничное сочетание, как ты сказала, субъективизма в объективных условиях, качественных условиях, и тогда воспитание выдвинется на ведущую роль, произойдёт трансформация, но без изменения сути.
– Положим, я частный случай выдала за общий. Но стоит ли отметать схему реализации самой идеи, твоей же идеи с трансформацией? Смотри, сначала трёхлетняя общая школа, потом первое разделение, скажем, на гуманитариев и остальных, через два года – не гуманитарии разделяются по естественному и техническому направлениям, и, наконец, ещё через два года проводится последняя, внутренняя, специализация. Предвидя возражения, предлагаю в качестве механизма распределения использовать универсальные тесты, позволяющие учитывать способности, особенности развития, интересы, или ещё чего, важно запустить эту махину и посмотреть на результат. Ну, как?
– Плохо. Ты снова волю человека заменяешь целесообразностью для общества, ты заставляешь человека стать полезным, отказывая ему в выборе, автоматически полагая его собственный выбор худшим, возводя насильственное воспитание в абсолют. Даже не так опасно, что его проводником станут формальные общественные институты, опасность в подходе – в системности, в коллективности, в единообразии – разрушающем индивидуальность, а потому не способном выделить личность. При этом само насильственное воспитание не рассматривается как зло, справедливо, что всякое воспитание начинается с насилия (в философском понимании), ведь посредством него осуществляется заложение основ (начальное воспитание), в чём не обязательно участвует семья, первыми воспитателями, даже неосознанно, становятся любые люди, находящиеся в поле зрения (слуха и так далее) ребёнка. Более того, это единственный способ вписаться в общество, иначе получится эффект «Маугли», но процесс не должен затягиваться, заменяя волю покорностью и служением, – иначе выход реализуется через бунт, через войну. Хочется другого, чтобы человек почувствовал себя не частью единого целого, а единым целым вообще, тогда он признает себя способным, талантливым, озадачившись поиском совершенства, и, даже не коснувшись призрачного горизонта, явит поступки, достойные этого поиска.
– А тебе не кажется, что своим субъективизмом ты прикрываешь, как бы прячешь, гордыню, а то великий грех.
– Господь с тобой! Гордыня – это противопоставление себя богу, а значит, и миру, и природе, и обществу, и конкретным людям, и времени, и пространству, я об этом никогда не говорил, а говорил я о свободе воли и исподволь о самостоятельном развитии. Если тебе так приятно слово «воспитание», заменим «самостоятельное развитие» (как суть субъективности процесса формирования личности) на «самовоспитание», что в данном контексте позволительно. Принципиальная идея такова: самовоспитание включается как реакция конкретного сознания на влияние извне, то есть, достигнув уровня восприятия себя как чего-то цельного и особенного (единство и взаимосвязь тела и души), человек сначала непроизвольно (вследствие минимального развития), а потом более осмысленно противится любому покушению на свою сущность.
– Механизм понятен, но это только механизм, почему же субъективность доминирует над воспитанием, над объективностью, если оставаться в теоретической плоскости?
– Вот ещё аргументы, методологического свойства. Воспитание (насильственное, то есть объективное) как совокупность множества внешних факторов не в состоянии выработать единую концепцию, так как сами внешние факторы, в большинстве случаев, несут противоречивую информацию и предлагают взаимоисключающие решения. Следовательно, необходимо (воспитуемому) снова сравнивать, сопоставлять, принимать или отвергать, а значит, вступать в борьбу с внешним миром, но уже на интеллектуальном уровне, за право остаться собой, или против объективности за субъективность. История повторяется, и сформировавшаяся личность, отстаивая свои убеждения, свой глубинный порядок, становится для кого-то очередным (очень нужным) внешним фактором, эдаким интеллектуальным крючком (крючком с секретом), заглотив который, другой человек получает объективный голос в пользу субъективности. Самовоспитание процесс непрерывный, который в своей активной форме заканчивается к моменту стабилизации взглядов (исключения обязательны), после чего заметно лишь укрепление и углубление занятых позиций, заковывающее человека в броню догматизма. В большинстве случаев к концу жизни человек не умнеет, а глупеет (без учёта маразматиков), думая обратное. Это естественный ход жизни – новые идеи проводят новые люди, а старики живут победами, делавшимися их руками, старики замыкаются среди канонизированных образов своего мира, встав на путь опустошения и исчерпания, за которым вечная прямая депрессии – грустные воспоминания среди снов.
– Заверни что-нибудь подобное Алфавиту в следующем семестре, с одной стороны, ему понравится, но с другой, мало удовольствия сознавать себя депрессивным победителем опустошённо канонизирующем во сне.
– Извини, заболтался. Закруглимся на результативности, на высокой результативности процесса формирования личности. Внешне это нелогично, но тезис о высокой результативности вытекает именно из субъективности процесса формирования личности, так, преодоление среды как объективного фактора (именно в этом контексте) приближает к абсолютной результативности (классически недостижимой, но используемой для сравнения). Среда – единственный элемент нестабильности в данном процессе, она – слабое звено, а потому не должна и не может оказать большого влияния на существующую модель формирования личности, тем более вносить в неё изменения. Но, при всей своей нестабильности, слабости, без её влияния до сих пор остаётся невозможным начать, толкнуть субъективный процесс. Понятно – чем меньше влияние среды (объективного фактора), тем выше результативность процесса формирования личности.
Жизнь 1101-я
15
– Константин Андреевич, вас приглашают на осмотр, – подошла молодая медсестра со знакомым Косте голосом и после секундной заминки добавила: – Врач сказал, что потом диагностика, анализы, процедуры, так что вашей гостье придётся долго ждать.
– Я подожду, – почти скороговоркой, на одном выдохе, успев удивиться и понять, что придётся уходить.
– По имени, пожалуйста, а то вы смущаете не только меня, – Костя заподозрил агрессию и даже надумал причину, впрочем, не показавшуюся привлекательной, зря он так, утром-то голос ему понравился.
– Нет проблем, но это не меняет того, что вам надо идти, – жёсткость не уменьшилась, а всё оттого, что девушку оторвали от работы над рефератом, чтоб он сгорел, и больше ничего.
– Конечно, – и уже обращаясь к Яне: – Поезжай, чего зря сидеть, заскучаешь – звони на мобильник, – и, помахав ладонью, а точнее, перебрав пальцами, ушёл за медсестрой.
Яна пересекала здание по диагонали, не придавая значения препятствиям, люди суетились вокруг, но им не странно столь противоречивое движение, чему удивляться, если все так умеют. Когда успели установить прозрачные лифты? Они забавно работают, так любопытно въехать в чей-то пульсирующий живот и, ничуть его не повредив, оказаться в следующем слое, наконец, выйдя, через какое-то хранилище, на улицу. Хватит белого цвета и невидимого воздуха, дайте красок, а воздух пусть пошевелит своей прозрачностью, показав, что он тоже живой.
Шофёр предпочёл не удивляться, теперешний взгляд Яны вряд ли кто выдержит, а потому просто пересел на заднее сидение. А она не спешила, чего спешить, когда начинаешь осознавать свою сопричастность миру, видя не тени, а основы, слыша не звуки, а голоса, да, у всего есть голоса, вполне живые и вполне разумные, а, кроме того, вокруг множество дорог, достаточно плотных и совершенно свободных. Она выбрала ту, что шире остальных, с позиции начинающего водителя это правильно, и катнула машину, отпустив тормоза, пусть работают лишь педаль газа и рулевое колесо. Ветер ворвался в закрытый салон, но не мешал, а даже поощрял, подсказывая:
«Быстрее, быстрее, вся красота в скорости!» – и тут же, дразня и играя, бросился вперёд.
Она помчалась следом, чутко отметив, как автоматически перещёлкнулись все передачи, хорошо, что дорога пуста и безлюдна, и хорошо, что отстранённый шофёр не лезет со своим опытом, а помалкивает где-то позади.
А кто вякнет, оказавшись затянутым в чьё-то сюрреалистическое пространство и начиная каждым глазом видеть разное, осознавая всю полноту шизоидного восприятия; наконец, молчание вполне естественно для потерявшего сознание, выставившего на всеобщее обозрение стеклянные глаза и безвольный язык – будет нехорошо, если откусит. А машина летела над городом по невидимой автостраде, наверно, вызывая зависть у плетущихся внизу колымаг, отчаянно сигналящих друг другу на светофорах и матерящих нерасторопных пешеходов. Гонки никогда не наскучат ветру, но появились неотложные дела, и на прощание, качнувшись волной, он свернулся в спираль и устремился вниз, в свой город. Трасса расширялась, видимо, предполагалась развилка, удивлённо вскрикнули тормоза, но, устыдившись собственной невоспитанности, притихли – дом рядом, пора снижаться.
Припарковавшись у балкона (на нужном этаже), девушка легко запрыгнула на карниз и, пройдя сквозь податливое стекло, очутилась в квартире. На ночном столике, со вчерашнего вечера, лежала её драгоценная тетрадь, она схватила её, раскрыла и поняла, отчего испытывала смутную тревогу. В тетради, среди конспектов, скрывалось несколько стихотворений – иногда она, поддавшись эмоциям, писала стихи, точнее, записывала с чьих-то неведомых мыслей, а после того как переносила их в специальный альбом (и прошлые века ни при чём), сжигала черновики. Эти стихи она не переписала, так как сочинила буквально накануне и почему-то забыла о них, очень странная забывчивость, как и стихи. Они предельно открытые, предельно личные, их нельзя никому читать, никому, это выброс нерасплёсканного девичьего желания, без всякого ханжества и стыда, это призыв неведомого и манящего и погружение в него со всей возможной утончённостью и изобретательностью. Даже тот приятный вечер, когда она забыла тетрадь у него, не обладал той страстностью, что сокрыта в этих стихах.
Яна, успокойся, никто не заглядывал в твою тетрадь, никто не подсматривал за твоей душой. Этот ход привёл в тупик, этот выстрел оказался холостым, Раанг, милый друг, похоже, вы снова облажались.
Она прилегла на кровать – самое время вернуться в привычный мир, хоть и меньший, чем ощущаемый, но зато давно знакомый и не таящий замысловатых видений. Незаметно выравнивая дыхание, она догадалась, что переходила грань реального и ей понравилось, что ж, отчего не попробовать снова, особенно если верить магии снов. Впрочем, где сон, а где явь, или всё сон, или всё явь?
Она стояла на красивом пустынном острове, не слишком давно вынырнувшем из океана вместе с ней, потому что она забыла, как здесь оказалась, но зато помнила, как появилась первая трава, выросли первые деревья, прилетели первые птицы и всё закружилось, согласуясь с ритмом, задаваемым безвестным дирижёром. А потом прилетели люди, вернее, не люди, а туристы, спустившиеся на парашютах с редкого в это время года облака, они шумели, ходили вокруг неё, вертели пальцами и носами, щёлкали языками и фотовспышками, а самые смелые (или наглые) даже прикасались к таинственной аборигенке. Вздрогнув, она поняла, что находится в ресторане, среди обыкновенных отдыхающих, что сейчас время завтрака и нет никаких поводов для беспокойства, за исключением повышенного интереса, с которым её действительно рассматривали.
«Бегом отсюда», – и она, прервав завтрак, тем более еда отвращала, пошла к своему домику, где легко спрятаться и отсидеться, чтобы не расстраиваться и не обижаться.
А, собственно, чего она испугалась, неужели пустого любопытства окружающей публики, такой же праздной и релаксирующей, как она сама, тогда придётся бояться себя, бояться отражения и звучания своего тела, глупо, она такая же для них, как все они для неё – незнакомая, далёкая, со странными привычками и привычными манерами. А если найдётся кто-нибудь не столь далёкий и не столь незнакомый и заронит сомнение, например, её мужу (будь то частный филёр или шантажист-любитель), тогда не стоило ехать, не стоило рассчитывать на отдых, к чему эта накрутка, когда потребуется, она расскажет сама, а ему придётся прощать, как прощала она, впрочем, по другим поводам. Третий вариант – виноваты новые отношения, до того свежие и приятные, что мистическая внезапность их образования не допустит должного уважения к собственным принципам и собственному прошлому, на то они и принципы, чтобы посылать их подальше, на то оно и прошлое, чтобы его забывать. Понятно, она боялась своих мыслей и поступков, которые последуют за вспыхнувшим чувством, она опасалась сюрпризов, жаждая развлекаться без сожалений, без ответственности, чтобы потом произнести – стоп, она умеет произносить – стоп, и всё кончится, вернув к реальности прежнюю даму, любящую и нежную жену и мать.
Приведя себя в прекрасное расположение духа, Юлия оделась по возможности сексуальней (пусть брызжут слюной любители лёгкой добычи и комплексующие толстяки, увядающие матери семейств и разъевшиеся молодухи, пусть сплетаются желание и зависть, время смеяться, время указывать пальцем и плевать на манеры) и, нацепив солнцезащитные очки, вышла из своего домика. Женщина стала девочкой, беззаботной весёлой девчонкой, готовой на любые безрассудства, это потрясающее ощущение, если разрешено, если дозволено, в ином случае уподобишься загипнотизированному животному, ищущему сладостной музыки, а находящему смерть… воды здесь много и она близко.
– Привет, а я узнал, где ты живёшь, – около домика, в тени местного тропического растения, стоял Серж, он склонил к Юлии одну из веток, на которой распустился непривычный для русского человека цветок. – Не будем его рвать, так символичней и красивей.
– Ты уже сорвал, вчера, – она подошла к нему, а хотела подбежать, и высвободила ветку из рук, а хотела поцеловать его губы. – Привет, мальчик, я рада тебе.
– Дадим губам самое приятное занятие, – и он исполнил её второе желание, прервав пока бесполезный разговор.
Исполнялось желание обстоятельно, но продолжения не обрело, невзирая на домик рядом. Серж не настаивал, полагая, что её сиюминутное согласие отзовётся последующим напряжением в отношениях (это не здравый смысл, это опыт общения с женщинами), тем более чуть позже всё состоится, а потому он предложил приятную прогулку:
– У меня тут машина, прокатимся по острову?
– Нет уж, – оставаться вдвоём, даже при машине, это слишком расточительно для исходящей изнутри притягательности. – Мы просто походим по местным аллеям.
– Как скажешь, – он предложил ей руку, и они пошли вдоль зелёных оград. – Но это каприз или…?
– Считай, что это – экстрим по-женски, – что подтверждали, поворачивающиеся, как по команде, шеи здешних обитателей.
– Однако, – он погладил ей грудь, маскируясь намерением проверить толщину ткани, – если ты снимешь эту майку, большой разницы не будет.
– Ой, тебе что волноваться, придёт время, и сам снимешь.
– Да я так, – Серж понял, что слегка растерялся, вернее, не успел перестроиться с продуманной автопрогулки и рассказа об особенностях ландшафта, с последующей поездки домой, где остывало экзотическое угощение. Серж шёл удивлять и покорять, а довольствовался ролью счастливого любовника перед кислой публикой.
– Ну, тогда скажи мне, какой ты видишь свою следующую женщину? – и это вместо вопроса о предыдущей, прикольно.
– Она оказалась слишком молодой для меня, – он будто слышал изначальный вопрос. – Это неплохо, но молодость – недостаточная компенсация за несовершенство, становится скучно глазам, уму, телу, и всё кончается, – он придерживался мнения, что дал ей несравнимо больше, чем она ему, дал ещё одну частичку опыта и понимания жизни. Эгоистично, но так легче переживать разрывы – одна из самых-самых его проблем, ни справиться, ни остановиться, как и в тот раз.
– А что ты надеешься получить от меня? – она тоже поняла несказанное. – Перед Новым годом я уеду.
– То, что потерял когда-то очень давно… А когда ты уедешь – я умру, на день, на год… время не конкретно.
Снова идут молча, и оба готовы кричать, но, испугавшись надрыва, продолжают молчать, молчать о любви и страхе, об этой цепочке дней, о том, что придёт расплата и что-то оставишь ей, но не суждено услышать и не суждено понять, потому что без слов – тише… И неясно, когда разговор пересёк слышимый регистр, – подозрительны две последние фразы, нереальные, придуманные каждым в отдельности, только для себя, а разговор был о другом, о чём-то совсем другом. Это похоже на тщетную попытку достигнуть таинственного дна, когда знаешь, что оно есть, но не знаешь, насколько глубоко, и, бросая вызов, начинаешь преодолевать непрозрачность, увеличивая вместе со скоростью своё нетерпение, но, уходя глубже, не замечаешь, как мир переворачивается, и где дно (?), где поверхность (?), а дальше знание конечности пути меняется на возможность, а потом и на невозможность, и то, что привычно называют «бездна» становится тем, что пугает – «без дна».
– А ведь жарко, давай, искупаемся? – будто очнувшись, предложила Юлия.
– Давай, – согласился Серж, тоже выходя из транса и тут же теряя равновесие.
Но не упал, а удержался на ногах, вцепившись в Юлию, на чём он поскользнулся, они не поняли, похоже ни на чём, либо это «ничего» отлетело в заросли, в общем, забавно и для прохожих тоже, что вернуло прежнее настроение и ощущение лета. Выйдя на солнце, оба от неожиданности прищурились, впрочем, у Юлии имелись очки, которыми она и воспользовалась. Очки с зелёными стёклами.
Откуда-то появился запах, знакомый, но очень противный, наверно, ветер наглотался какой-то гадости, а теперь оповещает весь доступный ему мир, нет, совсем не мир, а только её, ароматы предназначены ей, дыши девочка, дыши – становилось невыносимо, требовалось что-то предпринять, как-то отреагировать…
…Яна открыла глаза. Перед ней стояли отец и шофёр, последний убрал маленький пузырёк, очевидно нашатырь (куда уж очевиднее). Поморгав немного глазами, для приличия, Яна поднялась с кровати:
– Зачем будить меня столь варварским способом? Никакого уважения. Ой, привет, пап.
– Здравствуй, дочь, – он отошёл от кровати и сел в кресло, привычным жестом удалив шофёра. – Рассказывай, что теперь произошло.
– А что произошло? – сообразив, что стоять глупо, Яна вновь опустилась на кровать. – Я приехала и прилегла отдохнуть.
– Во-первых, почему не в институте? Во-вторых, почему опять больница? И, в-третьих, к сведению, ты не приехала, а тебя привезли и внесли сюда, поэтому я здесь, – кресло жалобно поскрипывало, пока он чеканил вопросы, и вот вздохнуло с надеждой.
– Что за дурь, – возмутилась Яна, – этот урод вообще валялся с разинутым ртом, пока я вела машину…
– Не сметь! – хрясь по правой ручке кресла. – Не сметь, так со мной разговаривать! – хрясь ещё раз. – Я отец, и требую послушания! – а вот третий раз зря, не выдержала ручка и в хлам, да, кресло как знало. – Дерьмовое кресло.
– Па, успокойся, я ничего не понимаю, – Яна опустила глаза, как бы не поздно жалобить, если он разойдётся, то беда.
– Почему ты не пошла в институт?
– Я поехала в больницу.
– А зачем ты поехала в больницу?
– Вчера не удалось поговорить, – словно перезарядив оружие, Яна подняла глаза и прицелилась отцу в переносицу. – Ты понимаешь, я должна была поговорить, убедиться, что всё в порядке и институт – недостаточная причина, тем более – я отпросилась.
– Хорошо, я откажусь от требовательности, – очень спокойно, пока. – Я доверюсь серьёзности и рассудительности, но почему, скажи мне, почему ты сама теряешь и серьёзность, и рассудительность, – левая ручка кресла почувствовала взметнувшийся кулак, и это последнее, что она почувствовала. – Что происходит? Ты же никогда не теряла сознание!
– А я и не… – Яна подошла к окну: ни машины, ни малейших следов её недавнего присутствия, да и откуда она там возьмётся, это же не вертолёт, – …идиотизм какой-то.
– Так ты что, совсем ничего не помнишь?
– Ничего, – правильное решение, а то ведь и сама в больницу загремишь, а если не в больницу, то к новомодным врачам, сумевшим убедить всех в собственной исключительности, а Яна им не доверяла, ох, не доверяла.
– Ты прости меня, дочь, прости и не проси объяснений, – он подошёл к ней, стоявшей у окна, и обнял за плечи – лицом к дочери, лицом к окну и спиной к комнате, он боялся обернуться назад, где пребывало несчастное кресло с переломанными «руками», не просто кресло – как он посмел забыть…
– Конечно, папа, я люблю тебя, я прощаю тебя, а теперь иди и не требуй невозможного, – прочие слова застряли в горле, они хотели вырваться, но кто-то держал их там, лишь бы выиграть время, лишь бы не допустить смертельного упрёка…
…А он не уходил, оставаясь подле дочери и ожидая приговора, он не двигался, то ли поражённый настигающей карой, то ли собственным нежеланием жить, существовал ещё один выход, но прибегнуть к нему невозможно, коли, прибегнув в первый раз – понял, что это не выход, а вход, вход в те пределы, которые не заполнить и из которых не вырваться. Он из тех людей, для которых работа была превыше любви, даже если потребуется принести её в жертву не самым чистым помыслам и стремлениям. Тот день измучил его снегом и нескончаемым ознобом, но он выдержал все слова и удары, становясь ещё сильнее, ещё влиятельнее, но вечер… вечер оказался слишком мучительным для его упирающейся совести и, заглушив её криком на короткий миг, тут же оборвал выстрелом, и если бы навсегда, нет, всего лишь на тот же миг, и теперь он желанный гость ямы.
Девушка почувствовала, что становится легче дышать и как-то смягчается воздух, она отстранилась от отца и подошла к поломанному креслу:
– Зря ты его сломал. В нём так любила сидеть мама.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?