Читать книгу "Венера, или Как я был крепостником"
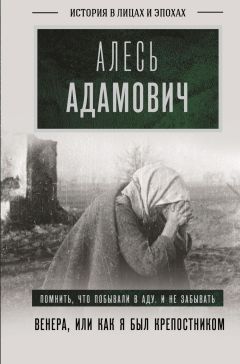
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Не было бы мужика, – философствует Короткевич, – и войны бы не было.
– Это как?
– А не за что было бы воевать. Делить было бы нечего.
– Даёт дед!
– До войны, – не унимается Короткевич, – уполномоченные приезжали из района, всякие газеты, радио: не забудьте посеять, не забудьте убрать! А тут, во, никто не уговаривал.
– О, нет, наш комиссар весной выступал перед деревенскими. И комсомольцы.
– Могли и не выступать.
– Ты что, Томаш, хочешь сказать? – усмехается Носов. – Что прожить без начальства можно? Не пройдёт это у вас, белорусов. Каждому хочется хлеба с маслом.
Вьюнищ нет, сгорели, нет Станкевича, уже месяца три, как это случилось. Странно, но о Венере, о нашей Богине, – никто ни слова. Или это только игра была – та наша общая влюблённость в девочку?
Была партизанская Венера, ну и была, а не стало её, и всё ушло, забыто…
– Смотрите, стоит, целый! – крик удивления. Это открылись Вьюнищи, то, что от них осталось. Печные трубы, какие-то полусгоревшие сарайчики, пожелтевшие сады. И среди всего этого – дом, целёхонький! Цинковая крыша лучится, как зеркало.
– Правду говорят: богатому чёрт детей колышет!
– И тут куркулю повезло!
Словно и не помним, что Станкевича нет и какой страшный был конец у всех живших в этой деревне.
– А правда, что это спецотряд тут действовал? – спрашивает Новичок. (У парня есть имя, фамилия, но для нас он просто Новичок: всего лишь две недели, как прибежал из Бобруйска.) Зловещее наше молчание Новичку ничего не подсказало, упрямо добивается ответа:
– Говорят, что ещё до немцев тут наши были, какой-то отряд специальный…
– Тебе это не немцы рассказывали? – спрашивает Романович. Вон, какие жёсткие глаза могут быть у нашего командира. – В листовке немецкой вычитал?
– Нет… Хотя, да. В бобруйской газете «Новый путь» писали. Но мы им не верили. Тут услышал, от партизан. В лагере говорили, что какой-то с кавказской фамилией командир, спецотряд какой-то.
– Не болтай чего не знаешь. Слышал звон!
Мы согласны с Романовичем. Про это не надо. Мы тоже знаем. Но про это не надо. Ни знать, ни помнить не хочется.
Ночёвку сделали в своей, ещё партизанской зоне, на берегу болотной речушки. (Наша зона или немецкая зона – понятия достаточно условные: земля, с которой временно ушел прилив, – гуляй, пока вода не вернулась. Пока не началась новая блокада.) В речушке наловили раков, Ванечка даже несколько вьюнов поймал. Пилоткой. Полешук уверяет, что в его деревушке рыбу руками, просто руками, даже бабы ловят.
– А щи как – лаптем хлебаем?
– А что лапти, посмотрим, какие у тебя будут ноги, когда вернёмся, и какие у меня. – Круглый, как мячик, Ванечка, лёжа на спине, вскинул к небу переплетённые оборами коротковатые свои ноги. Лапти многие надевают в дальнюю дорогу, особенно если болото по пути. Ванечка поясняет:
– Чем хорошо: ноги всегда сухие. Никакая вода не держится.
Носова почему-то злит эта деревенская похвальба.
– Ага, голодный понос – тоже хорошо: насквозь просвистывает.
Это, наверное, из его «довласовской», лагерной биографии.
Вторую ночёвку Романович объявил, когда Короткевич вдруг окликнул его посреди соснового бора:
– Командир, дальше не стоит. Тут час ходу до Березины. Лучше утречком. – И добавил, глядя в небо, будто там её видит, свою Березину, свою деревню Рудню: – Эх, рыбу, рыбу брали! И на уду, и неводом, и просто корзиной для бульбы, как Ванечка.
– Ещё бы, столько комаров! – пожаловался Носов. – Никакой рыбы не захочешь. И какие они у вас, Томаш, кусучие!
Мы же делали вид, что нам, тутэйшим (здешним), они нипочём. Залепляют глаза, ноздри – чихали мы на это! И дружно чихаем, плюёмся.
– И все самочки, стервы!
– А ты их в колхоз – сразу разлетятся.
У комаров своя жизнь, ладно, а нам спать положено. Завтра день будет долгий, чем и когда кончится, не знает никто. От земли, как от нагретой печки, с неба холодок – самый раз поспать бы, но тут-то они тебя и достанут, как ни кутайся в плащ. Гудят, как самолёты, но страшны не миллиарды, а один-единственный, который оторвался и ищет щёлочку, чтобы припасть к руке, к щеке, к ноге, – молит, умоляет, негодяй: дай, дай капельку крови! Тонкий, острый писк всё ближе, неотступнее, неотвратимее.
– А чтоб тебя! – раздаётся то с одной, то с другой стороны. Ухо напряжённо слушает противный писк, не спит и какая-то частичка мозга, та, что заведует ненавистью, бьющей рукой, а всё остальное пытается, но тоже не может отключиться.
– Ну, я вас сейчас! – выкрикивает кто-то. А ещё кто-то смеётся, зло и безнадёжно. Но вот в щёлочку из-под плаща вижу свет. Они что там – с ума сошли, неужто костёр жгут! Не знаем, где мы, не знаем, кто рядом может оказаться, – и такое. Сыпнут огонька – ног не унесёшь!
Но видно, но слышно, как задвигались по земле коконы – люди, ещё не осмеливаясь до конца вылущиться из одёжек, вылезть из своих укрытий, сползаются к Цыбуку – это он поджёг игли́цу, сухие веточки. На другого Романович наверняка сразу же гаркнул бы, а тут промедлил. И упустил момент, потому что уже ползут к Цыбуку, сползаются, и каждый что-то загрёб рукой – шишку, горсть иглицы, хвойную ветку, чтобы добавить дымку гадам.
– Утро, что ли? – неуверенный голос Короткевича. – Теперь-то и надо ждать.
Стариковский призыв к благоразумию не был услышан. Уже костёр пылает, высвечивая сосны до самых вершин, вовсю трещат сырые ветки, дымят, аж пыхкают: так вам, так! О чём тут говорить: немцы, полицаи-гады далеко, а эти – вот они! Глотайте дым, ага, не нравится?
Лица наши победно-весёлые, среди них и смущённое командирское, Романовича, – а что ему остаётся делать?
А когда хорошенько рассвело, оставляя обжитый уголок бора, неблагодарно помочились на затухающий костёр. С пионерских времён правило – не оставлять в лесу огня.
– А что жалеть? – вдруг усомнился кто-то. – Пусть бы горели бобики.
Мол, лес тут полицейский.
Короткевич с ходу припомнил поучительную историю:
– В сорок первом объявились у нас поджигатели, стали леса гореть. Так наши хлопцы отловили парочку, а они нам в нос газету московскую. Там приказ самого Сталина.
Молчание выжидательное. Добрая душа Ванечка помог нам всем:
– Газету могли и немцы сварганить.
Романович развернул разговор к нашим ночным глупостям.
– А жалко, жалко, что бобики не нагрянули на наш костёр! Вот было бы: ноги мои, ноги, несите мою задницу!
Странно, но та ночная беззаботность придала бодрости нам больше, чем сон. Чуть слово – смех. Смешно – умереть можно!
– Кончайте детский сад! – уже просит командир. Но и на него посмотришь – смешно. Медведь с румянцем во всю щеку. Хороший бригадир колхоза, а не командир. Ну что ж, колхоз так колхоз – можем и в колхоз поиграть. Такое у нас настроение.
– Давай наряд на работу. Что делать будем?
Что – ещё и Романович не знает. В штабе сказали: сориентируетесь на местности. Задача же: навредить немцам в честь революционного праздника.
Шлях Паричи – Бобруйск, к которому мы вышли и теперь присматриваемся, бежит параллельно Березине. Мы её не видим ещё, но знаем, что она вон за теми сосёнками, зеленеющими на жёлтых песчаных косогорах, за садами, укутывающими избы деревни. По словам (не очень уверенным, однако) Короткевича, полицейских в этой деревне нет, зато и слева и справа – гарнизоны. Место вполне подходящее для засады: или с одной стороны, или с другой полицаи могут идти, ехать. Они для нас «бобики», мы для них – «сталинские бандиты», так что квиты. Ну, а по-настоящему расквитаемся на этой вот дороге. Романович свой пулемёт пристраивает на песчаной горке за сосёнкой. Ванечка, его «второй номер», держа сумку с запасными дисками в руке, высматривает местечко рядом. Ну, и мы, конечно, выбираем каждый себе, чтобы поудобнее, и видно было в обе стороны. И в сторону Паричей, и в сторону Бобруйска, откуда можно ждать уже не полицейские телеги, а немецкие машины. Вон как растёрт песчаный шлях, даже танковых гусениц следы, знакомая жёлтая рябь.
Сделалось тревожно, неуютно. Нет-нет, да и оглянёшься: далеко ли большой лес?
– Смотри, Березина! – воскликнул Ванечка. Огненно вспучилось и распалось какое-то облачко над сосновым косогором, и слепяще открылся край солнечного диска. А меж косогоров широким стальным лезвием заблестела река. Точно из ножен выдернули.
– Не маячьте! Садись, ложись! – забеспокоился Романович. – Предупреждаю: без моей команды огня не открывать! Очередь из пулемёта – команда!
– А без моей, – ёрничает Цыбук, – не драпать.
У этого длинношеего парня глаза сегодня отчего-то неуверенные, беспокойные. Если что с ним стрясётся, потом будем вспоминать: чувствовал, знал!
Впрочем, догадаться можно, что его мучит. Парню не позавидуешь: в какую деревню ни сунемся, на какое гнездо полицейское ни двинется отряд – у Цыбука там родной дядька. Племянничек, помоги! Ты же знаешь, меня заставили…
– Я тебя не заставлял, – и весь ответ-разговор. Несколько раз, в самом начале, он ручался за одного, второго дядьку-полицая перед командованием. В отряде теперь эти его дядья. Но потом, видно, сказали: скоро весь отряд из твоих полицаев будет! Да и хлопцы изводят шуточками, разговорами на эту тему.
– Слушай, Панасевич, а тут какой-нибудь дядька твой живёт? – Вот, пожалуйста, Носов поинтересовался.
Цыбук чуть помедлил (как бы размахиваясь). И – на, получай, коль напросился:
– Перещупаем полицаев – примемся за власовцев. И войне конец.
Ну вот, испортили друг другу настроение. А зачем? Ванечка, добрая душа, зёвет-приглашает: да смотрите, это же Березина!
– Не в кино привели! Что орете на всю округу? – одёргивает нас Романович.
Уже люди появились на песчаном, изъезженном танками и машинами шляху. Две босоногие тётки друг дружке навстречу бегут-спешат: их обвешанные узлами согнутые фигурки пересеклись и стали удаляться одна от другой. Та в Бобруйск, наверное, понеслась, эта – в Паричи. Сегодня, кажется, воскресенье, базар. Из Паричей, если появятся, то полицаи, а из Бобруйска – жди немцев на машинах. Лучше бы из Бобруйска: опаснее, но интереснее. Убить немца – это не то, что «фашиста», «гитлеровца». Когда пишут в листовках или присылаемых из Москвы газетах: отряд товарища Н. уничтожил столько-то «фашистов», «гитлеровцев», знай: там больше полицаев, чем немцев. А когда «немцев» – тут уже без обмана.
Оттолкнувшись от земли, солнце обязательно повисит неподвижно, а уже после этого продолжит полёт. Ему надо сперва посмотреть: что тут переменилось? Мы смотрим на солнце, оно на нас. Видит оно, возможно, и ещё что-то: немецкие машины, пешую колонну бобиков, обоз. Но не спросишь.
А кто-то уже по завтраку затосковал:
– Смотрите, тётка печку затопила.
– Коровку за сиську: цур-цур!
– Ишь, телёночек, далеко слышит.
– Командир, – голос Цыбука, – пока суд да дело…
Романович, играя желваками под девичьей кожей с нежными полосками румянца, недовольно слушает нашу болтовню. Вглядывается в убегающую вдаль череду телеграфных столбов.
– А что им стоять тут? Нечего им тут стоять, – говорит многозначительно. – А раз так, топоры нужны, пилы. Ну, и чего пожрать.
Кто лежал, тот уже на коленях, кто на коленях – привстал: у всех совесть при себе. У кого сумка от противогаза, у кого бездонные карманы. Не обидят ни свой, ни чужой желудок. Но у Романовича свои соображения.
– Так, Ванечка, диски оставь… Кто ещё? Ты. (На Новичка указал.) Дядька Томаш (это Короткевич).
Запнулся. Что, у других совести меньше? Или сумки не такие вместительные? Да он просто оскорбил нас! Носов и Цыбук тут же сами предложили себя. Романович не стал возражать (не решился?). Указал на меня, как точку поставил:
– Всё. Кто-то и здесь должен остаться.
Завистники тотчас зашипели:
– Во так бы на работу просились.
– Эти принесут, держи рот пошире!
Ноги по щиколотку погружаются в сыпучий песок, стопа и пальцы левой ноги ощущают одновременно и утреннее от солнца тепло и ночной холодок: утро поверху, ночь поглубже. Подошва у ботинка оторвана, портянка вылазит, расползлась. Что важнее: одеться или всё-таки поесть? – спор голой ступни и ноющего желудка решится на месте. Там, в деревне. Надежда на случай, потому что на себя большой надежды нет – проверено. Иначе не ходил бы в таких ботинках.
Во как изъездили шлях, что тут эти танки делают? Или на Курск гнали? А иначе что им тут делать?
Пробегая мимо телеграфного столба, Ванечка лапнул его рукой:
– Стоишь?
Вот тут, наверное, и начался отсчёт времени, как бывает при каком-то важном событии: десять, девять, восемь… Но мы этого не заметили.
А что если в этой, в такой мирной деревне, улёгшейся среди мягких от зелени холмов, затаился гарнизон? Короткевич может и не знать: вчера не было, а сегодня разместился. Березина слепит глаза, точно кто-то специально зайчики пускает: играет широким лезвием, поворачивает с боку на бок. Впереди всех отмеривает шаги-сажени Цыбук, следом семенит-катится Ванечка, дед Короткевич поотстал, ему за ними не угнаться. А лодок, лодок сколько на берегу – как деревянных прищепок на бельевой верёвке.
Едва добежали до первого среди поля строения, как вдруг – взвыли. Нет, не пулемёты – собаки. Проснулись наконец, за что вас хозяева кормят? Но, значит, рывок был что надо. Перепрыгивая через тыквенные головы, сминая, ломая кукурузные стебли, несёмся уже к избам, к их слепым, без окон, задним стенам. Хочется верить, что уже проскочили тот момент, когда нас могли расстрелять среди поля. Зато теперь уже и не выберешься из деревни, если всё-таки в ней кто-то есть. Это пока важнее всего для нас – так есть кто или нет никого? Через двор, побыстрее к калитке – выглянуть на улицу. Можно дух перевести: деревня полупустынна, куры, гуси, баба с вёдрами у колодца. Зато окна за спиной у нас выбелены лицами припавших к стёклам баб, детишек. Да ничего, не пугайтесь, это мы! Что, не видели ещё партизан? Тем более. Помаши, помаши им рукой! Человек с винтовкой – всё-таки приятно сознавать себя в этой роли. Вот так, на глазах у перепуганной деревни. Зайти, что ли, в избу?
– О, божечки! Только что парицкие уехали, ночевали тут. А вы кто будете?
Лица, бабьи, детские (в сторонке борода мужская), теперь все к порогу повернуты, хозяйка напугана: так ли заговорила, то ли сообщила, не знает твёрдо, кто и с чем вошёл к ним в хату, чего ждать?
– Полиция уехала?
– Поло́ва годины[5]5
Полчаса – бел.
[Закрыть], как поехали. А вы кто будете?
– Ну, мы – это мы.
Уже и ты начинаешь ловчить, выгадывать время, непонятно зачем. Нужно время, чтобы растаял холодный ком под ложечкой: какие-нибудь полчаса развели нас с полицией, могли нас так встретить!
– А что нам парицкие, нас тут целый отряд!
Хозяйка заспешила (борода же возле ширмы молчит, ни в чём не участвует).
– Вы голодные, ма́быць[6]6
Может – бел.
[Закрыть]? Я хутенько[7]7
Быстренько – бел.
[Закрыть], сметанка, молочко. Может, вам некогда, с собой возьмёте?
Бери и уходи, как можно быстрее! Что ж, так даже лучше. Стены всё-таки давят, кажется, что там, на улице, уже что-то изменилось, происходит.
Из хаты вышел без рук. Обе заняты: гладыш с молоком, в тряпке – холодное, из воды, масло, хороший ком. Увидел Ванечку, выбежавшего со двора. Лесоруб, да и только: опоясан поверх телогрейки пилой, в руке топор. О, чёрт, про главное забыл! Зайти в тот вот дом, самый заметный, большой. У такого хозяина инструмент найдётся. Ну, и поесть самому, не будешь же требовать свою долю: кто поверит, что бежал через мосток, схватил кленовый листок?..
Вывалился на улицу Цыбук, в руках и за поясом чего только нет. Тут же нырнул в следующий двор. Такое впечатление, будто выныривают, чтобы глоток воздуха хватить.
И только Короткевич стоит у забора и никуда не спешит, с дядькой каким-то беседует. Правда, на траве у ног его кус желтоватого сала, кругляк хлеба – уже собрал дань. Хорошо, что хоть он за улицей наблюдает, видно, для этого и стоит.
У дядьки, которого Короткевич вызвал из хаты, в руках топор, пила: даёт и не дает, жалко. Судя по обрывкам разговора, выясняет: может, ему пойти с нами и сделать самому, что надо. Зато останется при своём инструменте. Топора жалко, а головы не жалко? Короткевич в этом духе его просвещает. Ничего, после войны разживёмся. Говорят, вон и колхозов уже нет там, у Сталина. Это немцы, Гитлер держатся за колхозы-общины, а наш уже распустил.
Верит наш дед сам в это или не верит, сказать трудно. Поучись у него, как надо просить, выманивать топор, пилу. Я направился в дом, чем-то похожий на хоромину Станкевича.
Первое, что бросилось в глаза, – крепкие (не армейские ли?) сапоги на ногах хозяина. Сидит возле стола, крошит табак. Хозяйка, почему-то заплаканная, сообщила от печи:
– У меня тут бульбочка, как раз поспела. Может, поесть хотите?
– Это я для наших ребят, – показываю то, что у меня в руках.
Мужик за столом крякнул, как бы насмешливо. Но смолчал. Кажется, с ним повозиться придётся. Возраст не поймёшь какой, сидит тут, замаскировался бородой, и ни до чего ему дела нет.
– Хозяин, одолжи нам пилу и топор, – и добавил со значением: – Надо.
Поднялся сразу же и вышел. Ну, кажется, повторять не придётся.
Хозяйка хлопочет над сковородкой, говорит, говорит, а на меня посматривает почему-то виновато. Если у мужика в обычный день, да еще летний, на ногах такие сапожищи, то какие у него припрятаны! Но как начать разговор?
Что он там так долго возится в сенях? Загудело вдруг. Жернова, что ли?
– Вы на него не кривду́йте[8]8
Не обижайтесь (бел.).
[Закрыть], не в себе человек. Ставили к стенке, эти парицкие, чего только не требовали! Забрали костюм хороший, довоенный. Вы ешьте, ешьте…
До сих пор тошно, как вспомнишь давнишнюю сцену в лесу, возле такой вот ничейной деревни. Как Зубрицкий разувал «жениха». Мы выслеживали полицаев, а он – вот он, на ловца и зверь: шагает по вечерней опушке, насвистывает: «Сам пью, сам гуляю!» Издали доносится пиликанье гармошки, бубен поддаёт жару – вечеринка у людей. А мы, как волки в тёмном лесу. Ну, и нарвался этот, женишок. Под настроение.
– Смотрите, хлопцы, колёса какие у него! Хром!
Знать бы Зубрицкому, что через какой-то месяц будет лежать в этих «колёсах» и в своём этом сером плаще среди поля с пулевой дыркой над переносицей – комиссар выстрелил в него, прямо с лошади. Зубрицкий сбежал с поста у речки, испугавшись, что немцы уже переправились ниже или выше. Откровенно струсил. И сразу, как это у нас бывало, вспомнили: полицай бывший, что его жалеть, что тут разговаривать!..
А пока на земле опрокинуто лежал не Зубрицкий, а «жених» с задранной по-лягушечьи ногой, с неё Зубрицкий старательно стаскивал сапог. «Жених» не отдаёт, поджал пальцы, не отпускает. Вертится на спине и смотрит, смотрит на нас: не мольба о помощи (мы для него одна стая), а только страх передержать сапог и боязнь, что в него внезапно выстрелят.
Долго, отвратительно долго это продолжалось, пока кто-то не схватился за вторую ногу: тогда только отпустил. Зубрицкий быстренько сдёрнул свои сапоги и швырнул «жениху»: танцуй.
Не помню уже, кому «колёса» и достались, когда застрелили Зубрицкого. Хорошую обувь у мёртвых отнимали, как и оружие.
…Я не выдержал, пошёл вроде к ведру, водички попить. Выглянул в сени: дядька, как подвешенный, высоко держась за стояк-палку, яростно что-то мелет в жерновах. Но ничего не сыплется из лотка, да и засыпал ли он чего, – похоже, что не зерно, не жёелуди перетирает, а меня и тех паричских полицаев, что забрали у него костюм.
Эх, дядька, на тебя бы Зубрицкого!
Выскочил на улицу, проклиная маменькиных сынков, всех, какие только есть, бывают. И кто в партизаны таких берёт, кто им винтовки даёт?
… – Ох, и видок у вас был, когда через шлях бежали!
– На вас что, собак спустили?
– Нет, кто молодец, так это Новичок, смотрите!
Новичок действительно исхитрился – в тазике припёр сметану. Аж ботинки, штаны заляпал, как маляр. А ещё в придачу – топор за поясом. И пилу бросил на землю, аж запела. Вот тебе и новичок. А ты? Хорошо, что никто на меня не обратил внимания. А ещё эти торчащие из ботинок пальцы. Ничего, до зимы далеко. Ещё дожить надо. Как у нас любят говорить.
Зимой это и случилось. Но не о сапогах речь. Однако всё по порядку. Кто в лесу не зло́дей[9]9
Вор (бел.).
[Закрыть] – в доме не хозяин! Известная мудрость, крестьянская. Ну, а где дом партизана? В лесу. Так что он меньше нуждается в оправданиях, чем даже мужик, который такую поговорку придумал.
Было это, когда фронт приблизился к самой Березине. По ту сторону реки наша армия, по эту – мы, партизаны, а немцы справа и слева: в Бобруйске, в Паричах. Диспозиция – как и тогда, во время нашего комсомольского похода. Только уже зима и армия рядышком, а полицаи разбежались, разогнаны; ездим за реку, гоняем туда коров, отнятых у немцев, полицаев (а они отняли у населения), привозим боеприпасы, трофейные пулемёты немецкие, американские консервы. Такая жизнь началась. Партизанская жизнь движется явно к завершению, а у меня по-прежнему – ни автомата, ни смушковой кубанки! На ногах, правда, сапоги: мама упросила отрядного сапожника пошить – из коровьей сыромятины.
Разместился отряд наш в бывшем полицейском гарнизоне. Полицаев – кого убили, кто убежал, а семьи их остались в деревне. В их хатах мы и поселились. Картошка хозяйкина, ещё полицай заготовил, мясо, консервы – наши. Так и живём в окружении детишек, отцов которых мы перебили, разогнали. А они наше оружие рассматривают с нормальным детским восторгом.
По соседству с нашей деревней, за леском, деревня с таким же названием – Ковчицы, но только, Вторые. Или: Еврейские. До самой войны евреи жили, 36 семей из 150-ти, хотя многие уже перебрались в Паричи, в Бобруйск. В колхозе работать остались в основном те, кто переженился с белорусами. Их перебили немцы и полицаи в августе 1941-го. Наш отрядный сапожник как раз из этой деревни, так он рассказывал: его мальчик нёс коньки в кузницу, увидел сосед, подозвал:
– Знаешь, отдай моему Кольке коньки, тебя всё равно убьют.
Заплакал мальчик, убежал. А тот чмур вступил-таки в полицию, бегал потом и отлавливал соседей-евреев. У дядьки, сидящего перед своим домом, спрашивает, мол, не видел нашего соседа Рубина, куда своих увёл? Видел, а как же (а семья Берки Рубина у того дядьки на чердаке пряталась), в лес убежали, куда ж ещё.
– Теперь ты будешь бегать.
Как в воду глядел. Мы перебили полицаев (и в белорусских, и в еврейских Ковчицах).
А потом фронтовые немцы и власовцы перебили и сожгли семьи полицейских. Уже не разбирались. Но это потом, когда выперли нас, и ворвались в Ковчицы.
Это случилось через три дня после того, как меня должны были расстрелять – за то, что стащил комиссарову смушку. Кто в лесу не злодей, того не расстреливают.
А случилось вот что. Всё с тем же Короткевичем мы патрулировали со стороны близко подступающего к Ковчицам Белорусским леса. Бредёшь, как зимний волк, по глубокому снегу, останавливаешься, прислушиваешься, представляя, как кто-то там возле леса тоже слушает твои шаги и шуршание снега, кашель деда. Да нет, не волк ты, а как раз дворовая собака – первая добыча волка.
Замёрзнем, надоест бродить во тьме – заворачиваем в ближайший двор, где свет коптилки или лучины мерцает, обогреться, а Короткевич – покурить чужого самосада.
В одной избе задержались подольше. Ещё бы не задержаться: перед хозяином соблазнительная горка табака, крошит и смешивает разные сорта на широкой доске – это зрелище для Короткевича. А мой взгляд заарканен тем, что́ висит на жёрдочке рядом с тёплой печкой. Шкурка с недавно освежёванного барашка. Серенькая, в мелкое колечко – лучше и не надо для партизанской кубанки! Дядьке она зачем?
Косящим взглядом, чтобы не выдать, как забилось сердце, как пересохло во рту, разглядываю свою будущую папаху. «Ягнёнка видит он, на до́бычу стремится» – или как там, в школе заучивал? Кубанка будет не хуже, чем у адъютанта, у комиссара, у всех у них.
Вот так сидели мы в уютном тепле при потрескивающей на загнетке лучине, и каждый был поглощён своим интересом. Но если интересы хозяина избы и Короткевича совпадали – приятно, если твой мультанчик кому-то понравился, и вон как хвалят-расхваливают (а это наш Короткевич умеет), – то наши с собственником овечьей шкурки отношения складывались явно антагонистически. То, к чему устремилась моя душа, все мои помыслы, не разделишь по-братски. Или – или. А как нагло, с каким вызовом развесил такое богатство прямо посреди избы! И что ты из этой шкурки сделаешь, дядька? Шапку – долго ты ею попользуешься! Зря только стараться будешь. Ты что: адъютант или командир? Или хотя бы партизан? Постой, постой, а ты как остался, уцелел? Ни одного мужика в деревне, а ты кто такой? Небось, тоже полицай! Ишь, пригрелся возле печки!
Ни дядька, ни Короткевич, любовно токующие над табачком, не замечают мук, страданий начинающего вора. (Если не считать коллективного, всем классом, налёта перед войной на чужой сад, после которого я хорошенько узнал, каким грозным и недобрым может быть мой отец.) Снова и снова (в мыслях) протягиваю руку к мягкой, волглой шкурке и сую, сую за пазуху (уже приготовил, расстегнул пальто). Повторяю это много раз, вконец обессилевший. Главное, потом спокойно дойти до двери, не бежать.
Глаза, увидевшие вора, – огромные детские глаза в полутьме за печной трубой я заметил, когда уже засунул шкурку под пальто. Смотрим друг на друга с одинаковым ужасом – я и шести-, семилетний ребёнок. Будто и там, на печи, – я. Обречённо прижал отворот пальто и на вялых ногах направился к выходу: дядька, конечно, тоже заметил, все увидели, весь мир видит. Почему меня не останавливают? Вывалился на мороз следом за Короткевичем, оставив в избе своё умоляющее: «Спасибо! До свидания!»
Дальше всё происходило, как в отравленном тумане. Точно забыл смысл случившегося и настолько, что даже не перепрятал уворованное. Так и ходил всё утро, чувствуя на груди тёплое, мягкое, как бы живое. Если чего и боялся, так это – хотя бы на минуту расстаться с партизанской мечтой, засунутой под школьное мое пальто.
И вдруг наш караульный взвод гонят из избы на улицу, строиться. Ничего такого я не подумал, стал в строй, как все. Обеспокоен только Романович, потому что и он не понимает зачем. Но ему и положено волноваться: совсем недавно из отделенного командира стал взводным. Быстро подошёл к нам комиссар, сопровождаемый адъютантом. Я лишь отметил, на этот раз без прежней зависти, что у обоих – кубанки – смушковые. У комиссара – чёрная. Прикинул, что моя будет даже лучше. Если такой же верх сделать, тёмный. Стали перед строем, комиссар чего-то ждёт, молчит. Адъютант у него за спиной. И тут я понял, кого ждут. Наконец я понял, что лучше бы мне на свет не родиться. Ведут нашего дядьку аж двое партизан, как под конвоем. Вид у него испуганно-виноватый, ноги в лаптях и как бы путы на них, кожушок внакидку, вот-вот потеряет, волосы на голове всклокочены, как и борода. Комиссар громко, грозно пояснил, что среди нас вор, а я понял больше: у меня на груди шкурка, которая ему принадлежит, это он отдал дядьке на выделку. В тот момент не до греков было, не до спартанцев, но если бы напомнили мне про терпеливого мальчика, который спрятал под рубашкой живого зайца, а тот ему разодрал живот, – именно я мог бы рассказать, что он при этом испытывал.
– Если кто из наших взял – расстреляю на месте.
В этом можно не сомневаться – наш Василий Юльевич на расправу скор. И мы считаем – справедлив. Вот тогда – Зубрицкого. А в блокаду предупредил: кто на посту уснёт – будить не станем. И застрелил заснувшего. А как иначе? Ну, а если бы немцы незаметно подошли?..
И не так уж дорога ему эта смушка, у него кубанка есть, пусть и чёрная. Расстреляет вора, позорящего народных мстителей. И все, кто стоит рядом со мной, его поймут. Я тоже понимаю. У дядьки я просто взял. Как своё, мне нужное. Кто у них не брал, не берёт? Но оказалось, смушка – комиссарова. Это уже воровство настоящее. Я понимаю. Вот только мама… Счастливец был тот, которого не разбудили. А я должен буду всё видеть, всё! Как рука отщелкнёт кобуру, как поднимет пистолет – это не сразу, это сколько же будет длиться! Впервые с такой силой испытал чувство, которое назвал бы смертным стыдом. То, что вором умру, и мама с этим вернётся домой после войны, – это первое. Но это не всё. Испытал стыд смерти. Некрасив человек умирающий, и он невольно стыдится себя. А тем более – публично убиваемый.
Вот с этим сложным чувством, а не с одним лишь стыдом за воровство или страхом смерти ждал я, когда дядька меня узнает. Именно ради этого его сюда привели. Он стоит как-то на одной ноге, так ему тут неуютно, не по себе, весь скукожился, как аист на болоте в холодный день. Будто он и есть преступник.
– Смотри – кто! – резко, отрывисто говорит комиссар. – Узнаёшь?
И колхозник пошёл вдоль строя. Будто почётный караул принимает – так кому-нибудь могло показаться, кому было весело. Что узнает меня, нас с Короткевичем (мы и стоим рядышком), я не сомневаюсь и жду мгновения, когда добредёт дядька до меня, остановится, может быть, ничего не скажет, а только оглянётся по-собачьи на начальство, как на охотника…
– Расстреляю вора на месте! – не может сдержать гнева комиссар. Дядька аж остановился, умоляюще на нас всех и на комиссара смотрит. – Ищи, ищи!
Догадываюсь, что комиссар, пусть и невольно, но спас меня от им же обещанного позорного конца – вот этим напоминанием про расстрел. Дядька уже шёл, как слепой, смотрел на нас и не видел, такие же слепые от ужаса глаза скользнули и по моему лицу (я ему жалко улыбнулся). Почти обрадованно, облегченно дядька сообщил:
– Не, тут нема. Я не бачу таго.
– Хорошенько посмотри!
– Я вам вярну, я найду другую шкурку, откуплю. – И жалобно попросил: – Даруйце[10]10
Простите (бел.).
[Закрыть]!
Комиссар сердито махнул рукой и повернулся уходить. Адъютант важно постоял перед нами вместо него, важно погрозил нам пальцем и заспешил следом за начальством.
– Даруйце! – повторил дядька, вопросительно смотрит: можно ли ему уходить? Повернулся и почти побежал по заснеженной улице, ноги в лаптях проваливаются, скользят, он взмахивает рукой, как бы продолжает разговор с самим собой.
Скорее, скорее освободиться от этой гадины! Придерживая воротник пальто, я оглядываюсь, куда направиться. Короткевич, который почему-то не отходит от меня, небрежно так поинтересовался:
– Ты куда спрятал?
Так он знает?! Он сразу всё понял, как только появился наш дядька. Стоял рядом и всё знал. Я показал на грудь.
– Что, при себе держишь? Ну, рызыкант[11]11
Рисковый (бел.).
[Закрыть], я табе скажу!
А так спокойно стоял. У меня и то ноги дрожали.
Вон, каким героем (куда тому спартанцу с зайцем!) тебя увидел Короткевич. Час от часу не легче!
Делая вид, что по нужде туда направляюсь, зашел за пуньку, руку ввинтил в холодную, слежавшуюся кострицу[12]12
Кострица – костра, отходы при перетирании одервеневших частей стебля волокнистых растений (льна, конопли и т. п.) или при трепании, мятии.
[Закрыть], которой утеплена стенка, пробуравил, продрал ямку и торопливо сунул смертельную улику туда.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!







![Книга Три девочки [История одной квартиры] автора Елена Верейская](/books_files/covers/thumbs_100/tri-devochki-istoriya-odnoy-kvartiry-31688.jpg)
































