Текст книги "Венера, или Как я был крепостником"
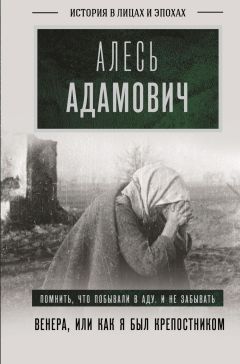
Автор книги: Алесь Адамович
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Спас мне жизнь и у меня прощения попросил: «Даруйце!» Не у кого-то, а у меня. Где он потом оказался, мой дядька, что стало с ним? Какая у него жизнь была? Когда мы победили.
– Ох, и видик у вас был! За вами собаки гнались? – всё никак не нарадуются на роскошный завтрак наши нахлебники. Порасхватали опресноки[13]13
Опресноки (бел. – праснакі) – лепешки.
[Закрыть], хлеб, крынки с молоком, руками гребут творог и сметану, а на топоры, пилы – ноль внимания. Это сразу отметил Романович:
– Лучше кашки не доложь, только на работу не тревожь! Ну, ладно, съел, не съел – поехали. Так, кто топор, кто пилу – парами. Спилили столб – руби провода. Забирай пошире, чтобы по три, по четыре столба досталось. При пулемёте остаёмся: я, вот ты, и вот ты.
И как при массовом забеге – рванули с места. У каждого бегуна, кроме винтовки, ещё и топор или пила. Пила аж воет, изгибается в руке: Ванечка (снова своего «второго» отпустил командир) её держит над головой, как он только шею себе не снесёт. Мой напарник – Новичок, у него пила, у меня топор.
Вот мы на дороге, затаптывая танковую рябь на песке, окружаем столбы, кто к какому добежал, берём их в плен и: шах-шах-шах!.. Новичок совершает самый большой грех неумелого пильщика: пилу и тащит, и толкает от себя, старается мне помочь, а она у него гнётся, и мне только тяжелее.
– Ты не толкай, так только хуже. Пила должна сама идти, – наставляю его точно так же, как когда-то дедушка меня.
Хотя телеграфные столбы из болотной сосны, опилки жёлтые, труха, но пила тупая, плохо разведена, а ещё напарник такой – это тебе не сметану тазиками таскать! Хоть тут чувствую своё преимущество перед горожанином.
Спиленный столб завис на проводах, не достал до земли, раскачивается, как карандаш. Э, чёрт! Ладно, второй свалим – лягут.
Спилили второй столб – завис, зато первый уже на земле. Я бегу к нему рубить провода. Первым делом – по чашкам, как по зубам, обушком! Вот так вам, а вы позвоните, погергечи́те[14]14
Гергетать – звукоподражательное, говорить на непонятном языке, преимущественно на немецком. (от нем. Herr – господин).
[Закрыть] по телефону! На земле проволока не рубится, камень подложить. Прости, дядька, что так с твоей секерой[15]15
Секера (бел. – сякера) – топор.
[Закрыть], ничего не попишешь: во́йна, матка! – как немцы говорят, отлавливая курицу на глазах у хозяйки.
Второй столб повалили, третий – только опилки брызжут из-под пилы, разлетаются из-под обушка белые фарфоровые брызги. Эти чашки фарфоровые на столбах магнитом притягивали заводских пацанов, столько раз целились в них из рогаток. И вот – добрался. Смерть немецким оккупантам!
Когда пилишь столб, невольно смотришь на ботинки напарника, засыпанные желтоватыми опилками. Хороши ботинки! И вся экипировка что надо. С умом собирался в партизаны. Не то, что другие: там, мол, на деревьях растут пироги-сапоги-автоматы! А потом бегают, тараща глаза: где бы добыть! Он же со своей винтовкой пришёл (украл у пьяного полицая), зато не довелось, как мне, придурком ишачить на кухне. Его костюмчик, его плащик и эти крепкие армейские ботинки даже нехорошие мысли вызвали у нашего особиста. Семья, говоришь, собирала, мама, бабушка? А не дядя немецкий?..
Трудятся ребята уже во-он где – возле дальних столбов. Перебегают с места на место, машут топорами.
Почти километр столбов уложили в сторону Паричей и столько же – в сторону Бобруйска. Какие-то люди, подводы передвигаются, маячат на шляху вдали, но к нам не приближаются. Человек теперь сразу ощущает, где копится беда. Только мы, кажется, на время потеряли это чувство: энтузиазм, азарт труда-разрушения – он бывает горячее всякого другого. Известное дело: ломать – не строить. Эй, вы там, поговорите, давно не говорили по своим проводам!
Первый выстрел, первая пулемётная очередь, когда бьют по тебе, всегда оглушают неожиданностью. Удар грома, а уже потом посыпалось, как дождь по жестяной крыше.
Из-за горки за первой выскочила вторая машина, ещё и ещё. И сразу разделённый мир, разделённое пространство: зона немецкая, зона партизанская – устремились одна навстречу другой. То, что отодвинуто было во времени, вдруг сошлось, сразу сблизилось – точно перегородку убрали.
«Партизаны смеялись, убегая», – такая же фальшивая метафора, как и «море смеялось». Не до смеха, что и говорить. И всё-таки забавно было видеть, как кто-то всё ещё не бросает пилу и бежит, борясь с нею, как с упирающимся на ветру штандартом, – да это же снова Ванечка! Вот чудак. А Цыбук подталкивает в спину, помогает бегущему по сыпучему песку, буксующему на месте старику Короткевичу.
Будет потом весёлых припоминаний: кто как улепётывал. Ноги мои, ноги, несите мою… «женю»!
Вон как Ванечка колесом пошёл! Закувыркался по земле через голову. Что он делает: изранится своей пилой!
И только тут понял, увидел: не по-цирковому покатился, а совершенно по-собачьи. Как бывает, когда в неё влепят весь заряд, прямо на бегу. Фуфайка его сразу забелела и тут же красными пятнами запылала – клочья выдранной ваты. Точно и впрямь пила зубьями прошлась по нему.
Уже бьёт от леса наш пулемёт – Романович. Туда надо, туда, но Ванечка лежит между твоим спасением, лесом, и тобой – не обминёшь. Цыбук к нему ползёт, а уж он тем более не должен получить удовольствия – увидеть убегающую спину «придурка». Я домчался до Ванечки раньше, дожидаюсь Цыбука и имею право уже им покомандовать: сюда давай, побыстрее!
– Ваня, ты что, Ваня? – звучит голос Цыбука так озабоченно, что я сразу забыл про все обиды, которые от него терпел. Наверно, и ко мне вот так бы обращался. Я уже люблю его, я знаю: если и по мне пройдёт очередь (в любой следующий миг может случиться), никто, как бы я дорог им ни был (мама, брат), никто не будет «выносить меня из боя», а именно он, прежде самый неприятный мне человек. Вот как мы сейчас Ванечку. Я подхватываю за ноги, а надо ещё и винтовку его забрать, тяжело, неловко нести, а нас обсвистывают пули, то с одной, то с другой стороны, хочется упасть и не вставать, но Цыбук прёт вперед, как танк, и надо поспевать, и некогда бояться. Возле леса ахнул взрыв, второй, ну вот, у них и миномёты, самое паршивое. Пулемёт наш выискивают, стараются накрыть: обеспокоились – добежать, доволочь тяжеленную ношу до леса, а там уже радоваться, что ты живой.
Новичка я увидел, когда у нас, потерявших последнее дыхание, перехватили, забрали окровавленного Ванечку. Наш Новичок лежит на земле, странно неподвижный, когда все мы нетерпеливо рвёмся бежать дальше, вглубь леса. Романович удерживает: не все собрались. Ванечка, чьей кровью мы с Цыбуком все измазались, лежит облепленный песком, будто дёгтем, а Новичок – чистенький, ни пятнышка. И только тёмная полоска возле уха.
– Мина. Маленький такой осколочек. Был Илюша, и нету, – удивлённо говорит тихий паренёк в лаптях, в свитке. Даже не знаю, из какого взвода. Этот уже совсем деревня.
Так его Илюшей звали? А мы его ведь: Новичок, Новичок. Что ему теперь скажешь, такому мёртвому. О чём вообще говорят с мёртвым школьником? Я видел, слышал, как деревенская старуха брату своему в гробу, такому же старому, рассказывала про их общее детство, и это было так уместно, понятно. А что, о чём рассказывать Илюше? О старости, которой не будет?
Почему убили именно его? Скажут: новичок, неопытный. Да только это заблуждение, что убивают новеньких чаще, чем многоопытных, обстрелянных. Я же убеждён: у каждого имеется набор удач, вроде набора хромосом. Израсходовал – ничто тебя не спасёт, никакая многоопытность, осторожность. Встречаются люди с одной «хромосомой удачи», видимо, и Новичок из этих. Но «малохромосомному» может повезти, если его шансы будут раздроблены – на ранения. Спросите тех, кого много раз ранило. Убеждены: должны были убить, но повезло. Ранения всегда «вместо». Ранения не укорачивают, а удлиняют жизнь. Должны были убить… По-настоящему смерти не боятся те, кого ни разу не подстрелили. А тюкнуло – вот тут и поверишь, что тоже смертен. И получается вопреки расхожему мнению, что бывалые бойцы бесстрашные. Да нет же, именно потративший шансы, то есть бывалый, и начинает понимать, что́ такое бояться, что вот тот бой уж наверняка последний в его жизни. Простите меня, бывалые, и подтвердите.
Ванечка и теперь отделался ранением. (Он совсем недавно лежал в санчасти.) Но на этот раз его разделали, как никогда прежде. Когда перевязали, невозможно было понять, что у него осталось цело, не затронуто. Все индивидуальные пакеты, у кого только были, потратили. Все оглядываются на пропитавшийся кровью брезентовый плащ Романовича, который у нас вместо носилок: живого ли несём?
А Новичка мы закопали на лесной поляне. Вначале несли обоих. Менялись часто: до чего же тяжёл человек мёртвый. В лесу переночевали и дальше понесли только Ванечку, дышит он часто-часто, в груди хрип, бульканье – вот-вот всё оборвётся.
Кому не позавидуешь, мы это понимаем, так это Романовичу, нашему командиру. Группа и сделать ничего не сделала, а двоих потеряли (Ванечку, похоже, нам не донести живым). Но разве виноват Романович: когда отбирал нас в свою группу, мы же ему справки не предъявляли, у кого сколько «хромосом», шансов уцелеть.
– Хлопцы, вот это да! Чур, мой, я нашёл!
Это Панасевич, наш Цыбук, орёт. Он отошёл в сторонку по нужде и вот зовёт нас посмотреть на какое-то чудо. Не зря шея у этого парня (оттого и «Цыбук») всегда вытянута, как у вожака стаи, самое интересное всегда первый обнаружит.
– Смотрите, какой у меня конь! – всё старается напомнить, чья находка. Как будто, если уж на то пошло, ему достанется. Ни коня, ни пистолета некомандирам, неразведчикам, неадъютантам у нас не полагается. Даже если твой трофей, даже если в бою взял.
Так что не мылься – бриться не придётся. Но, правда, чудо какой конь. Серый, как облако, внезапно опустившееся в темень леса. А по спине, по крупу, – чёрная полоса. Вот так ранней весной оттаивает самый верх заснеженной крыши. И грива подтенена. А нам хоть бы какого, хоть бы колхозного трудягу-доходягу. Руки оборвали тащить раненого, да и ему, может, легче будет, нашему Ванечке, не так больно. А тут при лошади ещё и телега. И сбруя вся как на подбор. В непотёртой ещё, фиолетовой ивовой кошёвке[16]16
Кошёвка – лёгкие сани (уменьшит. от кошева).
[Закрыть] улёгся, как барин, новенький хомут со шлеёй. Щедро отделан медными бляшками. И сыромятные вожжи, уздечка, седёлка – всё новое, с блёстками. Прислонённая к колесу дуга покрашена в зелень, и (поверить невозможно!) колокольчики на ней подвешены. Что нас уже совсем добило: спицы и ступицы колёс тоже покрашены.
– Где невеста? Должна быть ещё невеста! – орёт Носов. – Ищи, Цыбук.
– Разгалделись, как цыгане на конском базаре, – ворчит Романович. Но и он тоже, все мы любуемся на серого с тёмной полосой по хребту красавца, кем-то спрятанного от чужого глаза (и конь, и телега спущены в яму-овражек, которая, видимо, осталась еще от [19]41-го, в такие машины, танки, а бывало, что и лошадей укрывали от бомбёжек). Перед мордой у красавца разбросана по земле трава-осока, совсем свежая, зелёная. Разглядели, наконец, и изъян: на левой ляжке лошади – огромный шрам, рубец, похоже, что от бомбы. Сразу вспомнилось, что в первое лето войны на Полесье действовали целые конные дивизии, сбитые с позиций, сдвинутые, как листва с дороги, танковыми, моторизованными немецкими клиньями, располосовавшими Белоруссию и Украину.
– А божачкамойбожачка! – услышали вдруг женские причитания откуда-то из кустов. – Абедныежмыбедные!..
К нам направилась закутанная в какую-то постилку[17]17
Постилка (бел. – по́сцілка) – кусок ткани, которым накрывается, застилается или завешивается что-либо, простыня.
[Закрыть] фигура, судя по изодранной юбке и босым ногам, – женская. Пока несмело приближалась, всё нам сообщила воем-причитаниями: и как она «с таткой» лечила-«ратова́ла», спасала «коника» от волков и недобрых людей, и какая страшная «болька», рана, была у него, и как ей одной в лесу «жу́дасно»[18]18
Жутко (бел.).
[Закрыть].
– Твоё, что ли, приданое? – не поверил Носов. – Цыбук, вот и невеста. Чур, твоя!
У бабы лицо (чуть выглядывает из-под постилки – платка) безобразно распухло, наверное, от укусов болотной мошкары, комариных. Как включили её – снова запричитала:
– А травами ж, ле́ками[19]19
Леками (бел. лекарствами), в тексте – лекарственными, целебными травами.
[Закрыть] обмывали его! А думали ж – на жизнь. Всех казнили, всех. По спице татка собирал, по ременьчику – всё прахом! На смерть, выходит, собирал.
– Ну и спасибо татке твоему, – не выдержал Романович, – и хватит. Видишь, беда у нас? Хлопца пулями посекли.
Тётка явно не хотела ни слышать, ни замечать ничего нашего. Видела и оплакивала своё.
– А вы ж, хлопчики, не обидите нас, сирот?
– Обидим, будь спокойна, тётка. – Цыбук уже берётся за хомут, перебирает вожжи. Носов пробует поводить коня: сильно ли хромает?
– А ён жа калека, а ён жа няздатны[20]20
Непригодный, неспособный (бел.).
[Закрыть] на вяликую дарогу! – убеждает нас тётка.
– Во как поёт, во как поёт! – уже злится Цыбук. – Понимать ничего не хочет. Видишь, раненый у нас! Тебе русским языком говорят!
Короткевич вмешался:
– Мы тебе его вернём, тётка. Мы только до вёски[21]21
До деревни (бел.).
[Закрыть], там другого коня найдём.
– А вы ж обманываете, а вы ж лжаце́!
– Лжаце, лжаце! – уже запсиховал Цыбук. – Ты бы человека так жалела, как эту падлу!
И отодвинул тётку плечом, потому что она уже спустилась в яму, уже схватилась рукой за возок. (Что у неё с руками? Красные, как ошпаренные. Не руки, а гусиные лапы, как бы даже с перепонками.)
А что дальше происходило, помнится, как нечто безобразное и безвыходное. Конь, телега нужны не нам, раненому, а баба ничего знать не хочет, хватается, пока мы запрягаем коня в телегу, своими страшными руками то за уздечку, то за возок, кричит-причитает. Цыбук её оттолкнул прямо ко мне:
– Держи этого чёрта!
И я обхватил бабу обеими руками, удерживая, пока телега уходит, переваливаясь на кочках, задевая крашеными ступицами за сосёнки и почему-то позванивая. Ах да, колокольчики на дуге. Надо бы снять. Вдруг ощутил, какое худенькое, девичье тело я обнимаю, когда оно забилось, как птица, в руках у меня. Напуган был смертельно. Глаза в глаза с женщиной, и я её обнимаю: постилка-платок сползла с головы, открылись всклокоченно-рыжие волосы, лицо безобразно распухшее, но глаза – чистые, гневные, как бы узнавшие меня:
– Уйди! Дурак!
Разжал руки, она попыталась догнать телегу, я всё же встал у неё на пути. С каким презрением к моему воинственному виду она повторила:
– Пусти, дурак.
Голос даже знакомый! Я растерянно отступил в сторону. Она побежала за уходящими, но Цыбук вдруг направил на неё винтовку:
– Пули не пожалею. Раз языка не понимаешь.
Остановилась, как бы очнулась. Я обошёл её, как соляной столб, бросился догонять своих.
Мы уходили через лес: дорога вдруг пропадала, снова на пути у нас появлялось болото, приходилось возок с раненым тащить едва ли не на руках. А конь, как нарочно, стал прихрамывать. Да ещё это позванивание. Кто-то предложил тряпкой обмотать дугу (просто сорвать нелепые колокольчики нам почему-то жалко). Вдруг Ванечка спросил, не открывая глаз:
– Мама, это на горе звонят? Тише, мама, слышишь?
Хоть бы до деревни конь дотащил. Уже совсем забыли про чёртову бабу (даже руки мои отяжелевшие стали её забывать), как вдруг посреди житного поля Короткевич воскликнул, как бы даже восторженно:
– Не, вы гляньте, не отстаёт тётка!
Уже с непокрытой головой, держит её по-девичьи высоко, бредёт по житу следом за нами, неотступно, как судьба.
Глава вторая
В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Еммаус.
И разговаривали между собою о всех сих событиях.
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними.
Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.
Евангелие от Луки, гл. 24:13–16
…Спина всё ещё болела – там, где когда-то прилипла к обожжённой коже расплавившаяся и затвердевшая, как асфальт, коса, чужая и тяжёлая, будто полено подвешено сзади. Пылающее полено. Одна, одна осталась в целом мире. Отнято единственное живое и радостное существо, которое у неё ещё было. Лошадь эту, Серого, с отцом прятали аж два года и от немцев с бобиками, и от партизан. Общая их семьи тайна, любовь, надежда. По вечерам при пылающей лучине, когда казалось: день, слава Богу, прожит, ну, а ночные люди, партизаны, у отца все други застольные, не обидят, – в такие вечера всей семьёй мечтали, ка́к будет после войны. Когда у них будет свой конь, богатая сбруя и всё, что надо, в хозяйстве будет. Отец часами рассказывал, как он начинал жить, когда еще дед хозяйствовал, и вообще было по-другому.
Об этом рассказывали и красивые картинки-плакаты на стенах, прикреплённые поверх обоев. (Отец иногда остановится посреди хаты, оглянётся: «Ну, изба-читальня, ничего не скажешь!»). Дети (и Венера тоже) любили эти картины на стенах, часто их шумно разглядывали: большие-пребольшие пчёлы, красивые рамочные ульи, смешные, поцеловать хочется, круглые «пятачки» толстых поросят возле белой, как тёплая печка, мамы-свиньи, добрые морды коров, ну, а серая лошадь в табуне других красавцев вызывала самый большой восторг: «Это наш Серый!» Венере особенно нравились часы-ходики с цветным, ярким, как новогодний праздник, циферблатом. На нём жёлтое-жёлтое от поспевшей ржи поле, крестьянин с такими же жёлтыми усами и снопом на руках, а внизу – трактор с красным флагом.
– Как у татки усы! – Малые никогда не забудут заново удивиться такому радостному сходству.
А за иконой спрятана была газета «Камуніст», на которой уже, и правда, был изображён отец. Фотография плохая, грязная, как и все буквы, но дети знали, что это их татка с дедом, снова и снова требовали им показать и прочитать, что написано: «Бацька і сын Станкевічы з вёскі Уюнішчы наладзілі культурную гаспадарку[22]22
Отец и сын Станкевичи из деревни Вьюнищи организовали культурное хозяйство (бел.).
[Закрыть]». Отец и сам с интересом разглядывал газету, по краям оборванную на курево, нет-нет, да и скажет:
– Было бы нам культурное хозяйство, если бы дед ваш, Господь его душу упокой, не надорвался в лесу и не помер. Раскулачили бы, как пить дать! Он-то не отдал бы всё так легко, как сынок. Я с ними мог разговаривать, а он не умел.
Сгорело всё, всё пожгли немцы, всех! И зачем только она спасалась, зачем ей жить, Венере? Припадала к морде Серого, он нервно, тяжело дышал ей на руки, в мокрое от слёз лицо: хоть одно на всём свете живое существо знает и понимает, как ей не хочется, невозможно жить!..
А тут эти партизаны – отняли, увели и его. Осиротили Венеру окончательно. Она потянулась следом и, что бы с ней ни делали, не покинет своего Серого. Распухшего лица её никто не узнаёт, а это же знакомые партизаны. Они бывали во Вьюнищах, кого-то из них помнит она. Нет, ей не надо, чтобы её признали, ей больно, она стыдится себя такой, какой она сделалась, какой стала. Это лицо, эти руки…
Серого отец нашёл, когда мужики расхватывали брошенных в лесу и на дорогах, оставленных Красной армией коней. Когда разбирали колхозных доходяг. Никому он не нужен был – конь с располосованной осколком ляжкой. А вот отец взял, что-то он увидел, разглядел в несчастном калеке с гниющей страшной раной. Объяснил так:
– Стоит и как человек смотрит, мухи, за́едь[23]23
Мошкара (бел.).
[Закрыть] эта, прямо спасу нет, а глаза, ну прямо человеческие: «Мне плохо, мне очень плохо!..» А красавец, калека и всё равно – красавец!..
Мужики-соседи посмеивались: столько здоровых, нормальных коней, а Станкевич вон инвалида подобрал! Взял отец и колхозную лошадку, но всё внимание, забота были Серому. А когда подлечил, стали с завистью на него посматривать. Да появились партизаны, полиция – не обойдут вниманием! – отвёл Серого в лес, стожок сена накосил, по очереди с Венерой навещали его. Деревне объяснили: пришли, мол, ночью какие-то, забрали. Сколько забот и тревог доставил Серый, но и радости живой сколько! Не раз обнаруживали поле битвы на том месте, где в лесной загородке его прятали. Истоптанная, взрытая копытами земля, сломанные, помятые деревца: подходили волки. Но Серый не дался им. Отец, замученный тревогой, не раз бежал к нему на помощь: чуть что приснится – бежит. Мать прямо извелась от страха за него, за всех. Но у мамы это было постоянное, вечное состояние: страх. Даже в спокойные часы. Отец, бывало, возьмёт её, как малую, на руки, держит, не выпускает:
– Нет, ты скажи! Чего ты боишься, объясни, почему ты всегда боишься? Ничего же не происходит, что это с тобой?
Бедная мама, бедный отец – знали бы они, что́ сделают с нами! С ними.
Отец был уверен, что уж он-то не отдаст в руки беде свою семью. Отобьётся, как Серый от волков, – не раз про это говорил. А мама от этих разговоров боялась ещё больше. Сразу начинала дрожать, когда отец нас всех и её сажал в кирпичный погреб в холодной половине дома или в землянку-хо́ванку в гумне, «чтобы привыкали». Как малый, играл с детьми: придёт в гумно – снопы жита, сено, что ещё видите? Нигде ничего. Откатит в сторону сноп, второй, поднимет плаху – глубокая нора в земле, под сено.
– Так сгорим же, на угольки, о боже! – стонет мама.
Но отец, не был бы это он: приготовил не одну, не две, а целые три хо́ванки (не считая погреба). Одну – там, где и другие односельчане делали, в сухом бору с хорошим подлеском. Каждый рыл тайком от всех, по ночам, убирая следы жёлтого песка, маскируя лаз мхом, ветками, как только не исхитрялись. Но как не похвастаться перед соседом? Вот и отец привёл к своей хо́ванке хромого косоглазого Камая по кличке «Самоед»: ну, где, найди? Найти не мог, топтался, прихрамывая, вертелся, дёргал сосёнки за чубы, думая, что посаженные, – отец радовался, как ребёнок. Отвернул сосновый пень и этим же открыл дверцу на завесах, от сундука её отец взял, приспособил – на ровном месте, а не заметишь. А как под землёй всё аккуратно сделано: ступеньки, полочки, есть, где сесть и даже лечь. Тешился татка, как наши малые, – мама горько плакала, глядя на эту их радость.
Но самая большая гордость отцова была третья землянка: в берёзовой рощице, густой, как щётка. Вот про ту он никому ни слова, на неё полагался особенно. Никакие немцы туда не попрутся с собаками, запутаются со своими поводками. А уж как замаскировал, как всё удобно сделал – пацанки и особенно Антончик не раз просились: отведи их снова «в берёзки».
– Да ты не бойся, – объяснял маме, – какая нас овчарка там вынюхает. Там такие па́хи: грибы, ягоды, мыши – нос собачий набок свернёт! Хлопцы меня предупредят, уйдём туда загодя. Воду поставил, хлеб, сало – всё заготовлено.
Отец очень полагался на разведчиков: уж они-то везде шныряют, и предупредить не забудут, если что.
Всё, однако, порушил непонятный тот отряд. Вошли во Вьюнищи ночью, тихо, но требовательно постучали в окошко, потом задёргали дверь. На вопрос: кто? – отозвались сердито: мы-то свои, если ты тоже свой! Вошли в дом: ни одного знакомого, одеты почти во всё армейское, но наше. Таких, с иголочки, Венера видела перед самой войной, когда маневры были. Ну, словом, не похожи на партизан, на которых немецкого больше, чем на полицаях. И оружие не такое, как у местных партизан, не всякое-разное, а одинаковое, и всё больше автоматы. Каблуками щёлкают, козыряют: «Товарищ командир! Товарищ замполит!»
Венере понравились: культурные, вежливые, рук не распускают, не употребляют словечек разных, которые из знакомых партизан летят, как шелуха от семечек на вечеринках.
Только командир смешной, таких на вечеринках называли «недомерками». Их всех мучила зависть к парням, которых не стесняются рослые девушки. Этот же вообще какой-то чудик: каблуки себе сделал специально, чтобы повыше быть. Ну, как на женских туфлях каблуки.
Уже после войны, только через 25 лет [1970–1973 гг. – Н. А.], мы [А. Адамович, Янка Брыль (1917–2006, белорусский писатель, переводчик), Владимир Колесник (1922–1994, белорусский литературовед, прозаик – Н. А.] спохватились и взялись записывать людей из таких, как Вьюнищи, деревень. Тех, кто уцелел, кого не сожгли в амбарах, в церквях.
Нам женщины рассказывают, старенькие, им уже за 70, магнитофон записывает: Вера Петровна Слобода, учительница, ведёт рассказ, а две другие жительницы Дубровы только подсказывают, помогают ей плачем и сами слушают, как бы не веря, что сами это видели, испытали, было такое…
– Приехали и говорят: уходите в лес, немцы скоро будут у вас…
А люди – зима же, мороз, куда же им в лес, да у кого много детей. Не послушались некоторые. Так они назавтра вернулись и тех, кто в лес не выехал, аж девять семеек, – всех постреляли…
– Постойте, это кто были?
– Да кто, партизаны, мы же говорим. Спец… этот отряд – они себя называли. Восемьдесят или сколько душ, да с детками постреляли. Вы, говорят, немцев дожидались, вы не советские люди.
– Постойте, постойте! – Всё не хотим понять, поверить. – Так это не немцы, не полицаи были?..
– Командир ихний, как его… Калайджан, чёрный такой, глаза такие, всё кричал: «Вы – полицейские лазутчики, вы враги народа, предатели!»
От местных партизан мы тоже самое услышали. Специально расспрашивали в других деревнях. И всё-таки не дали в книгу [ «Я из огненной деревни», 1975. – Н. А.] Можно объяснить: этого бы ни за что не пропустили, [19]70-е годы. Верно, но с одной оговоркой. Кассету мы сами стёрли, записали на неё другой рассказ в другой деревне, где убивали уж точно немцы. Первая мысль, чувство наше (все трое к тому же бывшие партизаны): да если прозвучит этот случай, все остальные наши записи, наши «огненные деревни», где немцы и полицаи «работали», кто-то поставит под сомнение. А не их ли, таких вот «спецотрядов», дело – ваши Хатыни.
Ведь какой был расклад всех вещей в те годы: или – или. Если и ваши «органы» – зверьё, значит, как бы оправдание немецким карателям. Стёрли магнитную ленту – факт. А разве не стирали саму память, в самих себе (да и сейчас стираем): то, что мы можем вспомнить, – человеку просто не выдержать (мать и бабушка сварили умершего ребёнка, чтобы накормить остальных детей, – в блокадном Ленинграде). Защитная реакция? Отчасти и это…
Мой соавтор по книге «Я из огненной деревни» Янка Брыль специально разыскивал следы этого Калайджана. По музеям да публикациям. Оказалось: прислан был из Москвы, потому что в 1942 году «командиров не хватало». (Да и не очень доверяли окруженцам: из НКВД – надёжнее.)
Ваграм Погосович Калайджан, старший лейтенант, – вот он-то и расстрелял на Витебщине деревню Дуброва. Потом его отозвали в Москву. По официальной версии: судить. По убеждению местных партизан: убежал сам, за ним уже охотились местные ребята. Во всяком случае, никакой за собой вины не признавал, а наоборот, обижался (уже после войны), «испрашивал награждения».
То, что произошло в нашей местности – во Вьюнищах, ну, прямо-таки списано с Калайджана. И тоже – «спецотряд».
Венере отряд этот вначале понравился, а вид командира, смешно подпрыгивающего на высоких каблуках, просто забавлял её. И он тоже за каждым словом: «пожалуйста» да «спасибо», хотя голос резкий, даже визгливый. Он всё выходил на кухню запивать какие-то таблетки. Видно, язва мучила.
Командование разместилось, конечно же, в доме Станкевича, ну, как мёдом намазано там было для них для всех.
Кто Венере не понравился, так это «толстяк». Она называла про себя так человека, который при командире был. «Толстяк» вроде бы улыбается, добродушный такой, а заговорит – и не заметишь, как ты уже вроде и виноват.
– Ну, как живём?
– Как и все.
– А все как?
– Живут, пока жить можно.
– А кто не даёт жить? Партизаны?
– Зачем обязательно партизаны?
– Ну, а кто больше мешает жить: немцы или мы?
Впрочем, и у отца не получался разговор, ни с «толстяком», ни с командиром. Ты их угощаешь, ставишь на стол, что только есть: вроде бы и довольны, когда уминают за обе щеки, а всё не могут не подковырнуть: «О, какой у тебя медок, хозяин! Ульи, что, колхозные?» Или: «Дом, ну, как у хорошего помещика!»
Отец уж объяснял, объяснял: как дед начинал строить после революции и как завезли в сельпо корыта цинковые, столько, что не знали, куда девать, а он, отец, и догадался их скупить. Распрямил и накрыл дом, получилась такая крыша, всем на зависть.
– От партизан беспокойства много?
Спрашивает «толстяк», но как бы не для себя, а для командира, переглядываясь с ним.
Ну, что им отвечать? Что партизаны во Вьюнищах днюют и ночуют, свои все хлопцы. Вот блокада, это да, её бояться приходится.
– Свои, значит, хлопцы. Оно и видно, – что-то своё держит в уме «толстяк». И командир тоже.
– Значит, партизан не боитесь. А немцев боитесь? – вдруг спросил.
– Ну, правильно, – не понял отец, – что ж своих бояться?
– Служат тому, кого боятся, – сообщил «толстяк».
А тут с флагом ещё так получилось. Прибежала в дом, радуется Валечка, дурочка малая:
– Татка, а у нас стяг повесили!
И правда, прямо на воротах пристроили: красная тряпка на палке. Как, бывало, на сельсовете. Отец сразу к командиру: аккуратно постучал согнутым пальцем о дверной косяк, а тот как раз выходит свою таблетку запивать.
– Там ваши хлопцы флаг вывесили…
– У нас нет хлопцев, у нас бойцы.
– Не надо бы этого, товарищи, делать… Вы же сами знаете, немцы движутся. А если дознаются?
– Вы считаете, что мы их сюда впустим?
– Да уже впустили. А бережёного Бог бережёт.
– У вас что, предатели тут, донесут? – Глаза горят, чёрный такой – от болезни или гнева. – От кого немцы могут узнать? Что ж не говорите? Как с такими поступать, мы знаем.
– Донесут, не донесут… Сорока на хвосте принесёт.
– Не увиливайте! При чем тут сорока? Им уже красный флаг мешает. А как советская власть – тоже?
К вечеру тревога по-настоящему овладела людьми: и жителями, и особым этим отрядом. Когда над селом завис немецкий самолёт – «рама», по нему стреляли, но он и ухом не повёл. Потом улетел. К ужину (Венера накрыла стол на десятерых, её так и попросили: «Накройте на десять персон») в избу собрались командиры, в светлицу проходили, а в кухне тесно и шумно сделалось от адъютантов. Только мешали Венере работать, как будто ей дело до них. Публика известная: один перед одним выкаблучивают. Главный адъютант командиров встал у двери, чтобы не заходили и не заглядывали, кому не положено. Сообщил, подмигнув:
– Чапай думает.
С улицы вбежал молодой боец, спросил, где командир, но и его не пустили. Оказывается, возле леса перехватили нескольких жителей, пытались уйти из села. Главный адъютант строго выслушал, тоже подумал, как Чапай, и принял решение:
– Запереть их, а я потом доложу командиру.
Но там, кажется, услышали, вышел сам командир.
– Что там?
Ему объяснили. И отец не сдержался, пояснил:
– Ведомо, боятся люди.
– Кого боятся и к кому побежали?
– В лес, хо́ванки там, а куда ж ещё?
– А может, в полицию? Много у вас родственников полицейских?
– Партизанские есть, а про полицейских не слыхал.
– Ну, так мы слышали! – Командир крутнулся на своих высоких каблуках – уходить. А бойцу подтвердил приказ своего адъютанта:
– Запереть!
Тата забеспокоился, заспрашивал у адъютантов: вы, товарищи, и правда хотите бой в деревне держать? Так сожгут нас на угольки – это уж точно!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?


![Книга Три девочки [История одной квартиры] автора Елена Верейская](/books_files/covers/thumbs_100/tri-devochki-istoriya-odnoy-kvartiry-31688.jpg)





































