Текст книги "Грифон"
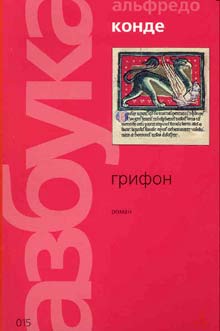
Автор книги: Альфредо Конде
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Он говорит это Шану де Рекейшо, стоя поодаль, в то время как врач осматривает больных и назначает им пиявок, которые должны либо способствовать излечению от недуга, либо известить о приближении скорого конца.
– Вот наступает предел жизни, когда жизненный жар поднимается от пупа к верхней части диафрагмы, и вся влага иссыхает, словно в огне. Когда легкие, а также сердце утратили влагу и весь жар собрался воедино в смертельных местах, он исходит горячим потоком, воссоединяясь с великим целым, из которого когда-то вышла цельность каждого отдельного человека. И тогда душа, покидая тело, где она обитала, выходит через дыхательные клапаны, расположенные на голове, посредством которых она обычно возвещает, что человек жив, и возвращает природе холод, смертную оболочку с желчью, кровью, слизью и плотью.
Посланец понимает, что врач возвестил о близкой смерти, и слышит, как тот распоряжается позвать немецкого капеллана, состоящего при госпитале для больных, говорящих по-немецки, чтобы тот позаботился о душе, которая вот-вот покинет тело умирающего. Посланец понимает также, что лекарь не желает больше ни о чем говорить, но прекрасно услышал и понял уведомление; и он не цитирует афоризм, предшествующий тому, что только что произнес Шан де Рекейшо. Ему кажется, что эскулап все время пытается уйти в науку, где он чувствует себя более уверенно, чтобы таким образом избежать обязательств перед жизнью, которые стремится навязать ему друг. Каждый раз, когда Посланец заговаривает с ним, лекарь бросает ему в ответ афоризм, но ничего при этом не отвергает; он как будто не хочет брать на себя никаких обязательств перед жизнью, перед своим окружением, но готов сделать это ради друга, ради дружбы, ради великой цели. «Возможно, причина его скептицизма – в постоянном созерцании стольких страданий и бед», – думает Посланец, и он принимает обязательства ради дружбы, которые Шан ему предлагает и больше ни на чем не настаивает. Времена полны страхов, никто не может доверять никому, осмотрительность подсказывает не доверять и самому себе: пытки могут заставить тебя признаться даже в том, чего нет, что совершенно тебе неизвестно, не говоря уже о том, что ты знаешь на самом деле. Существует тайный сговор, он зиждется на безмолвии, на взглядах, в крайнем случае на полусловах, жестах, так чтобы никто не смог ничего утверждать наверняка, но и отрицать тоже. Разумеется, есть риск быть неправильно понятым, не донести послание до нужного человека, перепутать шифр, но только таким образом можно идти дальше, прекрасно сознавая, что впереди скорее всего тебя ждет крах. Пронзительный, твердый взгляд орла, которому Посланец с самого раннего детства был обязан своим прозвищем – Грифон, – становится еще более жестким, когда ему приходится просчитывать возможные действия друга; он знает, что доноса не будет, но ему неизвестно, будет ли сотрудничество, помощь, и вновь приходится полагаться на интуицию, а она подсказывает ему: верить можно. И он готов следовать ей по той же причине, по какой он делал это и раньше, когда ему советовали не доверяться внутреннему голосу и направить борозду совсем в другое поле; по той же самой причине, по которой он чувствует, что нужно как можно скорее покинуть Святой град и никогда больше не возвращаться в него.
Выйдя из госпиталя, Посланец решает наконец посетить резиденцию Святой Инквизиции, чего до сих пор – ему и самому не совсем ясно, по каким соображениям, – он все еще не сделал. Да, он знает, что на его родине нет никого, кто поддерживал бы Инквизицию, и в глубине души он этим гордится; он знает, что среди его земляков не смогли найти палача и пришлось везти его издалека, из Падорнело; он знает, что, как только начнется его инспекционный объезд, ему даже еды не предложат; потому-то он и хочет взять с собой в Оуренсе каноника Педрейру, потому-то он и напросился сам отправиться с инквизиторской миссией в свои родные края. Он никому не дал повода усомниться в своей преданности, ревностном отношении к папской службе, в своей неуступчивости в делах религии, в своей неприязни к древнему королевству Галисия, столь милому его сердцу. Воинский Орден Пресвятой Девы Марии Белого Меча – лишь один из путей, которым он отправился в поисках философского камня свободы для народа Галисии. Этому научил его грозный и мятежный архиепископ Бланко в далеком детстве, и он хранит его заветы как, может быть, единственное свое убеждение, единственную свою веру. Посланец знает, что жизнь его подходит к концу, и, когда он ступил на землю Галисии в долине Монтеррей, он стал прощаться с ее чарующей зеленью, вселявшей покой в его душу, заполнявшей ее печалью, основой всех чувств, внушавшей ему доброту и терпимость, склонявшей его к сдержанности и трезвости. Он глубоко любил свою страну, наш Посланец; не имея детей, он любил ее так, как мог бы любить их. Он понял это тем ранним утром, когда разглядывал лицо Симоны, желая обрести бессмертие в теле, которое напомнило ему его Землю.
Поднимаясь по Прегунтойро по направлению к площади Кампо, чтобы потом спуститься к монастырю Сан-Мартиньо, он встретил Лоуренсо Педрейру, который шел от здания Святой Инквизиции в поисках Посланца.
– Не думайте, что я Вам благодарен за то, что Вы меня берете с собой, – говорит каноник.
– Это решение не мое, а Декана, – отвечает Посланец.
– Все подумают, что я – то, чем совсем не хочу быть, пусть с меня хоть кожу сдерут.
Посланец молча кивает, и Лоуренсо Педрейра вновь чувствует симпатию к этому человеку с твердым взглядом пристальных глаз, которые иногда кажутся свинцово-серыми, как у угря.
– Ну ладно, поворачивайте, пойдем обедать, ведь уже много времени, – говорит он Посланцу.
И тот вновь так и не наносит визита в резиденцию Святой Инквизиции в Компостеле.
– Завтра мы выезжаем.
Это все, что он сказал господину канонику.
* * *
Обед превращается в непрестанный разговор глаз, взгляды которых все время пересекаются, в единый ритм движений жаждущих друг друга тел, но Посланец кладет этому конец, отправляясь спать и втайне надеясь, что сиеста одурманит его и избавит от вновь забившегося у него в груди желания. Проснувшись, он спускается во двор и какое-то время сидит там, разговаривая с кобылой, тщетно пытаясь успокоиться. Ужинать будут не слишком поздно, чтобы пораньше лечь спать; Посланец хочет бегством спастись от переполняющего его желания и выехать рано утром, на рассвете. Долгая сиеста мешает ему забыться сном, и он напрасно ждет гостью, которая так и не появляется в течение всей ночи. Назавтра он встанет неудовлетворенный, угрюмый, сосредоточенный и злой.
* * *
Они отправились рано утром, спустились вниз, на улицу Франко, выехали за городские стены через ворота Фашейра по направлению к часовне Святой Сусанны, повернули в сторону Понте-Улья, миновали Сильеду и направились к Асибейро, вверх по склону Кандана, в надежде провести ночь в монастыре монахов-бернардинцев. По мере того как прибывал день, Посланец все лучше понимал, что именно вдохновляло душу каноника, остальных священников, да и всех людей этой страны: десятка три городов и городков, в которых едва ли проживало больше шестнадцати тысяч человек, и множество деревушек, разбросанных по зеленым холмам и берегам полноводных рек или ютящихся на крутых склонах гор, – здесь, на краю земли, могут жить только они, его соотечественники, в вечном противостоянии мрачному грозному морю. И вся эта земля, от глубокой долины, раскинувшейся в Коуреле, до вершины Педра-Фита и до лиманов, уходящих в безграничную морскую даль, воплощалась теперь для Посланца в человеке, ехавшем рядом с ним на крупном жеребце бурой масти, который ржал, как безумный, при виде просторов, щедро открывающихся перед ним – а может быть, от близости кобылы, кто знает?
Далеки были от Лоуренсо Педрейры интриги, которые плелись в Эскориале [75]75
Эскориал – дворец-монастырь и усыпальница испанских монархов. Расположен к северу от Мадрида. Построен в 1563 – 1584 годах Хуаном де Эррерой (1530 – 1597) по велению Филиппа II и стал его резиденцией.
[Закрыть], его совсем не заботили мавры, ибо он полагал, что нужно позволить им жить так, как им хочется, ведь они никому ничего плохого не делали. А вот что его действительно беспокоило, так это вынужденный отъезд из Компостелы, а еще мысль о том, что король Филипп больше чем следовало совал нос в дела, которые, как разумел каноник, совсем его не касались; жить самому и давать жить другим – в этом заключалась вся философия, которую Посланец мог усмотреть в сознании своего спутника.
Они прибыли в Асибейро уже затемно, и благодаря Лоуренсо Педрейре перед ними с легкостью распахнулись врата дружбы и согласия; ворота же монастыря раскрылись перед путниками еще раньше, едва они к ним подъехали. Поужинали с монахами и рано утром снова отправились в путь. Они спешили в Оуренсе, поэтому отправились не в сторону Осейры, а через Карбалиньо, спустившись по склону Масиде в долину Барбантиньо, и, выехав на низменные земли Амоейро, откуда уже виден Отец рек Миньо, прибыли наконец в городок под названием Оуренсе, в котором проживало в ту пору пять сотен жителей. Всадникам пришлось преодолеть большое расстояние за короткое время, они торопились, и беседа в пути оказалась невозможной, во всяком случае в том ключе, как того хотел бы Посланец; этому мешало также присутствие судебного исполнителя и секретаря, да еще двух слуг в придачу.
Посланец был человеком привычным к длительному молчанию, естественному во время путешествий в одиночестве; но с тем же успехом он умел вести доверительные беседы, которым благоприятствует отсутствие лишних свидетелей, возможные лишь тогда, когда у тебя есть внимательный слушатель. Это была страшная и рискованная игра, в которой Посланец решил полностью довериться своему собеседнику. Когда в тиши дворца епископа Оуренсе он наконец почувствовал, что наступил подходящий момент, он открылся канонику, выложив все, что знал, словно стремился как можно крепче связать его при помощи огромного количества тайных сведений. Этим он как бы хотел заставить Лоуренсо Педрейру еще тверже и упорнее хранить молчание; ведь настолько осведомленным может быть лишь человек, вовлеченный во все подробности заговора, а нынешние времена таковы, что просто невозможно не выложить все что знаешь при одном только виде орудий пыток. Лоуренсо Педрейра сразу же понял, в чем причина обрушившейся на него лавины признаний, и позволил себе полностью удовлетворить свое любопытство; ему уже было известно, кто такой на самом деле Посланец и какую роль ему самому предстояло играть во время их поездки. Но он выслушал все, что поведал ему новый друг, все те сведения, из которых он мог извлечь для себя какую-то пользу. Когда он счел, что больше выслушивать нечего, он сказал:
– Я богатый человек, и я принял сан священника, будучи женатым; меня только заставили заплатить штраф в размере, который был мне известен заранее. Если я так поступил, значит, это для чего-то нужно. Теперь мы вместе. Будем работать.
Посланец улыбнулся ему. Вся легкомысленность, что была присуща ребяческому взгляду каноника, исчезла словно по волшебству; теперь это был человек, которому, казалось, давно известно, каким путем предначертано ему пройти; и он идет, не зная сомнений, но и не упуская возможности насладиться всем тем, чем, помимо взятых нами на себя обязательств, одаривает нас жизнь. Настало время выполнять свой долг, он понял это, когда Декан давал ему соответствующие наставления; он выслушал их молча и не вспоминал о них до той минуты, пока Посланец не открылся ему, рассеяв остававшиеся сомнения. Им вместе предстоит плести сеть, которая должна пережить своих создателей, во всяком случае таково их намерение, и они принимаются за дело сразу же по прибытии. Странная и неожиданная дружба возникает между ними, но им приходится хранить ее в тайне, скрывая за церемонностью общения, сухостью отношений, немногословностью речи.
Посланец немедленно приступает к деятельности, для которой ему предоставлены самые широкие полномочия; он будет не только осуществлять контроль, но и сам налагать наказания; он не станет довольствоваться лишь тем, чтобы отправлять дела в Верховный совет Инквизиции после того, как уже сформулировано и обвинение, и соответствующее ему наказание, на полях помечены имена свидетелей, изложены подробности проведенного дознания и процесс закрыт; он намерен выполнять более широкие функции и принимать ответственные решения. Он начинает с проверки книг, в которых ведется запись расследований, изучает инструкции Высшей инстанции, знакомится с книгами по учету имущества и финансов, внимательно читает протоколы религиозных процессов. Затем он приступает к изучению книг, содержащих сведения о происхождении подследственных, читает тома записей гражданских и уголовных дел, приговоров и наказаний, не забывает и о книгах по учету конфискованного имущества обвиняемых и выплат свидетелям обвинения; он изучает также те книги, в которых приводятся данные о чиновниках и комиссарах Инквизиции. И по мере того как он будет прочитывать все эти материалы и делать собственные выводы о справедливости вынесенных приговоров, он постарается сообщить как можно больше почерпнутых оттуда сведений канонику Лоуренсо Педрейре, наделенному необыкновенной памятью, который будто бы едет с ним лишь для того, чтобы открывать перед ним двери местных курий – иначе они оставались бы наглухо закрытыми перед Посланцем Инквизиции, членом Святого суда. Но Инквизитора сопровождает представитель капитула Компостелы, человек известный и пользующийся доверием в стране, который – но об этом знают лишь Декан, Посланец и сам каноник – преследует еще одну, тайную цель: запечатлеть в своей поразительной памяти имена людей, осужденных Святым судом Инквизиции, потому что именно на этих людей смогут они опереться, когда станут плести свою сеть. А сеть эта должна быть густой и невидимой, ведь сквозь нее необходимо пропустить реку истории, которая сейчас в этой стране вынуждена течь вспять. В другом же потаенном уголке своей памяти Лоуренсо Педрейра будет хранить имена инквизиторов, верных королю, а также тех, что были ему неверны, ибо у сетей есть ячейки, коим моряки обычно дают особые названия.
Судебный исполнитель и секретарь присутствуют при допросах должностных лиц, которые ведет Посланец, в полном соответствии с установленной иерархией, оказывая необходимое почтение тем, кто давно и усердно служит делу Святой Инквизиции. Каноник остается в стороне, но несведущим его не назовешь. Он все узнает сначала от первого Инквизитора, потом от второго, а потом еще и от обвинителя; он добывает дополнительные сведения, выспросив по секрету нотариуса, судебного исполнителя, казначея, начальника тюрьмы, нунция и стражников, а также адвокатов, советников, судью, управляющего делами, казначейского писаря да и всех офицеров-исполнителей Инквизиции; итак, каноник окажется в курсе всего, и данными, полученными таким образом, будут располагать в Компостеле участники и руководители заговора – их немного, но все они хорошие и надежные люди.
Все это произойдет после того, как будет провозглашен Эдикт о Вере и прочитана соответствующая проповедь в Святом кафедральном соборе в последующую неделю, в течение которой предполагается поступление доносов, что, как известно Посланцу, происходит далеко не всегда. Ведь сами священники предупреждают своих прихожан. «Будем настороже, ибо здесь Инквизитор, и Бога ради, не оговаривайте друг друга и не рассказывайте ни в коем случае ничего, что касается Святой Инквизиции, иначе нам с вами несдобровать…» – скажут они жителям прямо с кафедры, предостерегая их. Но через неделю будет провозглашен Эдикт об Анафеме во время предложения даров по завершении крестного хода, и клирики станут петь псалмы: «Боже! Не премолчи, не безмолствуй и не оставайся в покое, Боже! Ибо вот, враги Твои шумят и ненавидящие Тебя подняли голову. Кто же может помочь нам, как не Ты, Боже, обратившись в гнев праведный пред нашими грехами!…»
Но пока идет неделя, отделяющая Эдикт о Вере от Эдикта об Анафеме, Посланец, вооружившись сорока девятью вопросами, пытается вызнать секреты, таящиеся в душах самих членов Инквизиции, и сделать выводы, о которых он сообщит лишь очень ограниченному числу людей. Город Оуренсе постепенно погружается в страх, клятва безмолвия ложится на уста его жителей, к нему же призывают священники; и Посланец решает посвятить больше времени собственно аппарату Инквизиции и посещает тайные тюрьмы, устроенные в местах, о которых все догадываются, но никто не знает наверняка. Инспекционная поездка должна проходить в полном соответствии со строгими правилами, установленными не Посланцем и не каноником, – малейшее изменение неизбежно приведет к подозрениям.
Посланец не испытывает особого беспокойства по той причине, что ему приходится копаться в совести инквизиторов, вскрывать заживо души людей, которым дано право судить и выносить приговоры, доносить и делить между собой добро обвиняемых, подвергать пыткам и заставлять исчезнуть в небытии себе подобных; но и удовольствия от того, с чем ему приходится сталкиваться, он тоже не получает.
На третий день инквизиторской инспекции его внимание привлекает дело Антии Мендес, жительницы Вилановы-дас-Инфантас, которая, как там указано, удавилась в темнице, где она ждала приговора по обвинению в иудаизме, после того как ее подвергли пытке на кобыле. Посланец внимательно изучает переписку, которая велась по этому поводу с Мадридом, и извлекает оттуда сведения о доносах, именах палачей, правилах, нормах, рекомендациях, как не причинить больше мук, чем это необходимо, поскольку, «исходя из опыта в этом деле, следует, что после трех скручиваний веревкой уже мало чего можно ожидать, и в этом случае не показано продолжать пытку на кобыле». Посланцу известны нормы, но теперь он видит результаты их применения. Подчас холодный пот выступает у него на лбу, и, встречаясь вечером с каноником, он так проклинает горькую историю, порожденную фанатизмом, что не остается уже никаких сомнений в его истинных убеждениях. «Про нас говорят, что мы суеверные язычники, люди невежественные и отсталые, но их цивилизация несет нам лишь смерть, мучения, слепой фанатизм». Лоуренсо Педрейра ничего не говорит, но про себя он думает, что телесные страдания проходят, а страх остается, есть нечто худшее, чем само истязание пыткой, нечто трудно определимое, оно начинается, когда тебя приговаривают к истязанию, и завершается невыносимой болью, которая может оказаться избавительной; это осуждение, приговор, заточение в темницу – там с тебя сорвут одежду, оставив беззащитным в твоем позоре, безгласным перед твоими мучителями; это невозможность сопротивляться, когда тебя положат на кобылу и привяжут веревками, и при первых же поворотах рогатины они жестоко врежутся в твое тело. Вот о чем говорят два друга жаркими летними ночами в Оуренсе. Если бы в Португалии не было еще хуже, чем здесь, надо бы бежать и бросить все, но бегство ничего бы не изменило, тем более что Посланец хорошо знает: оно невозможно, поскольку его страна – как бы последняя комната по коридору. Именно такое ощущение вызывает в нем жизнь в Галисии. Нельзя бежать за рубеж, ибо рубеж – это океан или граница со страной, где свобода тоже не поднимает головы. И тебе кажется, что ты окружен, раздавлен, и это чувство толкает тебя к бегству морем, а не к отступлению по земле. Счастливы народы, живущие в странах, имеющих границы со всех четырех сторон, ибо по крайней мере с одной из них рано или поздно придет свежее, живительное дыхание! Но на нашу землю уже долгие века дует лишь пыльный ветер с месеты, и он проникает сквозь щель под дверью, которая открывается только с той стороны; это все равно что быть заключенным в последней камере по длинному коридору. Бежать невозможно, ибо в остальной части общего дома обитают нетерпимость и фанатизм, и именно из тех, других, комнат приходят унижение и гнет; освободить нас сможет одна лишь хитрость; а наша свобода подарит избавление остальным. Потому что в нашем общем жилище только мы сможем вымести все наружу.
Подчас жарки и нескончаемы ночи в Оуренсе, на холме Пена-де-Франсия, на берегу Отца рек Миньо соловей поет песню, которую он давно выучил наизусть, и в тайную тюрьму Инквизиции начинают поступать первые обвиняемые, первые жертвы доносов, вызванных тысячами причин. Близится к завершению тяжкий труд Посланца по изучению книг и проверке людей, и он знает, что уже недалек тот час, когда ему придется проникать в души своих земляков, чтобы разобраться, где их вина истинна, а где нет.
* * *
Прочитан Эдикт об Анафеме, и Посланец спускается в тюрьму, где содержится первый обвиняемый. Это молодой парень с испуганным лицом; Посланец бросает на него взгляд и сразу же возвращается в помещения первого этажа, где его ждет документация; там он восстанавливает в памяти облик юноши, которого он почти осязаемо ощущает прямо под собой, в подземелье, и размышляет о предъявленном тому обвинении. Посланец не знает, какую уловку применить, чтобы наилучшим образом выйти из положения, он остро чувствует отсутствие каноника, он так бы ему помог, хотя бы за счет молчания, которое они оба хранят с тех пор, как по необходимости приступили к общей работе. Наконец он уже собирается открыть дело и прочитать его, но в дверь стучат, и в комнате появляется низенький, коренастый, бедно одетый человечек, всем своим видом пытающийся изобразить силу, которой на самом деле у него нет; человечек здоровается с непременно подобающей случаю почтительностью и представляется: он – священник церковного прихода Пиньор-де-Сеа, к которому принадлежит обвиняемый, ожидающий допроса внизу. Вновь пришедший не дожидается, пока Посланец прочтет документы, а в нескольких словах вводит его в курс дела:
– Внебрачное сожительство – это не грех, скажу я Вам; если девка сама вешается на шею, значит, она сама того хочет, ей такое по нраву, тут никто никого не обидел, а нет обиды – нет и греха. А коли никому от этого не худо – почему мы должны за них решать? А потом, послушайте, о чем там еще говорить, если в Писании сказано: «Crecite et mul-tiplicamini et replete termm»! [76]76
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю (лат.). «Плодитесь и размножайтесь…» – Быт. 1:28.
[Закрыть]
Посланец думает, что пусть грубоваты, но верны слова этого священника, пришедшего издалека, чтобы защитить овцу из своей паствы, которая в страхе томится там, внизу, но он знает, что не должен выдавать своих мыслей, и он грозится, что если священник будет упорствовать в своих суждениях, то обвинят и его. Потом Посланец велит привести узника в камеру для допросов. Но святой отец из Пиньор-де-Сеа не унимается:
– Так вот, они приходили ко мне за советом, и я сказал им, что это не смертный грех, я сказал им это в исповедальне, исповедоваться-то им в этом нужды не было.
Посланец начинает терять терпение: поведение приходского священника может быть провокацией, и тогда нельзя ему потакать. Он согласен, он чувствует, что согласен с этим простым и добрым человеком, который, скорее всего, спит со своей служанкой, а может быть, у него есть жена, как у Лоуренсо Педрейры, – прекрасная Симона. Она вдруг возникает в его памяти, помогая укротить порыв, с которым он, казалось, уже не в силах был справиться, он уже готов был сорваться, но сладостное воспоминание о теле девушки смягчает бурю в его душе, наполняет его нежностью и блаженством и даже позволяет изобразить гнев, которого он не испытывает. Посланец должен проявить твердость, он не смеет не наказать за подобные дела, ведь за прелюбодействующими с такой тщательностью охотятся в Кастилии; он хорошо знает, что может быть снисходителен по отношению к чиновникам и священникам Инквизиции, проявлять терпимость в случаях служебного злоупотребления и взяточничества, краж и козней, но ему также хорошо известно, что он должен быть неукоснительно строг, когда речь идет о прелюбодействе и провозе книг. Он должен пресекать в корне всяческую безнравственность, но он знает, что против любви, против плотского желания бессильна всякая Инквизиция, эти чувства всегда будут жить в душе человека, и, чтобы они ушли в небытие, нужно, чтобы прежде исчезли услада долин, красота заливных лугов, зелень рощ, чтобы вся страна обезлюдела и превратилась в нечто невообразимое. Он знает: любовь неистребима, и поэтому он готов сурово ее наказывать. Лишь таким образом он сможет оправдать снисходительность по отношению к прочим проступкам, за которые он должен карать; ведь если он хватит лишнего с контрабандой книг, то в конце концов сможет разрушить сеть, которую никому не удастся восстановить еще много лет. Связи, отважные люди, рискующие жизнью, чтобы тайно провозить книги, встречаются не всегда и не везде, – это редкое порождение определенной эпохи, и он не имеет права допустить, чтобы долгие годы прошли впустую. Посланцу придется быть добродушным, не слишком строгим и лишь внешне нетерпимым в гонениях на тех, кто привозит книги в Галисию, а вся его непреклонность воплотится в беспощадности, с какой он обрушится на дела любовные. Это станет его охранной грамотой.
Образ Симоны вновь встает перед ним, но теперь его любовь к ней приобретает новое качество, которое он в состоянии проанализировать, ибо был готов к этому: подобное состояние всегда возникает из противоречий, а сейчас он переживает один из самых противоречивых моментов в своей жизни, и он только что открыл для себя ключ к своей собственной безопасности, к собственному выживанию: он должен карать любовь между людьми, открывать их грех пребывающим в неведении, связывать их чувством вины для того, чтобы затем, быть может, освободить их благодаря книгам. О, что за горестная страна, навеки приговоренная лишаться свободы, чтобы вновь приходить к ней через страдание! Горестная страна, вновь и вновь выбирающаяся из одних дебрей, чтобы попасть в другие! Из этого напряжения его души возникает в нем любовь к Симоне и дружба к Лоуренсо, и они столь сильны, что его охватывает страх перед обетом этих чувств, ибо предаться им означает попасть в зависимость, которая ограничит его и не даст ему летать так свободно, как до сих пор. Сознание того, что он может попасть в зависимость, злит Посланца, приводит его в ярость и заставляет терзаться сомнениями. Его тяготит мысль о том, что он может заблудиться на путях любви. Любовь должна покоиться на отвлеченных понятиях, ибо только они не таят в себе опасности; большая любовь – это всегда любовь освободительная, она зиждется не на том, что смертно, а на том, что умереть не может, что переживет и нас самих, и даже историю, которую мы помогаем ковать; такова любовь к Родине, высокие идеалы. Но любовь к людям если и не умирает вместе с ними, то умирает вместе с нами, она не переживет нас, не имеет продолжения. Любовь детей – это иное, а по отношению к другим людям любовь не может пережить нас самих. Но зато в ней есть зависимость, есть нежность, есть услада, есть чувства благородные или низменные, гнев и ревность, отвращение и пресыщенность, и любое из этих чувств может выдать нас в самый неожиданный момент, может сделать нас ничтожными или благородными, поднять к высотам непорочности или ввергнуть в пучину подлости, в самое неподходящее время вселяя в нас человечность и обнажая наши слабые места, нашу полную беззащитность. Если бы сейчас Посланец пошел путем захватившей его любви, он бы освободил приходского священника и отпустил на свободу юношу с испуганными глазами, который ждет его там, внизу; и тогда восторжествовал бы образ Симоны; но он знает, обязан знать: он должен заставить страдать нескольких, немногих, чтобы этой ценой избавить от страданий многих других. Это все тот же вечный спор о цели и средствах. Вчера, во время долгой прогулки в Ойру по берегу Миньо, Лоуренсо Педрейра уверял его, что средства сами по себе уже являются целью и что нет ни одной цели в мире, которая могла бы их оправдать. Посланец вспоминает об этом сейчас, зная, что будет вынужден применить средства, в которые он не слишком верит, чтобы достичь целей, являющихся, по его мнению, благими и возвышенными. Он вспоминает рассуждения Лоуренсо и интуитивно чувствует, что тот прав; более того, он понимает, что общая цель, цель всеобщего освобождения – это не что иное, как скрытое стремление к собственной безопасности; он готов осудить ради собственной безопасности, чтобы самому быть свободнее.
Определенно любовь делает человека добрее, а высокие цели – не более чем слова. Возможно, концепция, предложенная Лоуренсо Педрейрой, наименее неверна, а философия, из нее проистекающая, если не самая справедливая, то по крайней мере наименее оскорбительная, наименее вредоносная. А если нет обиды, то нет и греха, потому что нет зла. Выходит, старый приходский священник из Пиньор-де-Сеа, старый необразованный священнослужитель, которого в Мадриде сочли бы суеверным язычником, прав. Где нет вреда – нет зла, где нет зла – нет вины. Но ведь нас преследуют, говорит себе Посланец, а богам приходится приносить жертвы, даже если это чужие боги, ибо наши не столь жестоки и кровожадны; итак, нужно принести им в жертву, забить на жертвеннике барашка, на которого они укажут, чтобы спасти остальное стадо, мысленно повторяет Посланец; и он встает и велит задержать господина приходского священника из Пиньор-де-Сеа. Потом он спускается в камеру, чтобы допросить юношу с испуганным взглядом.
* * *
Парню с испуганным взглядом двадцать четыре года, позавчера ночью он стерег хлеб на гумне своего хозяина.
– Я всю ночь глаз не сомкнул, и, когда пришел хозяин, он честно меня поблагодарил.
Посланец улыбается. «Ну, я думаю, ты здесь не поэтому». – «Нет, господин, нет. Я здесь потому, что хозяин велел, чтобы я хлеб стерег, как положено, а с девками чтобы не тешился, не умножал бы в здешних местах смертный грех. А я и сказал ему, что одно дело за хлебом приглядывать, мне это делать положено, я на совесть и делаю, коль хозяин меня послал, а девицы – совсем другое, и чтоб с ними тешиться – так ничего дурного тут нет». Посланец начинает разбираться в том, что произошло. Парень наверняка заявил, что «коль неженатый мужчина спит с незамужней женщиной, то греха в том нет», а в душе хозяина зашевелился страх, который вселило в него слушание Эдикта о Вере: ведь на гумне собираются соседи и затевают спор, такие уж нынче времена, и болтают они кто во что горазд; есть среди них и те, кто трепещет перед угрозой отлучения от Церкви, которое будет провозглашено в ближайшее воскресенье, когда священник волей-неволей вынужден будет громким голосом прочитать Эдикт об Анафеме.
Итак, жители Пиньор-де-Сеа вступают в спор. На острове Онс, когда людям приходилось разрешать споры, они спускались в тростниковые заросли, вооружались тростинами и принимались бить ими друг друга по спине, пока не обессилевали от усталости, но тело-то у них оставалось целым и невредимым, и не было ран, которые могли бы привести к сколь-нибудь серьезным потерям в этой отрезанной от мира провинции у самого выхода в океан. Таков был способ их выживания. В других местах Галисии спор требует большего умственного напряжения, но, пока в нем преобладает разум, можно не опасаться, что произойдет что-нибудь страшное; опасность таится лишь в противоречии здравому смыслу, которое возникает, когда спор вступает на путь «или да, или нет»; тогда уже не требуется никакого усилия, чтобы оправдать упорство спорящих. Если вы уж вступили на абсурдный путь, пролегающий между «да» и «нет», то в ход могут пойти серпы, и, возможно, какая-нибудь мотыга проломит голову, ранее вполне разумную. Сейчас спор течет еще по привычному руслу, но страх уже появился. Это – ощущение некой высшей силы, пришедшей издалека, над которой никто не властен; ужас перед чем-то чужим, никому не ведомым, против чего сам приходский священник предостерегает своих прихожан, – именно это вселяет страх в спорящих, всех, кроме парня, который сейчас глядит испуганно, но тогда его взгляд был тверд и ясен. Вот что он говорил тогда:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































