Читать книгу "Ностальгия – это память"
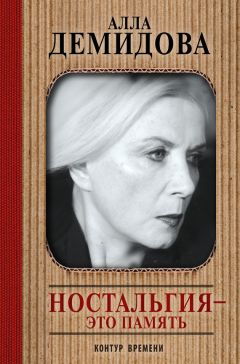
Автор книги: Алла Демидова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Через какое-то время моя приятельница Наташа Рязанцева сделала ремонт в своей квартире и облицевала кухню плиткой, которая почему-то называлась «кабанчик» – коричневая узкая плитка. Как-то я встретила Беллу Ахмадулину. Она меня спросила про общих знакомых, и я рассказала, что Наташа Рязанцева занимается ремонтом и облицовывает кухню «кабанчиком». «Кабанчиком?! Нашим Кабанчиком! Размазывая по стенам!.. Как можно жить!..» – запела Белла.
В одну из весен в Ялту приехал и Булат Окуджава с женой Олей. Человек он тихий, замкнутый, однако мы хорошо общались, куда-то ходили, разговаривали. Отыскали новую дорогу для прогулок – узкое ущелье, закрытое двумя горами. Помню, как мы выбирались оттуда – незабываемо прекрасно!.. Булату очень понравилось гулять вместе, потому что я им с Олей открывала Ялту, и когда они уезжали, он сказал: «Ну, хорошо, Алла, до Москвы». Я говорю: «Москва – разлучница». И в Москве мы действительно мало общались, хотя я его иногда встречала у Бори Биргера, когда мы устраивали там кукольный театр. У нас была даже кукла Булат Окуджава. Есть фото: Окуджава сидит, а я стою над ним с его куклой. Но тем не менее мы не общались уже так много, как в Ялте.
Потом прошло какое-то время, я читаю роман Окуджавы «Путешествие дилетантов», и где-то к концу один персонаж – другому: «…как говорит наша прекрасная актриса госпожа Демидова, Москва – разлучница». Я подпрыгнула до потолка и в следующий раз, увидев Булата, рассказала, как это было для меня неожиданно. Он говорит: «Да? Я даже хотел там написать „наша превосходная актриса“, но редактор меня остановила, поэтому определение менее восхитительное». И надписал книжку: «Алле Демидовой, вдохновившей меня на фразу в этой книге».
Однажды мы с Борей пришли к нему домой в Безбожный переулок. У него над столом был иконостас портретов, были там и не знакомые мне люди, и портрет Набокова. И вдруг я увидела свою фотографию, причем – открытку Бюро кинопропаганды, ужасную. Я спрашиваю: «Почему?!» Ответила Оля: «Потому что вы – его любимая актриса…»
Из дневника
1987 год
21 июня
Гости у Бори Биргера. Оживленный, не похожий на себя Булат. Оля рассказывала, что Булат боится икон, креста, церкви. Недавно она его крестила и освящала квартиру.
Зовут друг друга «Мишенька». Например: «Мишенька, там на стене крест». – «Ну и что, Мишенька, это к добру…»
Как-то меня попросили вести концерт Окуджавы в Доме актера на Тверской. И я целый вечер была с ним на сцене, проделывая работу, для меня очень не свойственную: брала записки, что-то отвечала, «раскручивала» его на какие-то песни и т. д. А потом, когда вечер кончился, он мне даже не сказал спасибо. Только Оля напомнила: «Булат! Ты скажешь Алле спасибо за то, что она крутилась с тобой на сцене?» Он: «Да? Ну хорошо». В этом – его немногословие, несуетность, спокойствие и, может быть, некоторая жесткость.
Когда был его юбилей в театре Райхельгауза, на площади перед театром стояла толпа. А он, такой же несуетный, сидел с семьей в ложе, так же спокойно, как в Ялте, как дома, как за столом у Бори, – сидел и смотрел, как его восхваляли со сцены. И только поморщился, когда Ярмольник вышел и подарил ему телевизор. Его явно покоробил этот купеческий жест.
Получив дачу в Переделкине, он там жил один, потому что Оля жила в городе с их сыном Булатиком, и он приглашал к себе, очень любил гостей. Но – «Москва – разлучница» – я там была всего один раз и запомнила только его коллекцию колокольчиков. Я сказала: «У меня тоже есть колокольчики, надо бы нам обменяться одинаковыми». Так это и повисло в воздухе.
«Ореанда», старая гостиница на набережной Ялты, была предметом наших разговоров и зависти. Там иногда жил кто-то из писателей, и мы приходили туда в гости. Видимо, ее стены сохраняли какую-то старую атмосферу. Там было кафе – пристроенная веранда, и к пяти часам мы сползали с холма Дома писателей, чтобы выпить там кофе. Это был ритуал. И в это же время, видимо – тоже ритуал, туда приходили девочки-путанки. Они в основном «работали» с югославами, которые строили гостиницу «Ялта». Я их всех знала по именам и каждый год, приезжая, спрашивала, например: «А где Люся?» – «Ей посчастливилось, она вышла замуж за югослава и уехала в Югославию». – «А где такая-то?» – «Ой, ей посчастливилось, она…» Но ни разу ни одна из них не вышла замуж за литератора…
Когда я писала эти заметки, неожиданно наткнулась на старые листы бумаги, исписанные моим торопливым почерком. Я вспомнила, как мне неожиданно позвонила Фаина Георгиевна Раневская, с которой я не была знакома. Звонков было несколько, я что-то тогда успела за ней записать. Причем я не удивилась звонку – сейчас считаю это странным для себя, но тогда по молодости казалось вполне естественным, что старая актриса звонит молодой. Времена были другие, и я сегодня не стала бы звонить другой незнакомой актрисе, даже если бы она мне очень понравилась. С возрастом закрываешься от людей.
Я, пожалуй, приведу отрывки этого разговора, думаю, что это тоже знак «утраченного времени».
– Алла Сергеевна, здравствуйте.
– Здравствуйте, Фаина Георгиевна.
– Откуда вы узнали, что это говорю я?
– Ну кто же вас не знает? (Ваш голос да не узнать!)
– Спасибо. Я с вами не знакома и не принадлежу к людям, которые любят звонить незнакомым, но вчера я посмотрела «Любовь Яровую», в этой пьесе я когда-то в молодости играла. Вы меня потрясли. Так точно сыграть роль. Такой акварелью, но в этой акварели точные акценты масла большого мастера. Я вас не видела на сцене, но мне говорили, что вы хорошо играете Гертруду в «Гамлете».
– Я бы сейчас предпочла вам показать Раневскую в «Вишневом саде».
– Да, мне тоже про нее говорили. Про мою однофамилицу. И тоже хвалили. Но у меня уже много лет астма, и ходить в маленькие театры я не могу, ни к Любимову, ни к Эфросу, а в больших смотреть нечего.
В другой день:
– Я, Алла Сергеевна, недоношенная. Родилась недоношенной, в семь месяцев, и умираю недоношенной. В кино играла какие-то… простите, Алла Сергеевна, я человек прямой и буду говорить прямыми словами из словаря Даля, вы не возражаете?
– Нет, нет, ничего (испугавшись этих «прямых» слов).
– Так вот, в кино играла какие-то говенные роли, за них до сих пор стыдно, а в театре этот длинный лилипут, Царство ему небесное, ничего не давал мне делать.
– Но, может быть, в этой некоторой зависимости и есть ваша тайна? Потому что за этим стоят неиспользованные возможности, глубины. Вы сумели сохранить человеческое достоинство и в театре, а это трудно, вы сами знаете, и в жизни. Я вас не видела ни разу на сцене, но в кино помню по старым фильмам, и то по детским воспоминаниям, но вы все равно остались, простите за прошедшее время, целой эпохой. Ваши крылатые словечки ходят по Москве, все знают, что рядом живет Раневская, талантливый, умный, честный человек.
– А какие вы слышали словечки?
– Ну, про театр и сортир, например.
– Да, да, там плывешь стилем баттерфляй…
К сожалению, больше я ничего не записала за ней, но помню, что мы говорили о собаках, она рассказала про своего Мальчика – бездомную собачку, которую Фаина Георгиевна подобрала на улице. Она говорила, что сейчас ей трудно с ним выходить гулять, я предложила приходить, чтобы выгуливать Мальчика, но «Москва – разлучница», и мы с Раневской так и не встретились.
Вид из окна Анатолия Слепышева
Новое в искусстве всегда воспринимается с трудом и не сразу. Все непривычное вызывает непонимание, а непонимание вызывает раздражение. Не принимают иногда с одинаковой силой и невежды, и профессионалы. Общеизвестно, как Хрущев кричал на художников в Манеже 1 декабря 1962 года: «Осел хвостом может лучше…»
А еще раньше один прекрасный профессионал не понял и не принял другого – Вебер о 7-й симфонии Бетховена говорил: «Экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Видимо, так было и будет во все времена: Лев Толстой считал Шекспира плохим драматургом, а самого Толстого не любил Тургенев.
В 1974 году в Битцевском лесопарке на картины художников, вынужденных выставлять свои работы под открытым небом, пошли бульдозеры. Так теперь и зовут те выставки середины семидесятых – «бульдозерными».
Хороших и разных художников в ту пору было много. Они хотели выставляться, хотели найти своего зрителя, иногда им удавалось «пробить» какой-нибудь подвал и устроить там выставку, на которую шла «вся Москва». А в основном работы их можно было увидеть у них же в мастерских, тоже запрятанных на чердаках и в подвалах…
Много лет назад в Афинах я была в гостях у знаменитого коллекционера Костаки. Он был уже смертельно болен. Но его дочь Лиля показала мне их галерею (теперь, к сожалению, не существующую), которая была буквально набита живописью прекрасных художников-«лианозовцев»: Краснопевцева, Рабина, Целкова, Купера, Штернберга… В комнате самого Костаки висели всего три картины – это был Слепышев.
С Толей Слепышевым меня в свое время познакомил Эдисон Денисов. И я стала часто бывать в маленькой темной мастерской Слепышева в бывших складских помещениях за ГУМом. Водила туда своих друзей.
Слепышева покупали в основном иностранцы, рано распознавшие, что приобретать, что нет. А когда в 1989 году его работы были проданы на московском «Сотбисе», Слепышева начали покупать и Третьяковская галерея, и Русский музей, музеи Германии, Америки, Греции. Его картины есть у семьи Бориса Ельцина, у Франсуа Миттерана, Жана-Поля Бельмондо, Эльдара Рязанова. Катрин Денев записала в книге отзывов на парижской выставке: «Слепышев – великий художник. В его работах – сочетание трагедии и радости, что, возможно, и есть суть русской души».
О Слепышеве я слышала разные, иногда противоречивые, мнения. У меня дома висят несколько его работ, они спокойно уживаются рядом с Фальком, Тышлером, Шухаевым, Нестеровым, Биргером, Эрнстом Неизвестным.
Сам художник с виду под стать своей маленькой темной мастерской: походит то ли на парижского клошара, то ли на нашего забулдыгу (да простит мне Толя это сравнение). И на картинах его наша немудрящая жизнь: расхлябанная дорожная колея, пьяные мужики и бабы, покосившиеся новостройки, продуваемое ветрами пространство и бесконечное небо. Но такими чистыми и яркими красками все это изображено, таким незамутненным взором увидено!.. Живописец!
И вот я заметила, что Слепышев стал обращаться к библейским сюжетам. О том, что они библейские, догадываешься лишь по их атмосфере, ибо на картинах все те же мужики и бабы, которые живут рядом – пашут землю, ловят рыбу, пьют, едят, любят.
– Толя, как вы выбираете сюжеты, как они вам приходят в голову?
– А как к поэту приходят сюжеты? Когда человек постоянно пишет, сюжет возникает сам по себе. Как-то летом на даче я читал книжку про Мане. Обычно эту искусствоведческую лабудень я не люблю, а тут, случайно открыв книгу, понял – нравится. И в ней я наткнулся на сюжет – Христос с учениками в тюрьме. Ученики моют ему ноги. Я подумал: в любые времена любому начальнику подчиненные, выражаясь фигурально, мыли ноги. В тюрьмах пахану тоже моют ноги. В каждой организации пахану моют ноги. Так у меня возник сюжет к картине «Омовение ног». Однако прошло три года, прежде чем я написал саму картину. Или – «Очередь за молоком». На той же даче я ходил за молоком для своей маленькой дочки. И вдруг однажды на обычную ситуацию посмотрел другими глазами: увидел нашего продавца одноглазым кровожадным пиратом. Почему я проходил мимо этого сюжета? Я обрадовался. А когда стал компоновать картину – намучился. И тоже прошло года три. Дома, когда делать нечего, я постоянно рисую. Бесконечно. В день по сорок рисунков. И когда понимаю, что что-то есть, переношу этот рисунок на большой листок и, если получается, – на холст. В год возникает приблизительно два-три сюжета. Пишу каждый день одни и те же. Меня всегда в них что-то не устраивает. Но если понимаю, что получилось здорово, – больше к этому сюжету не возвращаюсь.
– К каким сюжетам вам не хотелось бы возвращаться?
– А черт его знает! Не помню. Вот, например, у меня есть много картин на тему «Тайная вечеря». А мне все равно не нравится. Попробовал одно состояние – не нравится, другое – тоже. Попробовал вывести на первый план женщину – плохо.
Раньше какой-нибудь Репин или Серов работали одну картину несколько лет. «Утро стрелецкой казни», например. А сейчас мы занимаемся экспромтами. Много технологических эффектов. Абстрактный абстракционизм. Корни – в японской культуре. Ну что такое Матисс? Это знак. Кажется, хулиганство, а ведь невозможно повторить. Все строится на точности знака.
– Знак же легко повторить.
– Нет. Не будет нерва первооткрывательства. Можно стихи написать под Ахматову, но Ахматовой там не будет, потому что у Ахматовой за строчками вся ее жизнь.
– Но в живописи, говорят, можно написать подделку, которую даже опытный эксперт примет за подлинник.
– Эксперты ошибаются. Им выгодно, поэтому они и ошибаются. Художник никогда не ошибется, подлинная это вещь или подделка…
Можно рисовать Бога и путь на Голгофу и остаться салонным художником, а можно рисовать пьяных баб и краснолицых мужиков и быть на служении Духа. Ведь живопись не только отображение визуального интереса к миру, даже если художник говорит своим полотном: посмотрите, какой красивый закат, какое красивое дерево, какое удивительное лицо. Хорошая живопись – прежде всего отражение основных проблем духовной жизни человека. Я заметила: почти все хорошие художники любят «философствовать», и почти всегда в их теориях есть своя стройная система, свое гармоничное обоснование мира и жизни. Во всяком случае, в любом произведении искусства главное – концепция, идея. И убеждение, что именно эту идею до тебя никто так и не претворял в жизнь.
Готовая картина – трансформация чувств и идей; рука, кисть или карандаш – проводник этих чувств и идей. Форма как средство, а не как цель. Цель – выразить свое мировоззрение, которое проходит через все творчество, через все картины, пишет ли художник просто дерево, или пьяную драку, или «Тайную вечерю».
Картины Слепышева иногда кажутся незаконченными. У меня дома есть его «Охота». На переднем плане быстрыми мазками летит в беге борзая. На заднем – крадущиеся фигурки охотников, а между ними – огромное серое пространство, которое дает ощущение бесконечности, хотя картина сама по себе небольшая. Кажется, что художнику просто надоело возиться и с собакой, и с деревьями, и с людьми и он от нетерпения замазал серой краской середину холста. Может быть… Но нам, зрителям, ясна не только мысль о бесконечности пространства, заложенная в картине, но виден и сам процесс мышления, а главное – созидания этой работы. Мне кажется, стремление вовлечь зрителя в творческий процесс, сделать его соавтором – одна из основных черт современного искусства.
Все сюжетные композиции Слепышева находятся в действии. Вот мужичонка в расхлябанной телеге уезжает от беременной жены. И лошадь, и телега, и сам мужичонка проработаны, вернее – не проработаны, одним коричневым цветом. На белом холсте – зыбкая фигура женщины, чахлое дерево и кусок земли, дающий ощущение всего земного шара. Все зыбко и противоречиво, хотя всё – в гармонии одного мазка, одного замысла. Или другая картина: лунный свет, дерево, женщины, пасущаяся невдалеке лошадь. Опять много белого, непроработанного холста, но спокойствие лунного света и лежащих под деревом женщин динамично, ибо и здесь мы видим, что всё – и дерево, и лунный свет, и женские фигуры, и лошадь – с одной стороны, слито в гармонии, а с другой – существует отдельно, внутренне борется друг с другом.
В картинах Слепышева не может быть застывшего состояния. Всё в движении и противоборстве. Летающие мужики в других его работах никак не напоминают персонажей Шагала: у Слепышева в этом полете заложена ярость противоборства со стихией и с собой.
– Толя, что, по-вашему, самое главное в мастерстве?
– Когда не видно трудностей, не видно узелков, когда двумя-тремя фразами, интонацией, впечатлением передается суть. Чем крупнее художник, тем больше информация, а форма может быть при этом простейшей.
– Вы быстро пишете?
– Да, быстро. Делаю очень много вариантов. Вот «Распятие» – тоже долго возился с этим сюжетом. Сейчас перед вами последний вариант, и он мне пока нравится.
– Чем?
– Пространством. Я попытался сделать объем. Вроде бы традиционные вещи, но ход другой. Всё как будто небрежно, аляповато, наспех, а есть состояние. Виден технологический процесс, краска как бы живая… Я не хочу добиваться пространства или объема школьными методами. Пространство у меня дает только цвет. Все должно быть на плоскости, глубина – за счет окраски пятна.
– Когда вы писали этот вариант «Распятия», вы входили во внутреннее состояние персонажей, как это делают актеры или писатели?
– Нет. Меня прежде всего интересовало столкновение чувств – ведь люди присутствуют при казни. Обратите внимание, какой тупой сверху красный цвет. Здесь нет ничего случайного, ни одного мазка. Вот, например, на переднем плане – белый мазок: уберите его – и все развалится. Хотя, конечно, думать об этом не надо. Вы же не думаете о дикции, читая «Реквием»…
Я не всегда согласна со Слепышевым, когда мы говорим с ним о кино, театре или живописи, но беседовать с ним люблю. Он бывает в курсе почти всех событий в искусстве. До знакомства с ним я часто видела его на концертах, тогда еще редких, так называемых авангардных композиторов – Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Сони Губайдулиной. И хоть часто он бывает пристрастен, оценки его очень точны, он откликается на все новое в искусстве. В этом смысле у него безошибочный вкус. Внутреннее чутье. Он любит показывать свои работы людям, творчество которых он ценит.
Каждый человек смотрит на мир по-своему. И если удается рассказать об этом людям, показать мир через Свое Окно – это и есть свойство таланта. Картины Слепышева очень эмоциональны, хотя в жизни он, по-моему, очень спокойный человек, всегда ровен. Я заметила, что большие художники, большие музыканты или актеры, то есть люди, одаренные тонким чувством меры, верным вкусом, ясным умом и хорошим воображением, как правило, в жизни очень устойчивы в своих эмоциональных проявлениях. Переживаем мы, зрители, а они, своим талантом провоцируя наши чувства, только наблюдают и изучают. Может быть, я заблуждаюсь, но, глядя на картины Слепышева – и ранние, и поздние, – невозможно заметить ничего мелкого, суетного. На мир он смотрит спокойно и ясно.
– Толя, я не вижу разницы между вашими ранними и поздними работами.
– В ранних есть обаяние задиристости, непосредственности. Сейчас я более сухой, делаю то, что запрограммировано. Нет случайности. Раньше я писал и смотрел, что получится, и удачное брал на вооружение. Я не был противником шаблона. Шаблон, доведенный до мастерства, – это уже канон. Сейчас шаблонов у меня меньше, больше доверяю мастерству.
– Ваш евангельский сюжет – это канон?
– Любой сюжет – повод рассказать про сегодняшнюю жизнь. Что такое крестный ход? Канон? Да. Но это жизнь, связанная с насилием, жестокостью, искуплением. Для меня крестный ход – это когда берут человека и волокут его убивать. Я не видел, как Сталин расстреливал миллионы, но я видел другое, у меня в «Крестном ходе» – современные люди. Меня интересует борьба чувств, ведь не все же одинаково реагируют на насилие, тем более такое! Иногда художник пишет тот же «Крестный ход», и всё у него есть – и мастерство, и сюжет, – а искусства нет. Я много преподавал после института: сразу видно, хорош рисунок или плох. Иногда просто случайно тронул кистью – а уже искусство.
– Что такое искусство?
– Это таинство. Художник создает еще одну жизнь. Как Бог. Деревья – что такое? Жизнь! Заставить волноваться при соприкосновении с тем, что ты сделал, – в этом искусство.
Я записываю за Слепышевым его ответы на мои, иногда провокационные, вопросы, а в это время Толя показывает мне и моим друзьям свои картины – одну за другой… Поток мирового пространства, куда вовлечено все сущее: звери, деревья, люди. Все завихрено мировым ураганом – от этого картины так динамичны. Чувственность и мысль неразрывно связаны. Сновидческое, наивное, детское сознание. Плоть, которую он изображает, груба и примитивна, но насилие, присутствующее в его сюжетах, неагрессивно, как нет агрессии в скульптурных древнегреческих портретах, даже если изображен поединок двух воинов. Нет насилия над духом.
– Толя, вы человек добрый?
– Незловредный.
– Можно житейский вопрос?
– Давайте. Вот тут я точно навру.
– У вас не было ощущения, что вам надо сменить быт, мастерскую и от этого, может быть, в работе пойдет что-то другое?
– Я был в Париже недавно. Два месяца. Жил как бог. Но я там не нужен. В Крыму, в Никитском саду тоже красиво, но я не ботаник. Здорово, но не мое. Много красивых женщин, но я тут при чем? На Западе нужен дизайн. Искусство там не нужно.
– А нам нужно?
– Мы же изголодались по настоящему искусству! Вот была выставка Малевича – толпы. Ничего не понимают, а идут!
– Если у вас такое пренебрежение к зрителям, кому вы хотите показывать ваши картины?
– Тем, кому они интересны. Я ведь иногда на свои картины смотрю глазами зрителя. Когда один скажет «хорошо» – я ему не верю: мол, много ты понимаешь! А когда уже много людей скажут «хорошо» про одну и ту же вещь – я начинаю смотреть на нее по-другому.
– Вы легко расстаетесь со своими работами?
– С удовольствием.
– А когда встречаете их вновь?
– Очень нравятся.
– Толя, вы скромный человек?
– Не бывает художников скромных. Они могут страдать, сомневаться, терзаться. Самоутверждение – в сравнении. Вы-то сами про себя все знаете, кто бы что ни говорил…
И все-таки вместе с женой и дочерью Слепышев уехал в Париж. Пробыл он там шесть лет. Дела у него шли хорошо: были выставки, картины покупались. Дочь училась в Парижской академии художеств.
Летом 1992 года я по своим делам была в Париже и, конечно, сразу же позвонила Слепышеву. Мы сговорились встретиться. Долго перезванивались, как найти мастерскую, – она далеко. Наконец, поскольку у меня была машина и я за рулем, я в проливной дождь заехала за Толей, и вместе с ним мы поехали в его мастерскую. В этом доме – мастерские многих художников. Комната небольшая и, по погоде, пасмурная. Толя показывал свои новые работы. Манера письма изменилась, да и сам он другой: без бороды, лицо жесткое, энергичное. А картины, наоборот, потеряли тот неповторимый, энергичный слепышевский мазок, стали как будто более реалистичными. Вокруг реалистичного пейзажа или сюжетной сценки появилась нарисованная рамка. Раньше его работы в рамках не нуждались, рамой была стена, на которой они висели, их обрамляло пространство…
– Толя, зачем эти рамки?
– Нужно оформление для широкого, разбросанного, экспрессивного. Нужны границы. С этими рамками получаются две энергии: рамка – безрассудная, бессюжетная, а внутри – мой сюжет.
Сюжеты у Слепышева те же, русские: лес, река, лошадь, бабы, мужики. Рамка – западная, а-ля живопись Поллока, например. Иногда рамка белая, чистый холст. При этом светлые, почти белые сюжеты – очень красиво. По белому полю рамок иногда идут подписи. Сюжеты часто напоминают старые, стершиеся византийские фрески. Отара овец – явно библейский сюжет. Ни в России, ни во Франции таких нет. Порой на одном холсте расположены три сюжета: например, справа Кремль и Василий Блаженный, слева – безымянная церковь, а посередине – бульвар, люди на нем, а на лошади – дама в длинном розовом платье. И на белом фоне рамки – черная подпись из Ахматовой:
Не повторяй – душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.
– Толя, мне кажется, вы пытаетесь соединить несоединимое: тому, кто любит абстрактные полотна Поллока, не нужны ваши сюжеты, а кто любит реализм в живописи – того будет раздражать абстракция.
– Может быть. Но я стал понимать, что топчусь на месте, и стал искать. В творчестве ведь всегда есть взлеты и падения. Ошибки должны быть. Здесь, на Западе, боятся отступать от найденного пути, если путь выгоден. Я, например, за последние два года продал 80 картин. Но мне стало скучно. Конечно, старые картины, которые остались в Москве, – лучше, но нельзя же все время их повторять. Здесь искусство – предмет продажи, кто пробился – тот держится. Галереи когда-то нашли художников и держатся за них. Они не ищут новых имен, им это не нужно. Они хорошо едят – это здесь главное. Искусство есть сейчас в Германии, есть, может быть, в Америке, а в Париже его нет.
– Так возвращайтесь. Я тоже думаю, в России вы работали лучше. Спокойнее. Правда, такой пиджак, как на вас, вы там не купите…
– Может быть, вернусь. У меня дочка в Академии учится. Я для нее должен что-то заработать. И потом, что значит «вернуться»? Я ведь от себя никуда не уезжал. Правда, здесь я стал работать больше. Больше занимаюсь детализацией. А что касается моих поисков и Поллока, то ведь любое направление в искусстве занималось тем, что разламывало все, сделанное до него. Все дети ломают игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Мане, например, – это разломанный и разложенный Пуссен. Хотя в нынешних поисках дошли до абсурда. В поп-арте, например, берут кусок двери с натуральными надписями и звонками и выставляют как произведение искусства. И за счет галереи, фирмы, рекламы и мафии – продают. Но люди уже перестали верить этому обману…
…Толя вернулся в Москву, в свою старую квартиру. Его дочка, окончив Академию, шла как-то по парижской улице, встретила молодого человека, влюбилась, а он оказался туристом – бедным поэтом из Ленинграда. И они уехали жить в Ленинград. Толя с женой потянулись вслед за ними. Но московскую мастерскую он потерял – начались новые времена…
– Толя, когда через шесть лет вы открыли ключом свою квартиру, что-то в ней изменилось?
– Да ничего! Всё то же. Тараканы появились в большом количестве.
– А как Москва?
– Очень понравилась. Чистое небо и земля. Центральные улицы стали лучше. В магазинах полно и никого народу. Хотя есть и супернелепости: то, что в Париже никому не нужно, – архидорого, а продукты – раза в три дешевле. Или, например, подрамники: в Париже за самый дешевый я платил 200 франков, здесь – 40.
– Что будете делать дальше?
– Тараканов ловить.
– А работать будете?
– Если я не буду писать, я умру.
– Вы довольны, что вернулись?
– Очень. Я всегда хотел вернуться. Оставался из-за дочери.
Вернувшись, Толя работал в своей трехкомнатной квартире в Строгине. Шестнадцатый этаж, широкое окно во всю стену. Из окна видны Обуховская церковь, канал, Московское море, Серебряный Бор.
Я как-то заехала к нему с друзьями – вся квартира была заставлена картинами. Работать там, конечно, тесно. Наконец ему дали помещение в одном офисе на первом этаже. Туда он перевез свои огромные полотна, туда ездил каждый день из своего Строгина.
Если я проезжала по Садовому кольцу мимо дома рядом с американским посольством и видела свет в окне на первом этаже – я к нему заходила. Мы разговаривали, иногда он мне дарил какой-нибудь рисунок или картину. Он не менялся – оставался таким, каким я его увидела много-много лет назад, тоже на первом этаже, в маленькой темной мастерской за складскими помещениями ГУМа.








































