Текст книги "Ностальгия – это память"
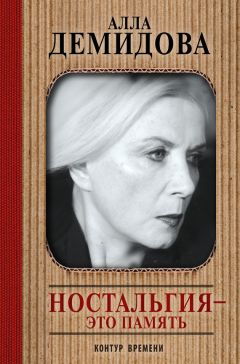
Автор книги: Алла Демидова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Конрад Вольф. Герцогиня Альба
Когда вспоминаешь человека, вызвать его образ перед глазами – нетрудно. Но как его – этот конкретный образ, со всеми оттенками, чувствами, мыслями – передать на бумаге? Начинаешь описывать детали – расплывается целое; говоришь о главном – впадаешь в банальную риторику. Как избегать этих опасностей и проплыть между Сциллой и Харибдой невредимой?
Упрямое свойство памяти – держать свои воспоминания в крепко запертых подвалах и выпускать их на волю ассоциативно или волевым, целенаправленным усилием сознания.
Когда при мне произносят имя Конрада Вольфа, память поначалу почему-то подсовывает древний город Углич, где снимались «Дневные звезды», и Якова Михайловича Харона – прекрасного человека, уникального мастера звукозаписи. После съемок бесконечными летними вечерами мы обычно сидели на крыльце маленькой провинциальной гостиницы и слушали Якова Михайловича. Он рассказывал обо всем: о Берлине начала 30-х годов, где он учился в консерватории, о долгих годах вынужденного бездействия, о прекрасных людях, с которыми его сталкивала судьба, о своих студентах ВГИКа, где он преподавал… В этих рассказах очень часто всплывало имя Кони. И мне представлялся худенький немецкий мальчик, воевавший в Красной армии, мальчик с белыми волосами, голубыми глазами, застенчивый, молчаливый и тихий…
Конрад Вольф – когда я встретилась с ним – оказался иным, совсем не тонким мальчиком с белыми волосами, каким он вставал передо мной из рассказов Харона. Он был немного грузный, с огромной головой мыслителя, с медленной, тихой немногословной речью. И всё же – суть первого, до встречи, впечатления осталась для меня прежней и не менялась за все года знакомства.
Но в этой заметке я хочу коснуться только одного эпизода и рассказать об одном неосуществленном совместном нашем замысле.
Конрад Вольф готовился к съемкам «Гойи». Уже были утверждены и Банионис на роль Гойи, и одна прекрасная актриса на роль королевы Луизы, но на роль герцогини Альбы актрисы не было. Все тот же Яков Михайлович Харон, который назначался звукооператором этого фильма, посоветовал попробовать меня. (Кстати, с легкой руки Харона я снималась в первом своем фильме «Дневные звезды» – это он посоветовал Таланкину взять никому не известную актрису, только что окончившую театральное училище, где Яков Михайлович меня видел в небольшом эпизоде дипломного спектакля.) К 70-му году, когда Вольф взялся за «Гойю», я уже сыграла в пяти-шести фильмах, и за мной к этому времени в кино утвердился тип сильной, волевой женщины. Я уже стала внутренне восставать против этого амплуа и наотрез отказывалась играть такие роли, но Конрада Вольфа, приглашавшего меня на герцогиню Альбу, интересовали именно эти мои черты…
Конфронтация Спиридоновой в фильме «Шестое июля», одержимость таланта в «Дневных звездах», фанатичный деспотизм моей героини в фильме «Щит и меч», аскетичная замкнутость Лизы в «Живом трупе» – все эти черты Конрад Вольф хотел видеть в герцогине Альбе.
Но главное, что нужно было Конраду Вольфу в герцогине Альбе, – чтобы эта женщина была талантливой, хотя и не оставившей творческого результата в искусстве – этому мешали происхождение и время. Результат этого таланта был косвенный…
На репетициях с Конрадом Вольфом я много узнала об этом – о герцоге Альба, музыкально одаренном человеке, переписывавшемся с Глюком, построившем в Мадриде первый оперный театр, о тонком уме королевы Луизы, о талантливых, интересных людях, окружавших и Гойю, и, наконец, о самом Гойе…
На этих же репетициях я отметила, пожалуй, главную черту самого Конрада Вольфа – стремление увидеть что-то главное за поверхностью вещей, событий и поступков.
Иногда мы встречались дома у Харона. Много говорили о таланте. Почему 70-е годы прошлого столетия окрашены таким интересом к таланту, неповторимости, уникальности? Что такое талант? Как талант проявляется во времени и как время выявляет талант?
На полях рабочего сценария у меня записаны мысли Конрада Вольфа о таланте: талант – неповторимая индивидуальность, новое проявление; талант заставляет человека забыть самого себя и втягивает его в свой мир; талант проявляется бессознательно, эмоциональным состоянием; духовный мир талантливого человека влияет на воспринимающего и может изменить его в непредвиденном направлении…
Но как играть талант? Хорошо Банионису – талант Гойи в его картинах… А как быть мне? И опять всплывает в памяти неторопливый, тихий голос Конрада Вольфа: главное в роли – определить рамки характера, чисто человеческие проявления… Вы, наверное, замечали, что люди талантливые, люди, живущие внутренне насыщенной жизнью, замкнуты в себе, своенравны, с неожиданными для других поступками, с неуживчивыми характерами; как правило, молчаливы, трудны в повседневном общении. Но все же труднее и мучительнее самому человеку от его таланта. Талант – тяжкая ноша. Талант требует выхода, иначе не выдерживает сердце… Талант требует результата. Но и результат – это дар для других, а для носителя таланта – это мучительные роды. Наказание.
Так постепенно передо мной вставал образ талантливой, мятущейся, своенравной, больной женщины – герцогини Альбы. Жить рядом с таким человеком трудно. Герцог Альба, как известно, не выдержал – поселился отдельно.
А герцогиня Альба любила кошек, собак. Рядом с ней жило дикое количество калек. Известно, что юродивый монах, который всегда сопровождал Альбу, был упомянут в ее завещании. Как, впрочем, и Гойя, которому тоже отводилась в завещании большая доля. Но после ее смерти им ничего не досталось, все ее имущество забрала королева.
Она страдала фригидностью и бесплодием – от этого ее эпатаж, скандальные выходки умной, своенравной женщины.
Роман с Гойей возник до Французской революции. Он написал ее официальный портрет. Ее увлек его темперамент. Когда он болел, был без сознания почти год, после чего оглох, – она была рядом.
Она его встретила на балу – и увезла к себе в замок… Он прожил у нее больше года… Талант Гойи для Альбы был живителен, был выходом ее таланта, окрашивал смыслом и творчеством ее жизнь… Но два таланта, как правило, не уживаются. Взаимоотталкиваются. Более слабый иногда гибнет, сильный вбирает в себя талант слабого. Как кремень о камень высекает искру, так этот разрыв с Альбой дал Гойе импульс к его «Капричос», окрасил его дальнейшее творчество в сатирические, мрачные тона. После этого разрыва Гойя жил долго и плодотворно. Герцогиня Альба умерла через несколько лет…
Память, к сожалению, не удержала детальной разработки рабочего варианта сценария «Гойи». Фильм впоследствии был другим… Но сам замысел роли герцогини Альбы мне был очень по душе. Играть такую исключительную судьбу, незаурядный характер, проявление таланта в жизненных оценках, выборе и в отношениях с людьми – редкая удача.
Я с радостью согласилась.
Начались бесконечные пробы грима. Я сидела под тяжелыми гипсовыми масками, чтобы создать пластический грим. Черты моего лица не совпадали с портретом герцогини Альбы. Часами я стояла на примерках костюмов. Голову стягивал все тот же гипсовый панцирь – для парика, который был сшит точно по моей голове.
Начались кинопробы. Сцена герцогини Альбы с королевой Марией Луизой. Актриса гениально совпадала с историческим персонажем и по внешнему сходству, и по актерскому внутреннему перевоплощению. Я рядом с ней чувствовала себя ученицей. А герцогиня Альба должна была в этой сцене брать верх над королевой во всех отношениях. Конрад Вольф мягко, но целенаправленно внушал мне, что я должна и могу играть эту роль, должна и могу вызвать в себе чувство превосходства. Но во мне этого чувства не было… Я никак не могла поверить в себя как в первую красавицу королевства. Конрад Вольф внушал мне, что красавицами женщины становятся от внутреннего убеждения своей неотразимости, от уверенности в собственных возможностях. От этой веры появляется масштаб, смелость, дерзость и… красота.
И хоть, видимо, этой уверенности не было у меня еще в кинопробах, но я как никогда чувствовала режиссерскую поддержку и веру, что смогу… Причем все делалось постепенно, не спеша, без нажима, несуетно.
Однако после многочисленных проб, репетиций, бесед с Конрадом Вольфом, разговоров с членами группы, с Банионисом, к которому я стала более или менее привыкать в совместных поездках на студию «Дефа»; после того как я уже почти внушила себе, что могу играть герцогиню Альбу, – после всего этого меня не утвердили на роль…
К сожалению, для некоторых товарищей из тогдашнего руководства Госкино я почему-то все еще оставалась Спиридоновой, и на обсуждении говорилось, что хватит «Шестого июля», где я силой характера Спиридоновой якобы перетянула сюжетный ход картины, и что фильм «Гойя» снимается о художнике Гойе, а не о герцогине Альбе…
Условия совместного производства придавали этим странным мнениям авторитетность – и в результате герцогиню Альбу стала играть известная югославская певица Оливера Вуча.
По неизвестным мне причинам Конрад Вольф решил полностью изменить первоначальный замысел роли Альбы.
Оливера Вуча была на экране с роскошной фигурой и грудью, с красивыми своими волосами, с огромными красивыми глазами, с большим чувственным ртом. На экране была полная противоположность ранее задуманному замыслу. На экране была красивая, чувственная женщина в красивой оболочке. И только.
Яков Михайлович Харон тоже не работал с Конрадом Вольфом на съемках «Гойи», правда, по другой причине – он был болен…
Но наши совместные разговоры и замыслы не оставляли в покое Конрада Вольфа. Когда озвучивали на русский язык картину «Гойя», дублировать Оливеру Вучу Конрад Вольф пригласил меня, а все озвучание с русской стороны проводил Яков Михайлович Харон, по-прежнему называвший Конрада Вольфа по старой привычке нежно – Кони… Работал Яков Михайлович над этой картиной, будучи уже смертельно больным, – это его последняя работа в кино.
На озвучании мы вспоминали первоначальные замыслы, но нам не удалось их вложить в экранную оболочку роли. Появилась излишняя сухость в речи – и только… А у меня осталась горечь несделанного… Тогда-то я и зареклась озвучивать чужие работы.
А с Конрадом Вольфом после этого мы часто встречались – или на гастролях с театром в ГДР, или на премьерах, или просто у кого-нибудь в гостях – но встречались уже не как сообщники, а как люди, у которых что-то не получилось…
Позже что-то наработанное в герцогине Альбе я перенесла в «Стакан воды», где играла другую герцогиню – Мальборо. Так что ничего не пропадает, как известно.
Илья Авербах
Мне неожиданно позвонили из Ленинграда и попросили приехать на пробы в группу Авербаха. На «Ленфильме» я до этого была только у Козинцева – пробовалась на Офелию. Это было время, когда я сама хотела играть Гамлета. Но побыть в кадре со Смоктуновским очень хотелось, да и все, что касалось «Гамлета», меня тогда интересовало. И поэтому, без всякой надежды на успех, поехала надевать на себя маску Офелии. Прошло несколько лет, и теперь опять «Ленфильм», опять Смоктуновский, но уже в картине Авербаха «Степень риска».
Меня утвердили, однако со Смоктуновским я тогда в кадре ни разу не встретилась, хоть он и играл моего мужа. Вернее, я – его жену. Зато постоянно на площадке была с Борисом Николаевичем Ливановым. Он играл крупного профессора, врача-кардиолога, впрочем, ему не надо было ничего играть, потому что он и в жизни был «генералом». Но это внешне. А так, на площадке, между съемками – постоянные рассказы, смех, анекдоты, юмор, ухаживание.
И как противоположность Ливанову – Илья Авербах, режиссер фильма. Это была его первая работа. Сдержанный, молчаливый – ленинградец, вернее петербуржец (хотя тогда такого слова в нашей речи не было).
«Степень риска». Сценарий был написан по повести Николая Амосова, знаменитого киевского кардиолога. Это были записки хирурга – о нравственном кризисе и поиске выхода из этого кризиса. Однако в фильме нравственный, духовный потенциал ложился на плечи всех трех героев – хирурга перед сложнейшей операцией (Ливанов), физика, который идет на эту операцию (Смоктуновский), и мои – жены, ожидающей результата операции. Извечные вопросы о жизни и смерти, об отношениях между людьми, об отношении к своему делу, о нравственном долге.
Фильм вышел в 1969 году. А после фильма судьба подарила мне долгое общение с Авербахом. Иногда мы вместе отдыхали в Репине: он со своей женой Наташей Рязанцевой и я с мужем Володей Валуцким. Гуляли, играли во всевозможные игры. Авербах, в отличие от нас, был спортивным человеком. Он играл в баскетбол, проповедовал английский образ жизни и себя в шутку называл эсквайром. Курил сигары, потом перешел на трубку.
«Джентльмен с головы до ног», – сказал Блок о Гумилеве. Авербах был из того же ряда.
Однажды в Репине, в Доме творчества кинематографистов, заказывая меню на следующий день, мы наткнулись на совершенно новые названия, и особенно нас поразило, что наутро будет «земниекубракатис». Из нас никто не ходил завтракать, но тут мы все четверо заказали это заморское блюдо и назавтра пришли утром в столовую. Оказалось, что блюдо с заморским названием – это все, что осталось от ужина, сваленное на большую сковородку и сверху политое яичницей. С тех пор, когда я дома готовлю что-нибудь непонятное-простое, мы зовем это кушанье «земниекубракатис» (а ввел название пришедший на работу в Репино новый шеф-повар, уволенный за пьянство из гостиницы «Астория»).
Авербах очень хорошо слушал, хотя порой и сам любил поговорить. У каждого из нас есть какое-нибудь любимое словечко – у меня, например, «гениально», а у Авербаха – «прелестно». По любому случаю он всегда прибавлял это свое «прелестно». А когда в разговоре возникало что-то неудобоваримое, он говорил: «Ну, это земниекубракатис».
Приезжая в Москву, он часто бывал у нас, потому что у него с Володей были нескончаемые планы работ. По разным причинам эти работы никогда не доходили до результата. Они, например, втроем – Наташа, Володя и Илья – решили написать сценарий к фильму, который условно назвали «Умняга». Главную роль, конечно, должна была играть я. И черты героини – одинокой редакторши, все понимающей, но забывшей в своем всезнайстве о, мягко говоря, «женственности» – они шутя переносили на меня. Да и вообще меня всерьез к своей работе не подпускали. Они писали друг другу шутливые, смешные письма, они перезванивались, а я ведь «артистка» – что с меня возьмешь. И когда звонил Авербах и спрашивал: «Как дела?» – я отвечала: «Прекрасно». Он очень серьезно удивлялся и уточнял: «А почему?..»
А когда я приезжала в Ленинград, то любила заходить в гости к ним. Мне нравилась их тесная, с красной мебелью квартира. Огромный балкон, вернее терраса, где Ксения Владимировна разводила цветы. Ксения Владимировна Куракина – мать Ильи, актриса, очень красивая женщина с ухоженными седыми волосами, с маникюром, с манерностью петербуржской дамы. И уклад семьи их мне нравился: с обедом и ужином в положенные часы, с «литературными» разговорами за чаем – то, чего у меня никогда не было.
«Джентльменство» Авербаха – его воспитанность, благородство, образованность, доброжелательность, остроумие, – я думаю, хоть и были его отличительной чертой от нас, московских, но не главной. Главное – он был интеллигентом со всеми отсюда вытекающими последствиями: и перепады настроения, и неуверенность в себе, и самоедство, и ненасытность знания – понять, что «за чертой».
У Авербаха было особое свойство – он умел заключать в себе целый мир самых противоположных интересов, умел отдаваться каждому всецело и с легкостью переходить от одного к другому. Он общался на равных с самыми разными по профессии и по интересам людьми. Но это была не всеядность, а какая-то духовная ненасытность, вернее неуспокоенность, доходящая иногда до смятения души… На протяжении двадцати лет, что я его знала, состояние встревоженности у него росло. Хотя внешне это могло никак не выражаться.
Я отчетливо помню осенний солнечный день в Пушкине, куда мы поехали гулять с ним, его дочерью и моим мужем. И хоть день по внешним приметам был неудачный: при выходе из парка сторож грубо отобрал желтые листья, которые мы с Машей собирали на земле, нас не пускали в ресторан обедать, захлопнулась и не открывалась дверь машины (ключ остался внутри) и еще что-то – на такие «мелочи жизни» часто реагируешь излишне болезненно, но в тот день они нас почему-то не трогали. Мы смеялись до слез, бегали, читали стихи, у Авербаха было удивительно спокойное, тихое и доброе выражение лица. Хотя тогда, я знала, он переживал сильный душевный кризис.
Странная причуда памяти: чаще я вспоминаю Илью в необычном для него тихом состоянии.
«Степень риска». Снимался кусок в больнице. Как правило, все долго привыкают к новой обстановке, на съемках царит хаос. Но, возможно оттого, что Авербах раньше работал врачом и для него все здесь было привычно, он так быстро и мудро распределил обязанности, что уже через час вся ленфильмовская группа абсолютно естественно влилась в интерьер больницы – все ходили в белых халатах, не было суеты, каждый занимался своим делом, а Авербах сидел в уголке в не свойственной ему скрюченной позе (у него болел желудок – язва) и тихо разбирал со мной и Ливановым сцену, которую должны были снимать…
Для меня понятие интеллигентности – в особом качестве души. Интеллигентность не передается по наследству, она не определяется профессией, не приобретается образованием. Это способ мироощущения. Для меня интеллигентами были Радищев («Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала»), Пушкин, Блок, ополченцы 41-го года. Илья Авербах был абсолютным интеллигентом. Во всех его поступках, в работе, в общении с людьми проявлялось то, что накапливалось обществом в течение многих веков, то, что мы называем культурой. Этим определялись его мысли, чувства, человеческое достоинство, умение понять другого, внутреннее богатство его личности, уровень этического и эстетического развития, постоянное самосовершенствование души.
С некоторыми людьми подолгу работаешь, общаешься в быту – они уходят, и ты их даже не вспоминаешь. С другими видишься редко, но их присутствие ощущаешь постоянно, на них внутренне оглядываешься, проверяешь свои поступки по их реакции. Они уходят из жизни, но остаются с нами.
Как весело мы начинали, полные сил и творческих планов!
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей,
На скаку не заметив, что рядом товарищей нет.
Эти строчки Высоцкий написал в 1966 году, предвосхитив на десятилетия потери нашего поколения: Гена Шпаликов, Лариса Шепитько, Юра Визбор, Василий Шукшин, Олег Даль, Володя Высоцкий, Илья Авербах…
Пение обожженным горлом, или Лариса Шепитько
Проезжала я как-то мимо своего родного Училища имени Щукина. Перед входом роилась толпа мальчишек и девчонок, мечтающих стать артистами. Представила их волнение и немного позавидовала.
Первый и, пожалуй, единственный раз я почувствовала себя актрисой, когда поступила в училище и перед началом занятий поехала отдыхать на юг. Мне казалось странным, что люди не обращают на меня никакого внимания. А меня просто распирало от сознания, что я теперь актриса.
На первом курсе все кажется легче, критикуешь наотмашь, оцениваешь только результат по двухбалльной системе «хорошо – плохо».
Каждый недостаток своего характера оберегался как проявление индивидуальности. Следили только за своим внутренним состоянием в любых проявлениях: предположим, у меня случилась какая-то неприятность, уж не помню какая, но хорошо помню, как плачу, неожиданно подхожу к зеркалу и смотрю, как я это делаю. (Кстати, я до сих пор не считаю зазорным для актера смотреть на себя со стороны. Человек, анализирующий свои поступки, как бы раздваивается: несовершенство, то есть то, что он есть на самом деле, и совершенство – то, чем он должен стать.) И говорили только о себе. Эту черту я замечаю и сейчас почти у всех актеров – много говорить о себе. Правда, зачастую это не от самомнения, а от подсознательной оценки тех или иных поступков, фиксации на внутренней оценке своего состояния.
Там же, в училище, я помню показ молдавской студии. Объявили, что кто-то будет петь «Черную шаль». Мы переглянулись, поморщились – опять эта надоевшая эстрадная цыганщина. Вышла на сцену девушка невысокого роста. А лицо? Сейчас бы не вспомнила. Ничем не примечательна. Без единого жеста, на «скрытом» темпераменте пропела. Да так, что мурашки до сих пор от воспоминания. Я до сих пор помню, как она пела и как мы потом, забыв про свою «гениальность», кричали «браво» и «бис». Я раньше не понимала, как Федя Протасов мог заслушаться цыганских песен, а сейчас, если бы я точно знала, что эта девушка мне споет так, как она пела тогда, я бы бросила все свои дела и помчалась в Кишинев, где и обосновалась та молдавская студия, образовав театр «Лючи-фéрул». Но меня останавливает боязнь потерять то ощущение. А вдруг это была только минута?
Потом услышала по радио, как Мария Лукач пела песню на стихи Рождественского про двух сыновей: «Повезло ей, повезло ей, повезло!» На таком выхлесте! Срывающимся голосом. До сих пор как слышу – плачу. Почему? Ведь крик как высшая точка самовыражения – это вчерашний день. Театр сейчас играет в другие игры. Зрителя больше интересуют нюансы, тонкий рисунок роли, глубина прочтения драматургического материала. Но я ничего не могу с собой сделать – и всегда плачу, когда слышу крик боли.
Я читала у Лорки об одной знаменитой андалузской оперной певице. Со своим другом она пришла в кабак, ее узнали и попросили спеть. Она согласилась и пела как никогда прекрасно. Но присутствующие молчали, и даже иногда раздавался свист. Тогда она выпила стакан огненной водки и в бешенстве стала петь сорванным, обожженным горлом. Триумф! Пение обожженным горлом. Самоотверженность и безоглядность таланта.
Сегодня почти не играют трагедии. А если и играют, то как драмы – с логическим обоснованием поступков, с понятным переходом из куска в кусок. Может быть, возникла защитная реакция у зрителей – после мировых войн, заказных убийств, вечной политической лихорадки. Сегодня человек сидит у себя в халате дома, пьет чай и смотрит по телевизору, как на его глазах убивают по-настоящему. И что после этого может сделать актер? Со своим слабым голосом, несовершенной пластикой и сомнениями, разъедающими душу?
Когда я впервые увидела Ларису, сразу угадала главное ее подсознательное желание – добиться в жизни признания. При первом знакомстве я воспринимаю человека подсознательно. Потом это ощущение уходит: человек ко мне поворачивается той своей стороной, которую хочет показать. Но от Ларисы первое свое чувство я помню. Я еще тогда отметила ее огромную выдержку и силу воли, умение владеть собой. И, как ни странно, – ее семейственность, уважение и почитание родственных связей.
После ее «Крыльев» прошло уже довольно много времени, и сделать «Ты и я» для нее было, конечно, важно. Хотя я и не понимала, для чего Ларисе этот «легкий» и, кстати, недоработанный сценарий Шпаликова. Да и тема была не Ларисина. Потому что Лариса – человек с глубоким, трагическим мироощущением, а «Ты и я» – фильм про интеллигенцию, весь на полутонах: полутона интеллигентного человека, запутавшегося в жизни. Но Лариса обожала талантливых людей, она их как бы коллекционировала – впитывала, выжимала, а потом забывала. В данном случае она «вцепилась» в Шпаликова, и он отдал ей «рыбу» своего сценария.
Впрочем, если бы в главной роли снималась Белла Ахмадулина, как того хотела сначала Лариса, может быть, фильм повернулся бы по-другому. Ее голос, ее манерность сыграли бы на форму. (Как известно, форма – наиболее удобный и выразительный способ говорить задуманное. Я очень часто вспоминаю слова одного из богов в «Добром человеке из Сезуана»: «Блюди форму – содержание подтянется». И почти всегда после этих слов в спектакле «Таганки» раздавались аплодисменты.)
Такой зашоренности в работе, как у Ларисы, я не встречала ни у кого. Она видела только своих актеров, только свой материал – больше для нее ничего не существовало. Когда мы, например, поехали снимать в Ялту, она поехала в старом поношенном пальто, в котором всегда ездила на подмосковную натуру. Но это же Ялта! У нас было много свободного времени, мы ходили в рестораны, гуляли по набережной, и Лариса – в своем «натурном» пальто. «Лариса, ну почему ты его надела?!» – «Мы же поехали на натуру». И конечно, в водоворот Ларисиной жизни закручивались и наши жизни тоже.
Мы пропустили осеннюю московскую натуру; и надо было доснимать в похожих подворотнях Ялты. Тогда на Таганке я играла в основном не главные роли, однако Любимов все равно меня не отпускал. Сниматься приходилось «между струйками» – на один день надо было прилететь в Ялту, чтобы потом улететь на спектакль. Сколько это угробило здоровья! Но тогда я думала, что его хватит надолго…
И вот – лечу в Ялту. Из-за снегопада несколько часов сижу в аэропорту в Москве. Наконец взлетели. На моей шубе оторвался крючок, в сумке почему-то оказалась иголка с ниткой. Я стала пришивать, входит стюардесса и спрашивает: «Что вы делаете?!» – «Пришиваю крючок». – «Хуже приметы в самолете не бывает». А я в приметы верю, потому так и осталась в обнимку с этой шубой (я даже боялась ее куда-то положить), из которой торчала иголка, как грозящий ребенку палец. Летели мы ужасно. Проваливались в какие-то ямы, самолет трясло, я думала: «Вот это всё – моя иголка…» Слава богу, сели, причем садились несколько раз, подпрыгивая. Всех вымотало ужасно.
Я все-таки допришиваю свой крючок – иголка-то торчит. Выходит стюардесса и, глядя на меня – глаза в глаза, говорит: «Мы приземлились в аэропорту города Киева». А летели мы в Симферополь…
Судя по тому, что в аэропорту люди сидели на полу даже в туалетах, нелетная погода была давно. В ресторан – не войти, сесть некуда, в Киеве ни одной души не знаю (это было еще до того, как я снималась в роли Леси Украинки).
К концу дня слышу по репродуктору: «Объявляется посадка на самолет Киев-Одесса…» А у нас дома в свое время висела маленькая карта мира, я там иногда делала пометочки – в каком городе я была. Вспомнив эту карту, я решила: «Одесса и Ялта – это где-то рядом. Доеду». И купила билет.
Прилетаю вечером в Одессу. Сажусь в такси, шофер спрашивает: «Куда?» Я говорю: «В Ялту». Одесский (!) шофер даже не понял этого юмора, но тем не менее объяснил: таксисту нельзя пересекать границу района, к которому он прикреплен. И я всю ночь, меняя такси, как на перекладных, ехала в Ялту. Под конец у меня уже не было денег – расплачивалась золотыми пластинками с браслета от часов, причем шоферы пробовали их на зуб – и брали (до сих пор не могу понять, как можно на зуб определить золото). В «Ореанду», любимую гостиницу киношников, приехала только днем. Иду по длинному коридору, мне навстречу – Лариса. Голова вниз, и идет она медленно-медленно. И в ее пластике, и в том, как она идет, видна такая обреченность, такая трагичность – идет Медея после убийства детей… Кстати, я часто замечала у нее эти приступы угрюмости, пессимизма и меланхолии. Но Лариса очень умела владеть собой, и внешне, на людях, это было незаметно.
Вдруг она поднимает глаза и видит меня: «Алла! Мы же тебя встречали в Симферополе! Прилетел утром самолет из Киева, но тебя в нем не было». Я говорю: «Потому что я приехала на такси. А где группа?» – «Группу я распустила».
Нужно знать характер, огромную выдержку и силу воли Ларисы – она собрала группу, которая уже разбрелась по всей Ялте, и мы поехали снимать. Не сняли, потому что опоздали с солнцем. А вечером я села в поезд и уехала на спектакль…
После этого я дала себе зарок не сниматься в других городах. И много лет этот зарок выполняла. Но к Ларисе продолжала ездить, потому что фильм надо было закончить.
В «Ты и я» было очень много импровизации. Помню, в Ялте, в центре, на площади около универмага строили какой-то фонтан, выложенный мозаикой и еще не затопленный водой. И вот по этой мозаике мы ходили с Юрой Визбором и импровизировали сцену – выяснение отношений между мужчиной и женщиной. «А Шпаликов потом подправит», – говорила Лариса.
В Москве Шпаликов иногда приходил на площадку, но мало во все вникал – он уже был болен и почти всегда нетрезв. Одно время он даже ночевал у нас дома, на Садовом кольце, потому что дружил с Володей – они вместе учились во ВГИКе. Он просиживал на кухне всю ночь, писал стихи и пил, а утром куда-то исчезал. Он был совершенно бездомный.
Прощай, Садовое кольцо, я опускаюсь, опускаюсь
И на высокое крыльцо чужого дома подымаюсь…
Куски натуры надо было снять за границей. Но в то время «пробить» съемки за границей было нереально даже для Ларисы. Тогда нам от «Мосфильма» купили туристические путевки в Швейцарию, на международный хоккейный матч. Весь самолет был заполнен поклонниками хоккея, среди них даже был Игорь Ильинский. Я сидела рядом с ним и запомнила, как он тогда рассказывал про Толстого. Он должен был играть Толстого и все думал: каким был Толстой? На портретах – мощный старец. А кто-то, кто был у Толстого в Ясной Поляне, рассказал ему: «Мы приехали, нам сказали: „Ждите. Сейчас выйдет Толстой“. Вдруг из-за угла вышел маленький сухой старичочек, потирая руки…» И Ильинский показал, как он вышел.
…Мы приехали в Женеву вчетвером – Шепитько, я, оператор и гример, который нам был не нужен, но он, видимо, исполнял роль «искусствоведа в штатском». Нас поселили в роскошную (как мне тогда показалось) частную гостиницу «Montana» с цветами в холле, с мягкими креслами, с дубовыми скрипучими лестницами – в общем, старый женевский дом. Нам с Шепитько, как туристам, дали комнату на двоих. Мы входим: старинная мебель, кровать одна, хотя очень большая. Я говорю: «Ну, Ларис, мы на ней как-нибудь разойдемся…» Туалета не было, зато было биде, которое мы видели впервые. Мы посмеялись, но душ, туалет были рядом в коридоре.
Когда мы приехали, нам выдали какие-то деньги, но сколько – мы не понимали, потому что впервые попали в настоящую «заграницу». Я предложила: «Лариса, пошли погуляем, чего-нибудь съедим, ведь есть хочется». Она говорит: «Я устала». И я пошла одна…
В новом городе я начинаю плутать вокруг одного и того же места. Поэтому решила идти все время направо и не переходить улицу, чтобы потом возвращаться все время налево. И вот я вижу окно первого кафе: там сидят только мужчины, играют в карты, происходит какая-то незнакомая жизнь – и понимаю, что мне туда нельзя. Иду дальше – вижу роскошный ресторан. Туда тоже нельзя – не хватит денег. Наконец вижу сквозь стекло двух сидящих женщин. Остальные места – пустые. Обстановка напоминает бывшее ленинградское кафе «Норд»: низкие круглые столы, вокруг – лавочки. Я вхожу, плюхаюсь на первое же место и понимаю, что отгорожена от остального пространства полузеркальными стенами. Ко мне подходит официант, что он говорит – не понимаю, так как французский тогда знала совсем плохо. Смотрю меню и по цифрам вижу, что денег хватает. Осмелев, я ткнула пальцем в начало, середину и конец, надеясь, что принесут закуску, основное блюдо и десерт. Потом, думаю, разберусь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































