Текст книги "Невысказанное завещание (сборник)"
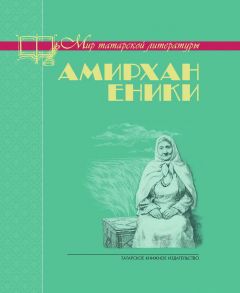
Автор книги: Амирхан Еники
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В период оттепели в творчестве писателя актуализируется проблематика национальной идентичности и складывается особая философия бытия: «Кешене дөньяда туган җир, өй, әни, мәхәббәт яшәтә дигән фикер татар аңы, татар менталитеты тудырган фәлсәфә кебек кабул ителә» [Заһидуллина, 2015: 191]. «Идея о том, что человек «жив» любовью к родной земле, дому, матери, понимается как основа национальной философии бытия»[13]13
Перевод выполнен автором статьи.
[Закрыть]. С позиций этой философии раскрываются характеры, конфликты и ситуации в хикая «Кем җырлады?» («Кто пел?»), «Туган туфрак» («Родная земля»), «Матурлык» («Красота»), «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание»), «Җиз кыңгырау» («Медный колокольчик») и др. Разрушительным тенденциям эпохи: утрате духовных и национально-исторических корней, обывательской морали и различным ликам мещанства, отчуждению личности от своего «я», ближайшего окружения, социальной среды, мира в целом, писатель противопоставляет личную и родовую память, ответственность за землю предков, красоту родной природы, поэтические стороны жизни народа, его древнюю историю и великую культуру, духовное богатство и мудрость, отношения, основанные на родстве, близости и любви.
В 1970–1980-х гг. художественные поиски писателя идут в разных направлениях: он создаёт ряд сатирических произведений («Мандарин сатучы» («Продавец мандаринов», 1976); «Бүрек… түгәрәк була» («Шапка… она круглая», 1976)); обращается к национально-историческому материалу в повести «Гөләндәм туташ хатирәсе» («Воспоминания Гуляндам-туташ», 1975), в которой рассказывается о любви Гуляндам и татарского композитора Салиха Сайдашева; продолжает художественное исследование темы тотального отчуждения человека в современном ему обществе («Тынычлану» («Успокоение», 1978)).
В 1950-х гг. в качестве сотрудника журналов «Колхоз бригадасы» («Колхозная бригада») и «Совет әдәбияты» («Советская литература») А. Еники выступал с публицистическими и литературно-критическими статьями, которые позже вошли в сборник «Хәтердәге төеннәр» («Узелки памяти», 1983) [см.: Гайнуллина, 2015]. В 1990-х гг. активизируется публицистическая мысль писателя, чему в значительной степени способствовали социально-политические процессы в стране. В эти годы А. Еники пишет автобиографическое произведение «Соңгы китап» («Последняя книга», 1986) и историко-документальную хронику «Кояш баер алдыннан» («Перед закатом солнца», 1996).
Размышляя о самых серьёзных и сложных вопросах человеческого бытия – о прошлом, настоящем и будущем народа, о судьбах татарского языка, о литературе и её общественном назначении, о гражданской позиции писателя, о чести, мужестве и стойкости, А. Еники так характеризует итоги своего жизненного и творческого пути: «Иҗат юлымның башы никадәр авыр булса да, ахыры, шөкер, уңышлы булып чыкты дип әйтә алам. Дөрес, һәр уйлаганымны яза алдым, һәр язганымнан канәгатьмен дип әйтергә җөрьәт итмәс идем. Бу инде һәрбер язучы өчен дә шулайдыр. Чын язучы гомере буена өч вакыт эчендә яши: үткәнне онытмый, бүгенгене күрә, киләчәкне уйлый… Үлгәндә дә ул солдат шикелле алга карап үлә торгандыр…» [Еники, 2000, 4: 463]. «Как ни трудно было начало пути в литературе, конец, слава Всевышнему, оказался счастливым. Конечно, я не могу утверждать, что написал всё, что хотел, что мне нравится каждая моя книга. Думаю, любой собрат по перу мог бы сказать о себе то же самое. Истинный писатель живёт в трёх измерениях: не забывает прошлого, видит сегодняшнее, думает о будущем… Уверен, что и в последний свой час он, как солдат, смотрит только вперёд…» [Еникеев, 1998: 429].
Девочка
Посвящаю любимой дочери Резеде
Рота лейтенанта Иванова с большой осторожностью пробирается по лесу к передовой. Чтобы можно было быстрее укрыться от вражеских самолётов, красноармейцы шагают попарно по обеим сторонам песчаной дороги.
На дороге отпечатки лошадиных копыт, узкие колеи от повозок и узорчатые тяжёлые вмятины от шин грузовиков. Вероятно, и пешеходов здесь немало прошло. На влажном песке отчётливо видны следы солдатских сапог и женских ботинок. Эта дорога – единственная свидетельница ночного боя. Она одна могла бы рассказать о том, как два брата прошли по одному следу и не встретились. И всё же в этот час она предательски спокойна и пуста.
Пора восхода солнца. Притих лес, словно вслушиваясь в себя. Горящие светло-зелёным пламенем верхушки высоких сосен неподвижны, ещё погружены в крепкий утренний сон. Серебристые листья изредка встречающихся осин уже проснулись от тихого дыхания утра и слегка шелестят. На открытых местах, прижавшись к земле, застыл густой белый туман. В траве сапоги тотчас же покрываются блестящей влагой и будто тянут за собой зеленовато-бурую цепочку следов. Душистые испарения леса, земли щекочут ноздри, проникают в лёгкие. Хотя пройдено немало и ноша давит плечи, чувствуешь себя как-то легко, и от этой лёгкости душа наполняется покоем и тишиной…
В задних рядах роты размеренной походкой идёт красноармеец Зариф. Перед ним в такт покачиваются спины товарищей. Лицо его спокойно и кажется беспечным, но чуть прищуренные глаза говорят о том, что он напряжённо думает.
Тёплая тишина утра, величавое спокойствие леса заставляют забывать об идущей где-то недалеко жестокой войне, о крови и смерти, как будто молочная белизна тумана прячет и отдаляет от человека эти ужасы. Среди дышащей радостью природы он незаметно для себя обманывается, настраиваясь на мирный лад.
Так и Зариф, хоть и помнил, куда он идёт, в эту минуту был погружён в свои думы о родных и близких. Ему представлялись широкие поля и сизо-голубые леса родного края, деревня, где ему знаком каждый колышек плетня, дом, который вплоть до зарубин на краях сакэ[14]14
Сакэ – подобие нар, обязательная принадлежность обстановки татарской избы.
[Закрыть] так живо вставал в его памяти, жена, при каждом воспоминании о ней он будто слышал её голос, его дочка, доверчивую улыбку которой он бережно хранил в своём сердце. Мост в конце деревни… просёлочная дорога… ржаное поле… низко склонившиеся к земле тяжёлые колосья пшеницы… Какой нынче был обильный урожай! Теперь, наверное, днём и ночью молотят.
Откуда-то совсем близко до слуха Зарифа донёсся гул молотилки и короткий рёв, когда она глотает большие снопы.
Не успел он сообразить, где же молотят, как раздалась команда:
– Воздух!
Рота тотчас залегла и скрылась среди деревьев по обе стороны дороги.
«Вот тебе и молотилка!» – подумал Зариф, лёжа под деревом, и усмехнулся своему заблуждению.
Самолёт удалился. Лейтенант, видимо, дал команду – лежащие впереди бойцы начали подниматься. Встал и Зариф. Но не успел он сделать и шага, как заметил в пяти-шести метрах от себя девочку и остановился. Ей было не больше трёх, она стояла возле низкого кустарника, зажав в ладони землянику, хотела поднести её ко рту, но, увидев Зарифа, застыла и удивлённо уставилась на него большими серыми глазами. Они у неё покраснели и опухли от долгого плача, на лице две узенькие полоски от слёз. Зариф оглянулся по сторонам, надеясь найти кого-нибудь из родных девочки, но никого не увидел. Снова посмотрел на девочку. Присев на корточки, девочка собирала рассыпанные по земле ягоды. На ней было летнее пальто из тонкого синего сукна, чёрная фетровая шапочка, завязанная под подбородком красной лентой. На ногах чулки и жёлтые ботинки, одна нога в калоше, другую калошу она, видимо, потеряла.
Зариф сообразил, что девочка заблудилась и отстала от родных, которые вместе с другими беженцами двигались в глубь страны, подальше от фронта. Первым его побуждением было поднять ребёнка. Он уже шагнул было к девочке, но вдруг вспомнил, куда идёт и что никак не может отстать от роты. Тогда он повернул к дороге, чтобы бежать за удалявшейся ротой, но вместо этого решительно направился к девочке и быстро подхватил её на руки.
– Мама! – испуганно закричала девочка. Ручкой с зажатыми в ней ягодами она упёрлась в лицо Зарифа и, болтая ногами, громко заплакала.
Крепко прижав к себе ребёнка, перескакивая через пни и валявшиеся под ногами ветки, Зариф вышел на дорогу. Хотя всё это заняло очень мало времени, рота уже заметно отдалилась. На ходу поправив на плече винтовку, Зариф ускорил шаг.
Видно, девочка уже давно устала плакать, скоро плач её перешёл в беззвучные всхлипывания. Зариф вытащил из кармана кусок сахару, сдул приставшие к нему пылинки и протянул ей. Девочка капризно замотала головой, затем недоверчиво протянула руку, взяла сахар, быстро спрятала его в кулаке и прижала к груди.
– Ешь, ешь, – ласково сказал Зариф и потрепал её по спине.
Девочка будто этого только и ждала: всхлипывания прекратились, она успокоилась и, слегка покачиваясь на руках у Зарифа, стала смотреть по сторонам. Сквозь тонкую одежду Зариф ощутил тепло и какой-то особый аромат детского тела. Желая ещё сильнее почувствовать эту мягкую податливость и теплоту, он в какой-то щемящей тоске нежно прижимал к себе девочку, тихо гладил её по спине, вдыхая приятный запах ребёнка. Из глубин его души тёплой волной поднималось невыразимо радостное чувство. Пробуждённое встречей с ребёнком, оно было чистым, ничем не замутнённым выражением любви и привязанности человека к жизни, силы и глубины этой привязанности. В эту минуту Зариф не ощущал никакой разницы между своим ребёнком и этой девочкой, она казалась ему, как и его дочка, частью его души. Он взял зажатую в кулак руку ребёнка и поднёс к своим пересохшим губам.
– А есть у тебя папа и мама? – ласково спросил он. У него вдруг защекотало в горле, глаза увлажнились.
Ребёнок звонким голосом ответил:
– У меня и мама есть, и папа, у нас ещё коза есть. Козлятки такие беленькие-беленькие.
Зариф с улыбкой взглянул на девочку.
– Вот как! Беленькие, говоришь?! А где же твой папа?
– Уехал.
– Куда?
– Не знаешь разве? На фронт, – ответила девочка и немного погодя, будто только что вспомнив, добавила: – Он лейтенант.
– Лейтенант? Вот какая ты умница, знаешь, кто твой папа. А… – Зариф осёкся. Он хотел спросить, где же мама, но удержался, боясь расстроить девочку.
Видно, девочка уже успела привыкнуть к Зарифу. Без стеснения она сперва положила в рот ягодки, зажатые в ладони, потом принялась сосать сахар.
Вдруг по лесу пронёсся страшный грохот. Задрожала земля, от воздушной волны закачались верхушки деревьев. Где-то вблизи начался артиллерийский обстрел. Зариф и ребёнок на миг оцепенели, будто внутри них поселилась какая-то жуткая тишина…
От страха девочка начала дрожать. Зариф крепче прижал её к себе, ему показалось, что сердца их забились в лад.
Плаксивым голосом девочка позвала:
– Мама!
– Не плачь, дочка, сейчас придём к маме, – сказал Зариф. Собственный голос показался ему глухим и тусклым, будто исходил из глубокого колодца.
Одной рукой обхватив Зарифа за шею, девочка ещё крепче прижалась к нему. Он же, то ли желая её успокоить, то ли думая вслух, сказал:
– Куда же мы идём?
– К бабушке в гости, – совершенно серьёзно ответила девочка.
Зариф невольно улыбнулся.
Так они дошли до развилки дороги. Рота пошла по правой дороге, левая же вела к ближайшей станции.
Сквозь редкие высокие сосны были даже видны крыши пристанционных домов. Зариф остановился в растерянности. Что делать? Он не может отстать от роты, надо немедленно догнать товарищей. Но куда девать девочку? Не лезть же с ней в огонь… В надежде обнаружить кого-нибудь, Зариф посмотрел вокруг. Но никого не было. Несколько секунд он напряжённо думал. Помнится, они уже проходили по этой дороге, возле будки дорога эта пересекала железнодорожное полотно. Он прикинул возможное расстояние между станцией и будкой и посмотрел на девочку. Она же, будто угадывая сомнения Зарифа, очень серьёзно глядела на него. Этот взгляд прервал колебания Зарифа. «Успею», – сказал он себе и, поудобнее обхватив ребёнка, побежал к станции.
Вот и станция. Перед платформой стоит красный товарняк. Поезд, видимо, скоро тронется, люди торопливо садятся в вагоны.
Зариф выбежал на платформу и не успел осмотреться, как раздалось пронзительное:
– Доченька! – И худая русская женщина бросилась к Зарифу.
– Мама! – Всем своим тельцем девочка потянулась к женщине и выскользнула из его рук.
Как выразить словами состояние матери, при ночной бомбёжке потерявшей своего ребёнка, ночь напролёт искавшей его, уже отчаявшейся найти, и вдруг… Задыхаясь от переполнявшей её радости, женщина застонала, судорожно прижалась к девочке и молча стала целовать её руки, лицо, глаза, волосы… Ребёнок выронил сахар. Около них начали собираться люди.
Отдав ребёнка, Зариф облегчённо вздохнул всей грудью, тыльной стороной ладони отёр со лба пот и внимательно посмотрел на мать с ребёнком. Может быть, ему хотелось сказать какие-то ласковые слова или услышать самому благодарность и одобрение. Но мать ещё не успела оправиться от потрясения, как Зариф быстро побежал вдоль полотна.
Женщина, спохватившись, начала что-то кричать ему вслед. Он оглянулся и лишь махнул рукой. Его теперь занимала одна забота: как побыстрее догнать роту и что сказать командиру?
Вот он увидел роту, пересекавшую железную дорогу. Зариф снял с плеча винтовку, крепко сжал её в руке и побежал ещё быстрее. На его счастье, недалеко от полотна в рощице рота остановилась.
Зариф подбежал к командиру, высокому, худощавому лейтенанту, стоявшему с папиросой в зубах несколько поодаль от бойцов.
– Товарищ лейтенант! – произнёс Зариф, задыхаясь от бега и волнения.
Командир внимательно посмотрел на раскрасневшееся, потное лицо Зарифа и сказал:
– Успокойтесь сперва.
От этого сдержанного голоса Зариф пришёл в себя. Он глубоко вздохнул и, почти не запинаясь, рассказал, где и по какой причине он отсутствовал.
Командир долго молчал. Зариф, боясь шевельнуться, ждал выговора. Наконец командир бросил окурок на землю, долго растирал его носком сапога, затем тихим голосом спросил:
– Кому отдали ребёнка?
– Матери.
В это время в роще, метрах в двухстах от роты, упал снаряд. Вместе с дымом в воздух взлетела земля, ветки и щепы от деревьев. Командир вытащил ещё одну папироску, не спеша закурил, снова посмотрел на неподвижно стоявшего перед ним Зарифа.
– Вы доброе дело сделали. Спасибо вам.
Зариф от неожиданности заморгал. Кажется, и командир это заметил, суровое лицо его, будто на него упал свет зари, вдруг просветлело и смягчилось.
– Вы меня поняли? – спросил он с добродушной улыбкой.
Зариф стоял со сжатыми от напряжения зубами, всё ещё не веря себе. На вопрос командира он только кивнул.
– А теперь идите на своё место, – услышал он затем.
Через полчаса рота, пройдя рощицу, вышла в открытое поле и, развернувшись в цепь, направилась на передовую позицию.
Это было уже настоящее поле боя. Здесь, на войне, чем наглее бывает смерть, тем уверенней в себе, стойкой, гордой и прекрасной предстаёт жизнь. Человек уподобляется алмазной крупинке. Несмотря на малую величину, едва различимую глазом, она несёт в себе все качества большого алмаза. Он твёрд… и он сверкает.
Зариф чувствовал на лице воздушную волну от разрывов снарядов, слышал свист пуль, пролетающих мимо уха, но ему казалось, что пуля не убьёт его, а если и заденет, то лишь ущипнёт слегка.
Странное дело, Зариф первый раз был на передовой, а чувствовал в себе непонятное для него самого спокойствие. Словно вселился в него покой этого солнечного утра, озарив своей красотой его душу. Он непроизвольно погладил шею. Как будто на ней ещё оставалось тепло от рук ребёнка.
1941
Глядя на горы
1
В тот год, когда кончилась война, стояла ясная, сухая осень. В один из таких осенних дней вернулся в деревню фронтовик, вернулся позже, чем другие… А на следующий день, захватив узелок с гостинцами, отправился проведать старика Лукмана и его старушку. Через покосившиеся ворота вошёл он в просторный большой двор.
Всё ему здесь было хорошо знакомо, но… Как всё изменилось! Двор зарос бурьяном. Когда-то аккуратный, ладный домишко постарел, стоял теперь сиротливо, обветшавший, съёжившийся.
Остановился гость на минуту, прислушался. Тишина. Только в сухой траве нехотя стрекочет кузнечик. Направился к дому, пригнувшись, вошёл в тёмные сени, нащупал дверь и, приоткрыв её, спросил:
– Можно?
Никто не ответил. Он переступил порог. Навстречу ему, заправляя под платок седые волосы, шла хозяйка.
– Здравствуй, бабушка Шамсинур! Как вы поживаете?
Она смотрела на гостя и не узнавала его:
– Кто ты, сынок?
– Это же я, бабушка, Ахметвали.
– Кто? Кто?
– Ахметвали, говорю.
– Ахметвали?! Сын Гайниджамал?
– Да, он самый…
– Ай Аллам! – оживилась старуха. – Смотри-ка, не узнала, ты, оказывается, вернулся? Жив-здоров?
– Вашими молитвами.
– Бог дал. Ай, какая радость для бедной Гайниджамал! Вот ведь, если жив человек, то рано или поздно вернётся к родному очагу.
Она потянулась в угол к старику – тот спал на сакэ, под жёлтой шубой:
– Стари-ик, встава-ай… Ахметвали вернулся…
Но жёлтая шуба оставалась неподвижной. Тогда старушка взобралась на сакэ и стала тормошить старика:
– Просни-ись. Ахметвали вернулся, к нам вот пришёл, встава-ай, целые дни спишь. Постарел, ох, постарел…
Наконец приоткрылся краешек шубы – старик Лукман приподнялся на локте. Широко раскрыв глаза, будто испугавшись, он молча смотрел на незнакомого человека в солдатской гимнастёрке.
– Здравствуй, дедушка Лукман, – улыбнулся тот.
– А кто это? – не узнавал старик.
– Ахметвали ведь, – ответила старуха. – Неужели не узнаёшь? Наш Ахметвали.
– А-а-а… Сын покойного Ахметгарея, значит?.. Та-ак.
Согнув длинные ноги в коленях, опираясь на руки, он передвинулся на край сакэ. Ахметвали положил узелок, обеими руками пожал руку сначала старику Лукману, потом бабушке Шамсинур. Старики, поднеся к лицу ладони, прочли короткую молитву, и бабушка Шамсинур заговорила дрожащим голосом:
– Ай сынок Ахметвали, ты же нам дорог, ты ведь был близким другом нашего Батырджана… Вместе росли, вместе уехали… Но тебе суждено вернуться, а вот он…
Слёзы переполнили её глаза, покатились по лицу, она прикрылась уголком платка, спадающего на плечи, коротко вздохнула:
– Ох!
А старик сидел спокойно. Положив на колени большие, обессилевшие руки, он сосредоточенно глядел на них, какой-то притихший, равнодушный. Ахметвали видел, как Лукман постарел, осунулся. Даже не постарел, а как бы совсем потух, обуглился, словно обожжённое молнией дерево…
О том, что Батырджан погиб, Ахметвали узнал ещё на фронте. Он получил письмо из полевого госпиталя от санитарки Сании. По тому отчаянию, которое чувствовалось в письме, понял, что Батырджан был очень дорог этой девушке. Но тогда было не до неё. Ахметвали тяжело переживал смерть своего друга и со страхом думал о том, как перенесут весть о ней старики Батырджана.
Теперь ему трудно касаться открытой раны этих осиротевших людей. Он забыл приготовленные слова утешения и, растерянный, обводил печальными глазами комнату, где всё было так знакомо: вот возле этого маленького столика в углу беседовали они с Батырджаном; столько раз перечитывали книги, которые стоят вон там, на той аккуратной полочке, сделанной руками Батырджана; столько раз вместе заводили вон тот красивый патефон… Всё по-старому, все вещи на своих местах, но потускневшие, с каким-то налётом печали, будто они тоже осиротели. «Да, горе большой утраты легло не только на стариков, – подумал Ахметвали, – даже стены избы словно закоптила эта печаль». Она угнетала его, давила. Вероятно, сами старики успели к ней привыкнуть, но вернувшийся с фронта солдат не мог примириться… «Нет! Копоть эту надо снять, соскрести», – решил Ахметвали. Он заговорил торопливо и просто:
– Вам тяжело… Я понимаю… Ко многим пришло большое горе. Но, что бы ни было, война закончилась нашей победой. Этому нельзя не радоваться. Лютый был враг, подлый. Эти звери ни стариков, ни детей не щадили. Вот от какого врага освободили мы страну! Легко сказать. Вы живы-здоровы, живёте, вижу, потихоньку, и колхоз, наверное, не забывает вас. Не правда ли?
Старик Лукман, приподняв голову, пристально глянул на Ахметвали. В тусклых глазах мелькнул недобрый холодок, обвислые губы зашевелились, но так и не произнесли ни одного слова. Не смог старик ответить, потому что горе и ненависть, пробуждённые в сердце словом «враг», нельзя передать словами. И Ахметвали, заглянув в эти холодно-стальные глаза, понял, что хотя в груди у старика и выгорело всё, но глубокая ненависть к врагу, отнявшему Батырджана, продолжает жить.
– Да!.. – сказал гость. – Велико горе, но есть и радость… Верно, бабушка Шамсинур?
Старуха, поправив платок, вздохнула чуть слышно.
– Ай, сынок Ахметвали, как тут не будешь благодарен Аллаху… Одинокими остались мы, вот скоро и помирать пора… Если бы не колхоз, куда бы нам деваться? Ведь вся деревня заботится. Нет, нет, жаловаться грешно, мы довольны, спасибо… Но, – старуха смолкла, стараясь подавить слёзы. – Тяжело, тяжело нам, душа надломилась… Никак не можем забыть, сынок Ахметвали. Вырастили единственного сына, уехал он и пропал. Остался ребёнок его, Батырджан. Этого берегли как зеницу ока, но теперь вот и он…
Слёзы не дают ей говорить – они обильно льются по морщинам. Беззвучно плачет бабушка Шамсинур.
Ахметвали, склонив голову, медленно проводит рукой по лбу, губы его сжимаются.
И вдруг тихонько звучит потухший голос старика Лукмана, разговаривающего как бы с самим собой:
– Не вернулся. Что ж поделаешь с ним?
Ахметвали вздрогнул. Не по себе стало ему от беспомощных слов старика, почудилась в голосе какая-то детская обида на внука, который не возвратился…
Ахметвали ещё долго сидел у них. Утешал, как мог. Но даже когда, передав бабушке Шамсинур принесённые чай и сахар, распрощался и ушёл, не мог освободиться от холодящих сердце слов старика Лукмана.
Хотя он, Ахметвали, пробыв четыре года на фронте, вернулся домой счастливым, окрылённым радостью победы, но всё-таки остро чувствовал, что война оставила тяжёлые раны, которые не так-то скоро затянутся. Ему хотелось сделать хорошее, доброе этим осиротевшим старикам. Он шёл и думал, как бы вывести Лукмана и Шамсинур из этой холодной тёмной пустоты, вернуть их к жизни.
2
Одряхлел старик, опустился, но чувствовал, что жизнь вокруг него продолжается. Деревня ожила. В эту первую послевоенную осень она принарядилась, посветлела. Те, кто уцелел на войне, вернулись домой. Стало больше мужчин, и кое-кто из тех, что помоложе, под горячую руку даже сыграли свадьбу. Весело шла осенняя уборка. Изголодавшиеся по мирной работе мужчины трудились на токах. Молотьба. Это был праздник. Особенно для женщин. А какой же праздник без шуток и смеха! И на осенний сев вышли мужчины. И хлеб государству сдавали мужчины. На подводах сидели парни в плащах, надетых поверх шинелей.
Всё видел старик Лукман, и встрепенулось его старое сердце. Ахметвали часто забегал к старикам, и весь дом их тогда заполнял его голос, но, к сожалению, ненадолго: пошумит-пошумит и снова торопится то в поле, то на гумно. С его помощью скоро сарай надел новую крышу, хотевшие упасть ворота встали на ноги. Завалинка наполнилась доверху землёй, привезли дрова.
И волей-неволей старику пришлось покинуть сакэ, пройтись по двору. Он ходил вокруг дома – посматривал, потрагивал: не нужно ли ещё что подправить. Ну а коли вышел, стал похаживать помаленьку, следом за палкой своей, и на ближнее гумно, и в кузницу…
Нет, оказывается, нельзя жить просто гостем, собирающимся на тот свет. Рановато. У него зачесались руки: всю жизнь не знавшие покоя, они просили работы.
Но люди, зная, что у старика большое горе, считали своим долгом оградить Лукмана от всех забот. Люди были добрыми. Только от их доброты старик чувствовал себя ещё сиротливее.
Вот и сегодня все ушли в поле, а Лукман в стороне. Ещё на зорьке поспешил он к правлению, долго вертелся около бригадиров, но все они, кто в шутку, кто всерьёз, говорили, что место его теперь в красном углу, что работы не хватает даже истосковавшимся по ней парням:
– Отдыхай, старик, отдыхай, натрудился уж, хватит.
– С нас – работа, с тебя – советы, бабай!
– Нельзя, Лукман-абый[15]15
Абый – старший брат, дядя. Почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.
[Закрыть], нельзя, неудобно перед покойным Батырджаном, если тебя впряжем.
Что мог ответить старик? Перед Батырджаном, перед его дорогим сердцу Батырджаном, неудобно им. А Лукману тяжело, – ох, не знают, как тяжело ему оставаться наедине со своими думами. Давит на плечи тоска, на душе какая-то гнетущая, унылая тишь, как на пустых полях осенью. И думает он, думает, невольно предаётся мучительным воспоминаниям. Особенно, если день, как сегодня, погожий, а деревенская улица пуста.
Лукман, торопливо надев свою жёлтую шубу, выходит за ворота, присаживается на большой поседевший валун и сидит, засунув руки в рукава, подставив спину солнышку. Только осенью бывают такие неповторимые, тёплые, тихие дни. Радостное сияние солнца, глубокая голубизна неба – как летом. Но неподвижная тишина вокруг, будто сама природа, смежив глаза и устало опустив плечи, погрузилась в дремоту, и тающий, размытый горизонт говорит, что это лишь отставший от своих дружков последний ясный день.
И в такой вот день старик сидит без дела, наслаждаясь греющим по-летнему солнцем. А рядом порхает пёстрая бабочка, и думы его оживают, мечутся.
Вон из-за гор одно за другим медленно выплывают синеватые, с белыми краями, облака, и тени от них плавно скользят по округлым вершинам. Тихонько скользнут – и проходят, скользнут и проходят… И так же незаметно проходит жизнь… Далёкое прошлое пробуждалось в тихой, опустошённой душе Лукмана, сидевшего на седом камне, подставив солнцу спину. Нахлынули воспоминания. Проплывали они в памяти медленно, друг за другом, как облака. Вот его молодость…
Как и сегодня, полсотни лет назад, по этим вот склонам бежала, резвясь и весело журча, речушка. Там, где были затоны, становилась она угрюмой, текла неторопливо. А дальше вновь бежала, то светлея, радостно искрясь, то темнея, словно печалясь о чём-то. То над ней горделиво, богатырски нависала гора, то речушка убегала прочь, и тогда покрытые цветами склоны холмов смотрели в её смеющееся лицо.
Подбегая к деревне, речушка понемногу ширится, темнеет, становится глубже и, наконец, превращается в спокойную медлительную реку. Там – запруда, с одной стороны которой – красный от глины яр, а с другой приютилась у старого дуба маленькая, накренившаяся набок мельница под соломенной крышей.
На той запруде прошли детство, юность и вся жизнь старика Лукмана. Мельницей, оставшейся ему в наследство до коллективизации, пользовались только безлошадные мужички да овдовевшие старухи. Гарнцевого сбора[16]16
Гарнцевой сбор – плата за помол и переработку зерна.
[Закрыть] на жизнь не хватало, и поэтому Лукман весной и летом рыбачил, а зимой ставил капканы на зверя, прослыв в деревне хорошим охотником. К этой земле своих дедов, к этой речушке, которую они перегородили когда-то запрудой, старик был привязан сердцем, и неумолчный шум воды у мельницы звучал для него мелодичной, напевной сказкой. Вот по этой тропинке, протоптанной ещё его отцом от камня, на котором сейчас сидит старик, до запруды, ходил он восемьдесят лет и думал, что никогда не зарастёт она травой.
3
Когда Лукману перевалило за тридцать, он привёл к себе в дом молодую жену Шамсинур. Уже после того как поженились, пришла к ним любовь, и жили они дружно, в согласии. Народились одна за другой четыре дочки. Но ежегодно в деревне свирепствовала чёрная оспа. И девочки, одна за другой, сошли в могилу, остались в памяти лишь их имена. Здоровый, жизнерадостный мужчина затосковал, пока наконец Шамсинур не подарила ему мальчика. Этот уж должен был расти, не поддаваясь никаким болезням, потому и назвали его Тимерджаном[17]17
Тимер – железо.
[Закрыть].
Сын! Словно чистый, серебристый родник, пробивающийся из земли, бегущий вперёд и вперёд, через все преграды. Ах, как рад был Лукман мальчику, все свои надежды возлагал на Тимерджана. Откуда-то издалека, из глубины прошлого смотрит ему в глаза парень, стройный, как тростник, шапка набекрень, а лица уже не разглядишь… А детство этого парня совсем в тумане, лишь некоторые мгновения былого оживают перед глазами. Помнит он, как водил Тимерджана туда, на мельницу. Мальчик, как только встал на ноги, должен быть с отцом. Если будет расти в тепле, под материнским крылышком, станет слабым, изнеженным; его нужно вывести на ветер и дождь, на жару и холод, чтобы рос он здоровым и крепким.
Сейчас старик уже не помнит, но, кажется, именно так он думал тогда. Но хорошо запомнилось ему, как Шамсинур, потеряв покой, то и дело бегала к реке, беспокоилась:
– Где он? Что делает?
Лукман нарочно, чтобы попугать жену, отвечал беспечно:
– Даже не знаю. Только что тут был.
Шамсинур металась вокруг мельницы.
– Как это «не знаю»? Ведь он утонуть может. Нет, больше ты его с собой не возьмёшь.
Тогда Лукман успокаивал жену:
– Ну, ну, не тревожься, пошутил я. Вон твой Тимерджан, с горы камни катает.
А с вершины крутой горы смотрит на деревню похожий на шаловливого козлёнка простоволосый мальчишка в красных штанах и белой рубашке.
Шамсинур опять пугается:
– Ай, Аллам! Скатится ведь.
– Скатится, так снова поднимется. Пусть растёт на воле, – говорит Лукман, которому нравится, что сын его смел и проворен.
И Тимерджан действительно вырос на воле… Отец почти не видел сына около себя: живой, беспокойный мальчишка целые дни пропадал то на реке, то в горах – рыбачил и охотился. Лукман не ругал его, если тот приходил исцарапанный, вымокший. Только потреплет, бывало, жёсткие чёрные волосы: «Ах ты, маленький шурале[18]18
Шурале (миф.) – лесной дух.
[Закрыть], матери таким не показывайся».
Странно… Теперь ему кажется, что детство Тимерджана длилось какое-то мгновение, а не долгие годы… Постой… Постой… Когда это Тимерджан превратился в юношу? Будто случилось это внезапно… Да, Лукман помнит, как неожиданно понял он, что Тимерждан уже годен для настоящей, «взрослой» работы.
…Была зима. Кажется, конец февраля. Весело поблёскивали под солнцем лбы гор. Белые поля стали просторными, прояснились дали, от деревьев ложились на снег лёгкие голубые тени. Чувствовалось тёплое, влажное дыхание медленно приближающейся весны.
Вдвоём с Тимерджаном шли они, таща большие салазки, в лес, который вот за этими горами. Потом они часто ходили в тот лес, но этот день, когда впервые пошли вдвоём, навсегда врезался ему в память. С годами старику всё больше казалось, что этот день приснился, что не было его наяву. Да и сон-то какой сказочный… Так что сейчас Лукман уже не может сказать с уверенностью, был этот день или не было его.
Лес… Тишина. Такая тишина! Ни души, ни звука, ни шороха. Крикнешь, и голос твой, вздрагивая и звеня, уйдёт куда-то далеко-далеко, уйдёт и канет камнем, брошенным в воду. И спокойна опять поверхность, и снова – глубокая тишина, никто не проснётся, ничто не шелохнётся вокруг, даже какая-нибудь длиннохвостая сорока не вспорхнёт меж ветвей… Нет, хоть лопни от крика, а лес будто и слышать и знать тебя не хочет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































