Текст книги "Невысказанное завещание (сборник)"
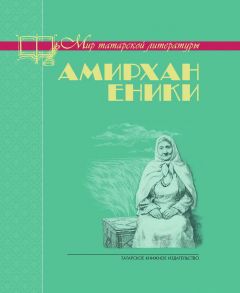
Автор книги: Амирхан Еники
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Невысказанное завещание
Баязиту Бикбаю
1
Дует лёгкий ветерок… Стелется, несётся ковыль. Потряхивая шелковистыми метёлками, с тихим шуршанием мчится вперёд, суетливо и озабоченно, будто боясь опоздать куда-то… Не оторвать взгляда… Эх, уйти бы за седым ковылём далеко-далеко по необозримой пустынной степи. Земля под ногами тёплая и ласковая, резвый ветерок треплет по лицу, покой и умиротворение проникают в душу. Здесь так хорошо!.. И грустно. Почему-то грустно. Оттого, может быть, набегавшись вволю по бескрайней, молчаливой башкирской степи, хочется припасть к земле и выплакать эту непрошеную грусть-печаль…
По серебристому морю ковыля идёт маленькая худая старушка, в подоткнутом платье, в фартуке, в белом платочке. На левой согнутой руке висит старое ведёрко, в правой она держит палку. Идёт не торопясь, глядя по сторонам, что-то ищет в траве. Вот заметила кизяк[26]26
Кизяк – высушенный навоз, используется в качестве топлива.
[Закрыть], отодрала его, перевернула палкой, затем наклонилась, подняла и кинула в ведро. Вот снова наклонилась, снова ищет… Однако не больно разживёшься нынче кизяком близ деревни. Колхозный скот здесь уже не пасётся, много ли наложат «блинов» телята из одной крохотной деревушки! Какое уж топливо в степи, вот и ходит старушка каждый третий день за кизяком, хорошо, если ведро наберёт. Так уж повелось исстари. Кизяк незаменим для очага, на кизячном огне суп кипит медленно, лениво, варится долго, зато вкусен. Будто луговым ароматом пропитался.
Да и любит старуха бродить по степи, только вот неможется ей в последнее время. То ли от старости, иль болезнь какая пристала – тяжесть во всём теле, ноги ноют, и сердце замирает. Временами знобит, а то вдруг в жар бросит. Как бывало раньше: попьёшь горячего чайку из цветов душицы, полежишь, пропотеешь и снова на ногах, как ни в чём не бывало. А тут и душица не помогает. Вот и сегодня, печёт солнце, а немощное тело старухи никак не согреется, будто лёд внутри, мурашки по спине бегают, а глаза жжёт, губы пересохли, еле передвигает она отяжелевшие старые ноги… «Чего мучаюсь, пойду-ка домой», – вяло говорит она себе и поворачивает к деревне.
Пройдя узким переулочком с буйно разросшейся вдоль плетней крапивой, старуха вышла на покрытую травой-муравой широкую улицу села, и тут ей встретился старик Миннибай. Этого сухого, словно провяленного на солнце, деда с тонкими журавлиными ногами считали самым старым в деревне. Никак, за девяносто ему перевалило. Он и сам толком не знал, сколько ему. В прошлом году умер его старший сын Миннигарай, а ему уже за семьдесят было. Дед живёт теперь у старшего сына Миннигарая – Миннигали. У Миннигали уже женатый сын и замужние дочери. И у них дети. Старик Миннибай, таким образом, удостоился увидеть четвёртое поколение своего потомства. Чудное это поколение, всё у них непривычно для старика. Даже имён не может запомнить дед, Виля называет Вильданом, Эмму – Эсмабикой…
Да, зажился старик на свете. Когда-то он не слышал паровозного гудка, а теперь успел увидеть за свою долгую жизнь и трактор, и автомашину, и самолёт, и радио, и не где-нибудь, а у себя дома, в своей родной деревне, и старик даже не удивился им. Не успеваешь удивляться, так быстро меняется нынче жизнь. А всё же проняло однажды старика, когда услыхал он, будто в волков прямо с самолётов стреляют. Подумать только – так сверху и «бьют». Да-а! Ну и времена пошли! Бывало, и он ходил на волков, немало бил их, будучи молодым… Наденет свой белый чекмень да бобровую шапку, подпояшется красным кушаком, сядет на своего не знавшего хомута степного жеребца и рыщет по полю, пока не нападёт на след. А там пустит борзого, стрелой летит пёс, вёрст десять – пятнадцать отмахаешь, пока загонишь. Да как дашь палицей по голове на всём скаку. Вот это была охота! А теперь… с воздуха стреляют. Ни тебе интересу, ни азарту! Э-э, нет, не те времена, не те… Всё машиной да машиной, а что остаётся делать рукам да сердцу человеческому?!
У старика Миннибая теперь никаких дел ни с миром, ни с колхозом. Еле теплится жизнь в его иссохшем теле. Поест, что подадут, развернёт старый тюфячок и спит. Так и тянет, так и растягивает он свою жизнь. Единственное у него занятие – топтать поле. Каждое утро, слегка припадая на тонкие журавлиные ноги, будто пружиня ими, и размахивая длинной можжевеловой палкой, он проходит по улице, выйдя в поле, не останавливается, а шагает дальше, прямиком, не разбирая дороги, куда его сегодня ноги поведут. Поднявшись на пригорок, обопрётся обеими руками на палку и долго, неподвижно глядит вдаль.
Как свои пять пальцев знает он эту Юлкотлинскую степь, без ошибки назовёт вам пригорки и балки, поля и пустоши. Мало кто теперь помнит эти старые названия. Уже не говорят, к примеру, Каракошево[27]27
Каракош – орёл, чёрная птица. Каракошево поле – Орлиное поле.
[Закрыть] поле или Атчабарова[28]28
Атчабар – гонец.
[Закрыть] пашня, а называют попросту участок той или другой бригады. Сплошь пропахали нынче Юлкотлинскую степь. Старые межи и старые названия все под бороздой остались…
Старик спускается с пригорка, проходит низинами, вдоль борозды пересекает пшеничные поля и, изрядно прошагав таким образом, возвращается иной раз с другого конца деревни. Встретит кого, сам не заговорит, будто и не замечает, если окликнут: «Здравствуй, дед Миннибай!», коротко бросит: «Здравствуй!» – и проходит мимо. О чём старик думает, когда бродит по полям, чего ищет, никому не ведомо.
Вот и сегодня старушка, столкнувшись с ним нос к носу, сочла неудобным пройти молча и, прикрывая рот ладонью, поздоровалась с дедом:
– Здравствуйте, дядя Миннибай!
– А, это ты, Акбикэ-килен[29]29
Килен – молодуха, сноха, невестка.
[Закрыть]? Слава Богу! – Старик остановился.
Семидесятилетняя старушка для него всё ещё была молодухой, а Акбикэ звал её только он один, для других она давно стала уже Акэби[30]30
Акэби – буквально: белая бабушка.
[Закрыть].
– Откуда идёшь-то? – спросил старик.
– Да вот, за кизяком ходила…
– Ну-ну… хорошо, когда огонь в очаге не гаснет. Сама-то как, не болеешь?
– Всё бы ничего, да слабость одолела в последнее время. – Старушка утёрла концом платка взмокшее лицо.
– Не болей ты, некому за тобой, старой, ходить.
– Пройдёт, коль срок не настал.
– Пройдёт, Бог даст, пройдёт… Много уже через нашу голову прошло, – поддакнул старик, тряся жиденькой седой бородёнкой. – Ну ладно, старая, иди, – сказал он и, нетвёрдо ступая на длинные ноги, зашагал прочь. Не любил старик лясы точить с бабами.
От жердевых ворот Акэби прямо прошла в плетёный сарайчик. В этой обмазанной изнутри глиной постройке с земляным полом хранилась скудная посуда старушки, здесь же она готовила себе еду. Возле низенького очага с прямой железной трубой Акэби опорожнила ведро. Плеснув в казан три-четыре ковша воды, набила очаг сухим хворостом, чиркнув, поднесла спичку. Когда хворост разгорелся, ловко обложила его кизяком. Акэби думала, согрев воду, перемыть сперва посуду, потом сварить себе половничек-другой пустой мучной похлёбки. Почему-то захотелось ей вдруг мучной похлёбки со шкварками и курутом[31]31
Курут – особый сорт сушёного сыра.
[Закрыть]. Но чует старуха, ни сварить, ни съесть она уже не сможет: еле переставляет ноги, усталое тело так и тянет вниз… Наконец, не выдержала, подгребла кизяк к краю очага, притушила огонь и решила полежать. Проходя двором, через плетень попросила соседскую молодуху:
– Дочка Гарифа, присмотри за моим очагом, прилягу немножко, неможется мне что-то.
– Присмотрю, Акэби, не беспокойся, ступай себе, – охотно отозвалась проворная молодуха, по побледневшему лицу старухи сообразив, что та не на шутку расхворалась.
Акэби вошла в прохладную, полутёмную, с закрытыми ставнями избу с ароматом полынного веника. У самой стены на широких нарах расстелила перину и, шепча молитву, легла, завернувшись с головой в стёганое одеяло. Ей очень хотелось согреться. Но лишь только закрыла глаза, будто в омут провалилась, зазнобило и затрясло от холода. Потом понемногу начала согреваться, но согреться как следует и заснуть так и не удалось, лежала съёжившись, в каком-то полузабытьи. Зашла Гарифа, спросила, как себя чувствует, не хочет ли поесть чего или попить. «Есть не хочется, а вот чаю горяченького попила бы», – ответила Акэби.
Гарифа принесла сваренный на горячей золе густой чай, бросила кусок сушёной смородиновой пастилы в чашку и с жидким мёдом подала больной. Сморщенные худые руки старухи тряслись, она взяла блюдечко и поднесла к дрожащим сухим губам. Выпив чаю, старуха поблагодарила соседку, обнадёжила, что всё, даст Бог, обойдётся, хорошенько пропотеет за ночь и завтра встанет на ноги, но пусть уж сегодня Гарифа встретит её козу, подоит и молоко поставит на погребице. Гарифа всё обещала сделать, велела спокойно лежать, укрыла старушку и пошла к себе.
Но старушка ни на другой, ни на третий день не поднялась. Не простая, знать, болезнь, которая отпускает, стоит полежать денёк-другой, на этот раз было что-то посерьёзнее. Старушка ещё успокаивала себя, но всё же нет-нет да закрадывалось в душу сомнение, уж не смертный ли час настал, предначертанный ей Господом.
Соседи наведывались. Гарифа поила и кормила старуху, приглядывала за домом. Так день за днём, но улучшение не наступало. Стали поговаривать, не сообщить ли детям Акэби. Но больная воспротивилась, не хотелось ей зря беспокоить сыновей и дочерей, живущих в далёких городах, она ещё рассчитывала подняться. Авось кто из детей и сам догадается навестить, надеялась она, ведь не забывают они свою мать, хоть изредка, да наезжают, дай Бог им здоровья.
В последние годы старушка только и жила тем, что ждала приезда своих детей. Правда, лет десять тому назад, когда умер отец, дети звали её в город, да она не захотела бросать родной угол и родной край. Здесь, в Юлкотлы, она родилась и выросла, невесткой вошла в этот самый дом старика Кахармана и прожила в нём пятьдесят пять лет, сыновей и дочерей подняла. Здесь, в земле Юлкотлы, похоронены её отец, мать, братья, сёстры, её дети, умершие в младенчестве, её старик, с которым прожила свой век. Ну как она может всё это бросить?.. Много ли осталось ей жить? Чем в чужой земле лежать, лучше уж быть ей рядом с отцом, матерью, возле своего старика и ребяток, рассудила она тогда. И что бы ни случалось, пока оставалась тверда в своём решении.
Но всё же нелегко было старой. Как ни связывала её родная земля, как ни дороги ей были покойники, лежащие на обведённом канавой кладбище за деревней, они не могли заполнить её жизнь, облегчить одиночество. Живя здесь, душой она была далеко отсюда, со своими детьми. О них думая, по ним тоскуя, она проводила и неуютную долгую осень, и холодные зимние месяцы, терпеливо ждала лета, а уж летом сын ли, дочь ли, кто-нибудь да должен приехать к ней и привезти внучат… Так уж повелось: она собственно и жила ради одной этой летней недели и весь год готовилась к ней. Масла и яиц накопит, мяса накоптит, казы[32]32
Казы – колбаса из конины.
[Закрыть] приготовит, насушит черёмухи, куруту наварит – всё для них, для детей. Особенно тосковала она по внукам. Их приезд для неё был настоящим праздником, всё на свете забывала она при них, так и светилась от радости и счастья… Жаль только, что родители этих малышей приезжали к старухе лишь на короткое время. Всё-то они спешили куда-то. Одного ждала работа, другой торопился на курорт, да, кажется, ещё боялись они, как бы дети их, чего доброго, не заболели в деревенских условиях. Поживут, одним словом, с недельку, и сколько бы старуха ни упрашивала, сунут ей в руку, для утешения, побольше денег, наобещают с три короба, да и ускачут.
И пройдут эти долгожданные, считанные дни, будто и не было их. Снова начнётся похожая на долгий сон одинокая жизнь в ожидании нового сладкого сновидения.
Такие уж времена нынче, ничего не поделаешь. Дети Акэби, те, которые выжили в детском возрасте, подрастали друг за другом, оканчивали среднюю школу в соседней деревне и, словно птенцы, у которых отросли крылья, разлетались в разные стороны. Дочь Гульбикэ и старший сын живут сейчас в Уфе. Другая дочь, та, которая стала врачом, – в Пермской области. Самый младшенький после окончания авиационного института был послан в Казахстан, кем-то работает там в одном очень важном месте.
Старший – Суфиян – полковник, теперь уже в отставке, Гульбикэ работает в одном из научных институтов Уфы, муж её, чакмагошский башкир, какой-то важный начальник. Словом, все стали большими людьми. Тот учёный, другой инженер, а та врач… В прежнее время не то что из одной семьи, со всего уезда столько учёных башкир не выходило. Девушкой не помнит Акэби, чтобы слышала о докторе из башкир или татар. И сейчас на памяти: заболит, бывало, в деревне у кого-нибудь зуб, за восемнадцать вёрст скакали в чувашское село за табаком.
Ну и времена же были! Что и говорить, привалило её детям счастье, привалило!
Только вот слишком счастливые дети её как-то отдалились от матери. И жаловаться грешно, ведь помогают, не бросают её, спасибо им за это, но тревожно всё же старухе: вовсе, кажется, начинают они забывать родной край, их маленькую Юлкотлы, отчий дом. И мысли, и интересы их теперь где-то на стороне, вдали от родных мест… Вот Суфиян. Сколько мотался по белу свету, какого высокого положения достиг, в возраст уже вошёл, у самого дети подросли, уж и не работает нигде, пенсию большую получает, машина у него своя – ему-то уж можно было бы и почаще приезжать в Юлкотлы… Но что с ним поделаешь, всё жалуется на нехватку времени, в каких-то там комиссиях работает, зимой месяца на два уезжает на курорт, или с такими, как сам, полковниками без погон ночи напролёт дуется в карты, а настанет лето, погрузит в свою машину жену и детей, да махнёт либо в Крым, либо в Саратов – к родственникам жены. (Суфиян ещё до войны, когда служил в Саратове, женился на русской. Акэби это огорчило тогда.) А вот Юлкотлы, всего-то в ста двадцати верстах от города, остаётся в стороне, гуси, специально для них копчённые старухой-матерью, так и висят в кладовой, не находится у полковника времени и случая повидать родную деревню, порадовать мать. Как же ей не обижаться, как не скорбеть.
А всё же прошлым летом взрослый сын Суфияна Геннадий на отцовской машине приезжал навестить бабушку. Прожил он три дня, три дня подряд Акэби ставила перед внуком, ни слова не знающим по-башкирски, всё своё угощение, с грустной лаской молча глядела на него. Парень был рыжеволос и крепок, спортсмен, когда шагал по улице, старуха через плетень с удивлением смотрела на его широкую в пёстрой рубашке спину. За день парень обошёл все окрестности Юлкотлы, покатал на машине детвору, потом притащил из колхозной кладовой две пудовые гири, и утром и вечером играл ими, поднимал и подбрасывал.
Парню не с кем было даже словом перемолвиться в деревне: девушки на джайляу[33]33
Джайляу – летнее пастбище.
[Закрыть], а джигиты тоже разбрелись кто куда, – Акэби была этим очень расстроена. Чтобы хоть как-то развлечь внука, она, бывало, заговорит с ним по-башкирски, но Геннадий ничегошеньки не понимал, с щедрой улыбкой глядел на свою бабушку и, чтобы хоть не оставлять её без ответа, говорил, бодро кивая головой:
– А, да-да, точно!
Однажды между бабушкой и внуком произошло забавное объяснение. За утренним чаем, угощая внука жаренными на топлёном масле кислыми блинами, Акэби начала было: «У нас, башкир…» – но Геннадий, по-своему поняв бабушку, вдруг заявил, тыча себя в грудь большим пальцем:
– Я тоже башкир, бабушка, башкир я! – да ещё подморгнул ей, не волнуйся, мол, всё в порядке.
Акэби задумчиво поглядела на внука, вздохнула про себя, потом с тихой лаской улыбнулась ему: что ни говори, в этом рыжем парне и в самом деле текла её кровь, башкирская кровь!
Так и жила Акэби одна, ожидая сыновей и дочерей, скучая по внукам, думая о них свои весёлые и грустные думы, и пока что была в добром здоровье. Лето пробуждало в ней надежды, она становилась радостной, возбуждённой, начинала прибирать в доме, проверяла свои запасы – готовилась к встрече детей. А вот нынче, не то срок подошёл, положенный Богом, с наступлением лета начала прибаливать, перемогалась, пока могла, и, наконец, слегла.
Вначале Акэби надеялась быстро подняться, почему и не разрешала соседям вызывать из города детей, но чем дальше, тем ей становилось хуже. За какую-то неделю она заметно похудела, потеряла аппетит. Соседи забеспокоились и, посоветовавшись меж собой, решили сказать юлкотлинскому бригадиру колхоза Саитгали.
Правление колхоза находилось в шести километрах от Юлкотлы, в деревне Сыртлан, поэтому Саитгали у себя в селе был единственный хозяин. Каждое утро сядет верхом на свой мотоцикл и по утоптанной дороге протарахтит в Сыртлан, а вечером тем же манером примчится обратно. Когда Гарифа сказала ему об Акэби, Саитгали следующим же утром, проездом в Сыртлан, остановился у ворот старушки. По тарахтенью Акэби догадалась, кто пришёл, и забеспокоилась, не случилось ли чего. Дверь открылась, слегка пригнувшись, вошёл Саитгали в пыльных сапогах, в обвисшем мешком тёмно-синем пиджаке, какие встретишь только на бригадирах да на председателях колхозов.
– Здорово, Акэби! – нарочито громко поздоровался он. – Что лежишь, старая, уж не заболела ли?
– Болею, Саитгали, – с виноватым видом ответила Акэби.
– Не говори пустое. Сроду ведь не болела… Тебе ли поддаваться болезням! Нехорошо, нехорошо, не пугай нас…
Саитгали присел на краешек нар, старушка суетливо подобрала одеяло к себе.
– И верно, нехорошо, да что поделаешь, коль час настал.
– Какое там настал… Простыла, небось, вот и вся недолга… Что болит-то?
– И не болит вроде, но задыхаюсь… дышать трудно, – сказала Акэби, потирая рукой шею и грудь.
Саитгали внимательно разглядывал осунувшееся, с желтизной лицо старухи:
– Что делать будем, Акэби, может, врача позвать?
– Не нужно, сынок, даст Бог, обойдётся…
– Ну-ну… – Саитгали ещё раз пристально посмотрел на старуху. Нет, не похоже, чтобы обошлось. Лицо – словно лимон, и глаза помутнели. – Может, в город сообщить, – осторожно заговорил Саитгали. – Дяде Суфияну или же Гульбикэ, пусть кто-нибудь приедет, тут и подумали бы сообща…
– Потерпим немного… люди они занятые… – сказала старуха, думая о чём-то своём.
– А! Брось ты это! – возразил Саитгали, уже собираясь уходить. – Найдут время для единственной-то матери! Ну ладно, поговорю с председателем, что-нибудь придумаем. А ты, старая, лежи себе спокойно. И поправляйся.
– Дай, Господи!.. Спасибо, что зашёл, сынок.
Следом за Саитгали вышла Гарифа, они о чём-то долго шептались в сенях. Затарахтел мотоцикл, выплёвывая отрывистое рычание, рванул с места, грохот постепенно отдалялся и замер где-то далеко.
А через несколько дней, поднимая за собой клубы пыли, со стороны Сыртлана показалась новая зелёная «Волга». Оставляя чёрный след на сизо-зелёной траве, она промчалась по широкой улице села и остановилась у ворот Акэби. Из машины вылезли статный, плотный мужчина в летнем габардиновом пальто и голубоватой шляпе и высокая, худая женщина в шёлковом плаще и в синей косынке. Это были дочь и зять Акэби.
Когда они вошли в избу, сумеречную от закрытых ставен, и дочь негромко позвала: «Мамочка!», Акэби, лежавшая в полудремоте, вздрогнула и открыла глаза; какое-то время она растерянно осматривалась, пытаясь понять, сон это или явь, потом встрепенулась, порываясь встать.
– Доченька! – молвила она проникающим в душу голосом.
Дочь подошла и склонилась над ней, поцеловала в лоб, – обхватив друг друга за плечи, они вдруг обе заплакали. Потом подошёл зять, большими сильными руками почтительно-осторожно взял измождённую руку тёщи и, чуть нагнувшись, подчёркнуто бодро сказал: «Ну что, мама, заболела? Ничего, ничего, всё обойдётся!» Откинув полу пальто, он сел на нары от больной подальше. И дочь в своём шуршащем плаще опустилась возле матери. Оба в один голос не велели старушке вставать. Старушке страшно неловко было лежать при зяте, ей бы вскочить и завертеться волчком перед дорогими гостями, но, что поделаешь, пришлось покориться. Она всё же приподнялась, села, прислонившись к подушке, и распорядилась, чтоб Гарифа открыла ставни и поставила самовар.
Когда ставни открыли, в избе посветлело. Акэби рассмотрела чистые, гладкие лица по-городскому ладно одетых дорогой дочери и дорогого зятя. Она вновь почувствовала неловкость оттого, что больна, и, чтобы не заплакать, глубоко вздохнула. И те, в свою очередь, увидели осунувшееся и пожелтевшее, шафрановое лицо матери: мать исхудала, высохла, стала совсем маленькой. Увидели и притихли, не зная, что сказать, лишь незаметно переглянулись. Такого они не ожидали. Правда, когда позвонили из колхоза, они поняли, что старуха всерьёз заболела, и отправились в путь с определённым решением. Теперь двух мнений не могло быть. Работы у обоих много, времени в обрез, вот и решили не тянуть и сейчас же высказать старухе свои планы.
– Мамочка, – заговорила дочь, потянувшись к матери. – Мы приехали, чтобы увезти тебя. Покажем докторам, будем ухаживать, в городе ты быстрее поправишься.
– Правда, мама, у нас тебе будет лучше, здесь и врача нет, и ходить за тобой некому, как ты будешь тут одна? – добавил зять.
Старушка не сразу нашлась что ответить, к горлу подступил комок, до слёз тронула её забота детей, но в то же время в душу закралось сомнение.
– Спасибо вам, дети! – тихо заговорила она. – Напрасно беспокоитесь, Бог даст, и здесь поправлюсь.
– Нет, мамочка, не можем мы оставить тебя, – настойчиво возразила дочь… – Увезём. Тебя лечить надо…
– Дом останется без присмотра…
– Пусть остаётся, что с ним сделается, соседи приглядят.
Старушка ничего больше не сказала, лишь вздохнула, она, кажется, и сама догадывалась, что без врачей ей на этот раз не выкарабкаться. Да и лежать одной страшновато. А в городе у неё дети, если что случится, они будут рядом. И в то же время она и боялась этого «что случится», то есть смерти, и потому не хотела покидать родной очаг. Она всегда боялась умереть на чужбине и быть похороненной в чужой земле. Нет, она хочет умереть здесь, в своём маленьком домике, в котором отдал Богу душу её старик, хочет быть похороненной своими односельчанами на маленьком деревенском кладбище, рядом со своим стариком и рано усопшими детьми. Но как противостоять воле дочери и зятя, специально приехавших за ней? Живой надеется на лучшее, может, они в самом деле поставят её на ноги, – ведь затем и приехали. Трудно, очень трудно было старушке развязать этот узел!
Чай накрыли на сакэ рядом с больной. Сидя в постели, старуха распоряжалась угощением – велела Гарифе достать из погреба молока и масла, принести из чулана сотового мёду, копчёной конской колбасы. Бедновато получилось, да что поделаешь, была бы сама здорова, горяченького бы приготовила, чужие руки – не то. Вот и дочь с зятем твердят, не беспокойся да не беспокойся, всё, мол, вкусно, всего хватает. Торопятся, видимо. Решили забрать мать в город, ну и сами приехали на этот раз без гостинцев. Дочь, правда, прихватила парочку лимонов и кулёчек шоколадных конфет, она высыпала их на скатерть. Лимон пришёлся по вкусу больной, она, как ребёнок, обрадовалась ему – подержала в руке и даже несколько раз понюхала.
Сели вокруг скатерти. Гарифа разливала чай. Старуха повеселела. Нежданно-негаданно привёл Господь ещё раз посидеть с дорогими ей людьми за чаем в собственном доме. Раз в год выпадает такое счастье, тем и живёт она целый год, жаль только, в постели приходится принимать. Оттого, возможно, как ни приятно ей в эту минуту, на душе было грустно и тревожно, будто чуяла она недоброе…
За чаем разговор шёл вокруг дел, связанных с отъездом. Неприятен был этот разговор старухе, всё ещё не хотелось верить, что она уедет, поэтому говорила больше дочь. По её просьбе Гарифа обещала присмотреть за старухиной козой и курами. Клеть запиралась на замок, для дома тоже нашёлся старый железный замок, Гарифе велели закрыть дверь и ключ держать у себя. Старуха, молча слушавшая этот разговор, совсем расстроилась. Наконец она не выдержала, дрожащим от слёз голосом сказала:
– О Господи, разве думала я, что брошу свой дом, в котором век прожила…
– Ну что ты, мама, говоришь! – словно удивилась дочь. – Не насовсем же уезжаешь, вот поправишься и вернёшься.
Старуха грустно улыбнулась, будто хотела сказать: «Утешай, утешай!» – однако промолчала.
Не успели напиться чаю, засобирались в дорогу. Зять хотел поспеть к вечеру на какое-то собрание. Он пошёл к машине. Запылённую зелёную «Волгу» обступила детвора. Даже те, что ходить едва научились, пришли. А кто постарше кружили вокруг машины, щупая и гладя её блестящие части, только что наверх не забрались. Увидев большого, важного дядю, они врассыпную кинулись в стороны, потом осторожно приблизились и снова плотным кольцом окружили машину. Их юркие глаза, горевшие тайным желанием покататься, в упор уставились на солидного дядю. Один черноголовый мальчуган не выдержал и стал жалобно канючить:
– Дяденька, а дяденька, покатайте, ну пожалуйста!
Важный дядя покачал головой и прищёлкнул языком:
– Нет, ребятки, не получится, торопимся. Вот обратно привезём вашу Акэби, тогда покатаю, сколько вашей душе будет угодно, договорились?
Услышав «Акэби», ребята притихли. Иной раз они быстрее взрослых понимали, в чём дело.
Начали подходить собравшиеся у соседних ворот старики и женщины. Весть о том, что Акэби увезут в город, вмиг облетела маленькое селение, но, подчиняясь деревенским обычаям не мешать дорогим гостям из города попить чаю и отдохнуть с дороги, женщины какое-то время держались в стороне. А вот теперь можно было подойти.
Кто постарше, те прямо прошли в дом. Акэби была родным для них человеком, всю жизнь они прожили с ней вместе, привыкли к ней, и проводить её в далёкий путь для них было большим событием. Лица их были серьёзны и задумчивы, все будто чуяли недоброе, будто не надеялись увидеть ещё раз свою старушку…
Скоро показалась в дверях Акэби в бешмете[34]34
Бешмет – одежда в виде кафтана со стоячим воротником.
[Закрыть] и большой цветастой шали, в толстых шерстяных чулках и галошах, её поддерживали с одной стороны дочь Гульбикэ, а с другой – соседка Гарифа. За ними женщина несла большую подушку.
Зять распахнул дверцу машины. Старуху осторожно усадили, положив под бок подушку. Дочь села рядом. К окнам машины склонились головы женщин.
– В путь добрый, Акэби!
– Возвращайся скорей, родимая!
– Не забывай нас, мы будем тебя ждать, – говорили ей со всех сторон.
– Прощай, сверстница, увидимся на том свете! – очень спокойно, но от души сказал ей опиравшийся на палку старик.
Гульбикэ велела мужу скорее ехать. Дав короткий гудок, машина плавно тронулась.
Едва отъехали, Акэби всполошилась:
– Ах, Боже мой, саван свой позабыла!
Дочь вздрогнула, поморщилась.
– Мама! – крикнула она с обидой и упрёком. – Нашла о чём вспомнить!
Старуха замолчала, закрыла глаза и сникла.
Зелёная машина, мягко покачиваясь и поднимая пыль, выехала из Юлкотлы. Собравшиеся у ворот маленькой избушки женщины молча глядели на дорогу, на клубящуюся пыль, на машину, пока она не скрылась из виду.
2
Тихо лежала Акэби одна в маленькой комнатке, на узкой пружинной кровати, уставясь в потолок и прислушиваясь к глухо доносящемуся откуда-то снизу гулу большого города. Мягкая постель, белоснежная простыня, сатиновое стёганое одеяло – всё здесь приятно и удобно для её тощего, кожа да кости, тела. Спасибо зятю и дочери – оказали ей уважение, в отдельной комнате поселили. Ей, правда, очень не хотелось их стеснять, но зять с дочкой и рта не дали раскрыть. Ради неё прислугу даже из этой комнаты перевели на кухню. Лишь потом сообразила старуха: в этом доме не только комната больного, но даже посуда должна быть отдельной.
Внимание к старухе вначале было большое. В первый же день с другого конца города примчались повидаться с ней сын и его жена. Суфиян, приземистый и крепкий как молот, с большой круглой головой и мощной короткой шеей полковник в отставке, всем своим видом и манерами был законченный военный, настоящий «енерал». Говорил он громко и отрывисто, шумно, раскатисто смеялся и, чувствуя себя совершенно законно хозяином жизни, жил в полное своё удовольствие. Квартира что надо, собственная машина, пенсия предостаточная, к тому же в обществе охотников неплохо прирабатывал, – словом, в свои пятьдесят лет полковник был вполне обеспечен и доволен судьбой.
Не успел он войти к матери в комнату, как загремел своим мощным с хрипотцой басом.
– Ну, мать, что это с тобой, родная, – начал он и сгрёб в жёсткие ладони её высохшую руку. – Ну ничего, только без паники, мать. Наш генерал говаривал, что не пуля солдата убивает, а паника.
– Что же это такое… паника, сынок?
– Это, это… мама… страх!
– А я и не боюсь, сынок, – спокойно сказала старуха. – Всё в руках Божьих, от судьбы не уйдёшь.
– Ну вот, сказала! Всё в наших собственных руках, мать! – шумел полковник. – Я вот сам приведу к тебе самого что ни на есть наилучшего доктора!
– Спасибо, сынок, спасибо.
Старухина невестка, рослая, величавая, в три башкирских молодухи в обхвате, Мария Васильевна серьёзно, за обе руки поздоровалась со свекровью. Присела, придвинув стул к кровати и, желая, видимо, выразить больной сочувствие, глядела на неё с искренней жалостью. Марии Васильевне хотелось что-то сказать, заботливо спросить о чём-то эту желтолицую худую старуху, которая приходилась ей свекровью. Да не знала как: старуха не понимала по-русски, а невестка ни слова не знала по-башкирски. Всё же Мария Васильевна задала ей через мужа несколько вопросов.
– Мама, невестка твоя спрашивает, где болит.
Старуха грустно-задумчиво поглядела сперва на сына, потом на невестку.
– Задыхаюсь я, – сказала она, показывая на грудь. – И слабость какая-то.
– А давно это?
– Ещё с зимы. А слабость недавно.
Когда Суфиян перевёл слова старухи, Мария Васильевна многозначительно поджала губы и покачала головой. Потом неторопливо что-то сказала мужу.
– Мама, невестка твоя говорит, что не должно быть ничего опасного, видимо, с бронхами связано, пусть, не волнуется, говорит, – перевёл Суфиян.
Старуха ничего не ответила, лишь благодарно взглянула на невестку.
На следующий день старуху навестил старший сын Суфияна Геннадий. Недаром же Геннадий бывал в Юлкотлы, гостил там у своей бабушки, поэтому он, очень по-свойски воскликнув: «Здорово, бабка!», бойко поздоровался с ней и, взяв стул, подсел к кровати. Акэби, просияв от радости, сказала ему по-башкирски: «Пришёл, сыночек, спасибо тебе!», а парень, будто понял её, весело закивал. Этого большого рыжего парня, так непохожего на её породу, старуха любила от души. А что? Всё равно её потомок, её кровь!.. А кровь тянет, ничего уж тут не поделаешь!.. Но сам парень, понимал ли он, какая глубокая и мучительная любовь к нему жила в сердце его бабушки?.. Нет, всё же должен он чувствовать, пришёл же вот, улыбается, говорит ей что-то… Ах, как трудно без языка!.. Поздно уж старухе учиться чужому языку, ну а Суфиян, неужто он, негодник, не мог заставить детей выучить хотя бы несколько слов по-нашему, было бы им что сказать своей бабушке?!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































