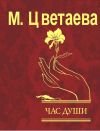Текст книги "Моя Сибирь (сборник)"

Автор книги: Анастасия Цветаева
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Автор думает: не являлась ли в душе этого своеобразного, одержимого страстью к колоколам музыканта тональность ми-бемоль воплощением женственности как гармоничности? По которой томилось его мужественное, живое сердце? Любопытно, что Лена Ми-бемоль, о которой мне говорила Юлечка (балерина Большого театра, упомянутая у него и до 1920 г., и в 1930), в сознании его затмила имена Тани и Марины…
Познакомилась я и с заявлением Сараджева в Антиквариат – учреждение при Наркомпросе, в чьем ведении находились уникальные предметы, в том числе и колокола, снятые с московских колоколен. Эти колокола, как известно читателю, заинтересовали Котика.
«Я,тов. Сараджев Конст. Конст. убедительнейше прошу обратить внимание на это мое показание:
Являясь работником по художественно-музыкально-научной части, притом композитором и специалистом по колокольно-музыкальной отрасли, я, как знаток всех колоколов, колоколен г. Москвы и ее окрестностей (374 колокольни), считаю своим величайшим долгом обратиться со своей весьма крупной просьбой в области колоколов, имеющей колоссальнейшую художественно-музыкальную ценность и притом же и научную, а именно:
Прошу иметь в виду такие-то 98 колоколов, находящихся на таких-то 20-ти колокольнях г. Москвы, перечисленных тут же; каждый из этих колоколов носит название номера, под каким находится он на данной колокольне. Здесь я указываю, на какой колокольне который именно колокол необходим мне. Примите тоже во внимание то, что сущность этих колоколов, в смысле их звучания, является крупнейшею, своеобразно-оригинальнейшею в области музыки, и как в науке о таковой, и как в искусстве, представляя из себя величайшую художественно-музыкально-научную ценность, они никак, ни под каким видом не должны быть подвержены уничтожению!
К. К. Сараджев».
(Следовало приложение: список 20 колоколен, каждая – с числом ее колоколов, с их названиями, общим числом 98.)
В это время Котик был занят вычерчиванием плана будущей звонницы. Над ним аккуратно, любовно, прилежным его полудетским почерком значилось:
«План Московской Художественно-музыкально-показательной концертной колокольни». Сбоку, в углу: «К. К Сараджев». За планом следовала «Схема расположения 26-ти колоколов полного музыкального подбора на Художественно-музыкальной концертной колокольне г. Москвы».
На схеме изображены мягкие связи межколокольных языков – в противоположность прежним связям, жестко державшим в одной общей связи несколько колоколов сразу, дававших один и тот же механически вызываемый аккорд. Новое устройство позволяет целым рядом изгибов вызвать удар отдельного, нужного колокола, создать необычный аккорд опытом игры и гибкостью пальцев Аккорды, постоянно изменяемые свободой этого переустройства, дают неслыханное до того звучание, создавая новую гармонию. Тогда как обычно звонари просто собирали колокольные веревки в один узел, повторяя церковный стандарт звона.
Новизной технологии К. Сараджева частично объясняется несравнимость впечатления от его игры, ее отличие от игры других. Мало того что природное мастерство отличало его от других звонарей, он сумел и саму технологию звона поставить на высшую ступень.
Узнаю: с симпатией к замыслу Котика отнеслись многие известные музыканты, написавшие письмо-ходатайство в Народный комиссариат по просвещению о предоставлении ему необходимых колоколов:
«Государственный Институт музыкальной науки, признавая художественную ценность концертного колокольного звона, воспроизводимого т. Сараджевым, единственным в СССР исполнителем и композитором в этой отрасли музыки, считает, что разрешение ему колокольного звона может быть дано лишь при условии устройства звонницы в одном из мест, не связанных с религиозным культом. Использование гармонии колоколов неоднократно имело место в истории развития музыкальной культуры. В Германии и Франции в 16 и 17 вв. мелодии колоколов сопровождали игру оркестров на широких народных городских празднествах – отнюдь не религиозного, а напротив того, чисто светского характера.
Константин Константинович Сараджев отдал этой задаче многие годы. За последнее время ему удалось своими скудными средствами улучшить и организовать клавиатуру для колоколов на одной из московских колоколен, но работе его препятствует: во-первых, недостаток нескольких колоколов, а во-вторых, зависимость от религиозной общины, являющейся хозяином колокольни.
Мы обращаемся с ходатайством о предоставлении К. К. Сараджеву необходимых ему колоколов определенного тембра из фонда снятых колоколов или с колоколен закрытых церковных зданий. Работа К. К. Сараджева представляет собою выдающийся интерес, т. к. она связана с писанием теоретического труда, имеющего общемузыкальное значение. Недостаток колоколов препятствует его капитальной экспериментальной показательной работе и останавливает его чрезвычайно интересный специальный труд (см. предшествующие работы Ванды Ландовской и Оловянишникова)».
Под письмом стоят подписи профессоров Московской консерватории и известных музыкантов – Р. Глиэра, Ан. Александрова, Г. Конюса, Н. Гарбузова, Н. Мясковского и других.
Записки Котика
Сохранились записи К. К. Сараджева о соответствии звука и цвета. Записей этих было много, с перечислением всех звуков октавы. Вот несколько образцов:
ми-мажор – ярко-голубой,
фа-мажор – ярко-желтый,
си-мажор – ярко-фиолетовый,
ми-минор – синий, серовато-темный,
фа-минор – темно-коричневый,
си-минор – темно-красно-оранжевый и т. д.
Этим вопросом занимались еще два выдающихся композитора – Н. А. Римский-Корсаков и А. Н. Скрябин, они также обладали цветовым слухом.
Скрябин в своей последней симфонической поэме «Прометей» мечтал применить согласованную с музыкой смену цветового освещения зала (что сейчас и делается с помощью созданной цвето-звуковой установки. —А.Ц.) Но не только это сближает Сараджева и Скрябина. Видимо, музыкальное мировоззрение Сараджева и Скрябина весьма близко: Скрябин не раз говорил о том, как тесно ему на рояле и как неточна здесь передача нужного звука. («Я чувствую, что должен здесь быть звук только чуть выше, чем нота, в другой раз чувствую, что звук должен быть лишь чуть-чуть ниже ноты…»)
И вот еще о близости К. К. Сараджева и А. Н. Скрябина: чрезвычайно интересовали Скрябина колокола; он много им отдал внимания и в 1913 году записал торжественный колокольный звон; запись, к сожалению, утеряна. Мне удалось достать через младшего брата Котика – Нила Константиновича Сараджева – нотный лист, надписанный рукою Котика. «Подбор индивидуальности колоколов церкви Марона в «Бабьем городке»:
«Основное сочетание «индувидуальности» Большого колокола церкви Богоявления в Елохове (Москва) (следует нотная запись). Должен сказать, что этот колокол имеет связь с некоторыми произведениями композитора А. Н. Скрябина, но разбираться в этом необходимо весьма тончайше…»
Вслед за этим Котик перечисляет множество произведений Скрябина, в которых он слышит отзвук колокольности. И чрезвычайно интересно, что в перечень вошли названия произведений от самых ранних, скромных, до самых сложных в гармоническом отношении: от 2-й «Мазурки», опуса 3, до поэмы «К пламени», написанной в 1914 году.
Я прочла записи моего звонаря после чьих-то о Котике слов: «Он, видимо, чужой музыки не воспринимал – и не знал?» И я так же думала! Но ведь Котик удивлял – неустанно!
Отношение Котика Сараджева к Скрябину, пристальное изучение им творчества старшего современника, произведшего в те годы целую революцию в музыке, освещает Котика с новой еще стороны: оказалось, что он не был равнодушен к чужому творчеству.
Прослушав единственно уцелевшую «гармонизацию» (на рояле) Котика, записанную им на нотной бумаге в его взрослые годы, композитор В. Серых сказала: «Полная отрешенность от чувственности в музыке. Созерцательность. Какая гармония!
Со Скрябиным если и можно найти сходство, то только внешнее. Нет обостренности, экзальтированности Скрябина. Чистая созерцательная сфера…»
Да, я работала как реаниматор.
Увы, собственные болезни начинали мешать мне: мне шел восемьдесят первый год.
Я вчитывалась в стертые, пожелтевшие листки, и они заражали меня энергией.
Сердце пылало по-новому. И виделась – впереди, в тумане еще, – новая книга о Котике Сараджеве, та, что я написала теперь.
В месяцы рождения новых страниц из когдатошнего «Звонаря» я глухо и трудно спрашивала себя: что же делал Котик в годы нашей долгой разлуки, в те годы, когда уже не было колокольного звона? И долго я не находила ответа. В 1975 году через музыканта Л. Уралову-Иванову я встретилась с родными Котика: братом Нилом, женой брата Галиной Борисовной (урожденной Филатовой) и сестрой моего героя Тамарой. От них узнала, что делал Котик в те поздние годы: он писал свою книгу «Музыка – Колокол».
Увы, семья жила в разных городах, Котик умер в Москве в 1942 году, а родные его жили в Ереване, где их отец, К. С. Сараджев, был назначен директором консерватории. Военные события, переезды… Старания брата и сестры сохранить книгу Котика не увенчались успехом. Книга, попавшая в руки чужих людей, не понимавших ее ценности, не сохранилась, но то, что удалось получить родным, они сберегли: разрозненные листы последней главы книги, отрывочные черновики заключительной главы, носившей название «Мое музыкальное мировоззрение». Эта драгоценность в моих руках, я ею и увенчаю конец моих страниц о нем.
Эпилог
Должно быть, в той комнате, в верхнем этаже консерватории, где Котик когда-то показал мне портрет матери, в тихий вечер, один, он писал за столом отца.
«Мое мировоззрение есть мой музыкальный взгляд на абсолютно все, что есть. Но надо прибавить, что я, глубоко признаться, вообще избегаю делиться с кем-либо областью моего мировоззрения – Музыкой, – которой предан я всем своим существом. Я пишу это слово с большой буквы, как имя собственное. Но, может быть, следует сказать еще об одном слове, имеющем громаднейшее значение в Музыке, а именно – «Тон». Это – далеко не то, что он в обычном его значении, тон с маленькой буквы. «Тон» в колокольной музыке не есть просто определенный звук, а как бы живое огненное ядро звука, содержащее в себе безграничную жизненную массу, определенную, основную симфоническую картину, так называемую «Тональную Гармонизацию». Но с кем мне говорить об этом? С кем из тех, кто – горько сказать – не слышит тех звучаний, которые я слышу? И это было долго глубочайшей моей тайной. Я сознаю и чувствую, что мировоззрение звуковое мое необходимо для музыкальной науки будущего. Но, к великому моему горю, я не вижу, чтобы кто-нибудь мог понять меня. Непонимание это основано на моем чрезвычайном музыкальном слухе, который я могу доказать только игрой на колоколах, что я и делаю, и люди идут, и слушают, и восхищаются – так она не похожа на обычный церковный звон. Но посвятить их в теорию моей музыки я не вижу возможности, потому что не встречал такого, как мой, слуха. Должно быть, только в Будущем (я пишу это слово тоже с большой буквы) у людей будет такой слух, как мой? А в непонимании меня окружающими дело, видимо, в том, что слишком рано явился человек такой, как я. Хотя, с другой стороны, на мой взгляд, никогда не бывает рано в области науки, а также искусства двигать их вперед! И не надо сожалеть о том, если наука или искусство, двигаясь вперед, принуждают нас отбросить в сторону все наши привычки, удобства. Надо подчиниться новому, Будущему, и идти по совершенно иному в Музыке, Музыке – Колоколе, открытому мною пути. Но с глубокой, тяжелой грустью мне видно, что Музыка не приобретет всего этого в настоящее время, достигнет его только в Будущем, и даже в далеком Будущем. Да, колокол представляет собой нечто совершенно новое и малопонятное. Если и найдутся лица, серьезно, искренне интересующиеся колокольной музыкой и относящиеся к ней, как к искусству, – то ведь оно еще почти не открыто!
Я же могу смело сказать, первый воспринял это искусство. До меня абсолютно никто другой не отдал все свои усилия и внимание колоколу, не воспринял его так, его живую, мощную, величественную красоту.
Музыка его как бесконечно прекрасна, так и неимоверно сложна, в высшей степени трудна, когда пытаешься ее объяснить. Но все изучение того, что входит сюда, в мое колокольное дело, все, что касается колокола, почему-то далось мне чрезвычайно легко, без малейшего затруднения. Записи мои ничего общего не имеют с нотной системой, хотя у меня и имеется запись колокольных звучаний индивидуальностей колоколов по пятилинейной нотной системе. Я написал их для воспроизведения на клавиатуре фортепиано…
…Имеется у меня еще другой список индивидуальностей колоколов, но только Больших. Всю сложность этих звуков и звуковых сочетаний я отчетливо слышу и различаю все их свойства. То, что называю чертеж «звукового дерева», – это изображение музыкального дерева со всеми его суками и ветвями, которые в свою очередь подразделяются. Этот чертеж одновременно является и нотами. Такого тончайшего различия в звуках нот нет ни на одном музыкальном инструменте – только на колоколах.
Возьмем фортепиано. Каждой клавише фортепиано соответствует известной высоты определенная нота. На клавишах по нотам мы и воспроизводим музыкальные произведения. Так же на других инструментах: смычковых, духовых, ударных. В колоколе перед нами имеется ряд музыкальных звуковых атмосфер, самых разнообразных, сложнейшей системы структур. Вполне логично назвать эту звуковую атмосферу «звуковым деревом». «Звуковое дерево» каждого колокола пишется в виде корня, ствола и кроны.
Колокольная музыка основана на всякого рода, вида, характера созвучиях различного тембра и звукового сплетения. Вызывая их, сила удара играет огромную роль. Если ударить не в один колокол, а сразу в два или в несколько, то он или они будут при своем звучании издавать еще иное звучание, чего не будет, если в них ударить в отдельности. И при каждом колоколе это «иное» издаваемое созвучие будет другое и не будет совпадением в силе удара, то есть не будет одинаковой степени силы ни в данном, ни в совместном колоколе. Если данный колокол не будет изменять степень силы удара, а совместный с ним будет изменять, а также если совместных – несколько, то тут то же самое произойдет, а именно – при каждом ударе данный колокол будет изменять свое добавочное звучание. Могу еще дать пример: всякая совместность колоколов во время удара издает «такое-то» созвучие «индивидуальностей», каждая из которых образует на себе «иное» созвучие. И все эти «индивидуальности» со своими «иными» созвучиями, соединяясь в одно целое, создают свою звуковую атмосферу «такой-то» «индивидуальности». Если эти же колокола данной совместности, кроме одного, дадут удары равной силы, а этот один даст удар не тот, но другой – т. е. изменит силу удара, то совокупность звуков так называемых «добавочных» индивидуальностей создает уже другую атмосферу. Малейшее изменение силы удара уже даст другой облик атмосфере совокупности колокольных звуков. Все они, имеющие каждая свой основной тон (следующие пять колоколов: «Успенский», самый большой колокол на колокольне Ивана Великого в Кремле, первый на храме Спасителя, первый на колокольне Троице-Сергиевской лавры, Симонова монастыря и Саввы Звенигородского) – записаны у меня в виде «звукового дерева».
С самого раннего детства я слишком сильно, остро воспринимал музыкальные произведения, сочетания тонов, порядки последовательностей этих сочетаний и гармонии. Я различал в природе значительно, несравненно больше звучаний, чем другие: как море сравнительно с несколькими каплями. Много больше, чем абсолютный слух слышит в обычной музыке! Предо мной, окружая меня, стояла колоссальнейшая масса тонов, поражая меня своею величественностью, и масса эта была центр звукового огненного ядра, выпускающего из себя во все стороны лучи звуков. Все это, иными словами, было как бы корень, имеющий над собой нечто вроде одноствольного древа, с пышной, широкой кроной, которая рождала из себя вновь и вновь массу звучания в разрастающемся порядке. И сила этих звучаний в их сложнейших сочетаниях не сравнима ни в какой мере ни с одним из инструментов – только колокол в своей звуковой атмосфере может выразить хотя бы часть величественности и мощи, которая будет доступна человеческому слуху в Будущем. Будет! Я в этом совершенно уверен. Только в нашем веке я одинок, потому что я слишком рано родился! Но там, в этом Далеком Будущем, которого я, может быть, не увижу, у меня много, подобных мне, друзей…»
На этом кончалась рукопись. Но я встала от нее полная сил: и все, что я написала после ее прочтения – ею питалось. Вдохновеньем ее, дыханьем!..
На ловца и зверь бежит. В моих руках новая, небольшая, плотная книжка (о, и по содержанию для меня – плотная!): «Загадки звучащего металла» Ю. В. Пухначева, издательство «Наука», 1974 год. Какая радость! Раскрываю – и погружаюсь в нее, как в прохладную реку в жаркий полуденный час: книга о колокольном звоне «История русских колоколов, их различные формы, разница техники колокольного звона в России и в других странах».
«Музыка выразит то, о чем не расскажет слово. А то, что не передаст своей песней ни один музыкальный инструмент, – донесет до сердца каждого колокольный звон».
Котик Сараджев не ошибся – уже настает то будущее, о котором он говорил тому назад полвека. Научное издательство издало эту книгу, потомки, внуки Котика, будут ее читать.
В магазине «Грампластинка» покупатели слушают «Ростовские звоны». Есть и другая пластинка – с колокольным звоном в Литве: «Колокола Каунасского музея». И очередь стоит к кассе. Значит, не случайно я в 1975 году села за письменный стол. Пришло время!
А когда я кончила писать все, что мне удалось вспомнить и собрать, я показала рукопись наивысшему авторитету в музыкальном мире – Д. Д. Шостаковичу. И вот его ответ:
«23 мая 1975 г. Репино
Многоуважаемая Анастасия Ивановна!
Вашу повесть я прочитал с большим интересом. Все, что касается музыки, написано вполне убедительно и не вызвало у меня никаких возражений.
С лучшими пожеланьями Д. Шостакович».
Смолкла жизнь звонаря, написавшего нам страницы о своем музыкальном мировоззрении. Смолк его колокольный звон. Но до сих пор еще живет молва: «Когда звонил Котик Сараджев, в ближайших домах открывались окна, люди бросали все и слушали, завороженные, – так он играл…»
1927–1976
Анастасия Цветаева
Моя Сибирь
Глава 1. Путь и первые дни на месте
Наш этап из Новосибирской тюрьмы был в день мокрый, июльский. У грузовиков опущен задний борт, но усталые люди не хотят ждать. Мужчины тащат вещи, лезут, становясь на колеса, огромные, серые, скользкие улитки, полувросшие в мокрую землю. Мы едем в ссылку «навечно».
Есть среди нас слабые, неумелые. Всем им, успевая туда и сюда, подает помощь худенькая, с проседью женщина: быстро и ловко втаскивает неловкую за руку, от другой принимает чемодан, тюк, успевая и пошутить, и ободрить, усадить, попросить подвинуться, – словно всю жизнь только то и делала. Что удивительно – в этот пасмурный час ее слушались. В каком-то быстром движении она повернула лицо – меня обдала синева ее глаз. В худобе лица они огромны и так добры, так улыбчивы, что меня осияло покоем: чудесна жизнь, если есть такие люди! Какая душевная воспитанность, какое самообладание!
Машины грузно, медленно движутся по дороге. Застряв, останавливаются. Женщин просят сойти; мужчины, все больше пожилые, дружно раскачивают кузов. Садимся. Путь продолжается. Идет дождь. Закутанные кто во что, радуемся, что не осень – не заболеем! Мысленно мы уже там, на месте назначения, в сибирском селе.
Грузовик, где сижу, везет бочку с бензином, она тяжело подрагивает на ухабах, рискуя краем попасть по ногам. Подобрав их, сунув вбок, напряженная, как струна, сижу на своем узле; пытаюсь увидеть окрестность – тщетно: дождевая завеса скрывает все.
Ехали уже третий день, когда в сгустившихся тучах – молния! Загрохотал гром. Дождя нет. Молния! Моментальным снимком! Взрезав мглу, ослепительно даря пейзаж. Мгла. Грохот! Гора грохота! Гроза в сухом небе – зловеща.
«А если молния ударит в бочку?» – молнией мысль.
Молния! Обвал грохота… Громовые удары рассыпают лавины грохотов. Молния! Гром. Град. Струи дождя. С неба – светлыми каплями – успокоение…
Спасенный бензин тяжело плещется в бочке. Привстав, усилием ступней сдвинув узел, блаженно сую ноги в другой бок, разогнув колени. Дождь стих. Привал.
Не в ту ли ночь мы заночевали в деревне? Без света и без еды – все доелось. Черную мокрую ночь трудно забыть. Но – прошла!
А наутро мир заново молод. Лезем в грузовики, как в родные дома. В тучах прорези синевы. Треть пути осталась? Еще как доедем!
– Знаете, как моя сестра написала, Марина? «Больше балласту – краше осанка!»
Отзыв соседки:
– Прекрасно сказано! – Она снова стоит, подавая руку влезающим.
В разрезы туч – лучи, и мы видим дорогу и короткую вереницу машин. Сибирская равнина расстелилась во все стороны, и мы отрезаем и отрезаем пространство, отбрасывая его назад. Четвертый день… Пятый день. Просят сойти.
Голос:
– Граждане! Остается двадцать километров. Почва болотиста. Ехать дальше нельзя. Вещи повезут. Кто в сапогах? Слабых повезут волами. Волы пройдут! Они вездеходы!
Я вызвалась идти. Меня не приняли: неподходящая обувь. Возраст был еще сходный: за пятьдесят.
Сижу с двумя старухами и стариком на длинных досках, прилаженных на поперечинах у колес (повозок несколько).
Волы, тяжело шлепая по глубокой грязи, пошли по вдруг далеко осветившейся равнине. Изредка появляются избы. Провиант, на дорогу выданный, рассчитанный дня на три пути, затянувшегося почти на пять, давно съеден, остается в хлебных мешочках несколько пригоршней крошек, осыпавшихся с крутого сибирского хлеба. Едим, понемногу насыпая в ладонь. Как вкусны!.. Но пить хочется! Решаем остановиться у первой избы по дороге – просить воды.
– Всем идти не надо, – говорит старик, – я пойду и кто хочет из вас; двое останутся; мы принесем, давайте нам кружки!
Идти вызвалась я. Подошли к маленькой бедной избушке. Навстречу – женщина в черном платке, глаза заплаканные.
– Дала б молочка, кабы было… Нету! А киселем овсяным угощу – что твой хлеб! По сыночку моему сороковой день справляю. – И нам – глиняную миску застывшего, почти твердого серого киселя, кислого и прохладного. Упоителен – никогда ничего вкуснее! На ладони по куску треугольному (как, бывало, торт); содержимое миски крест-накрест, и жуем, и сосем, и пьем несравненное угощение и питание – в память умершего сына.
И снова шагают волы, и мы подрагиваем от ритма их шага, как та бочка с бензином, – она уже прошлое наше, жизнь шагает вперед медленно, как волы, но мы духом не падаем. Мы – живы, и все впереди!
Вечером мы соединились со своими во дворе большого рубленого дома (школы). За поздним часом никто не поднял вопроса о еде – где взять ее сейчас? Только спать…
В просторных классах на соломе, сняв с себя полупросохшее, укутавшись кто чем мог, уснули сразу, как засыпают дети. Даже храп не мешал в ту ночь! Наутро – школьный двор, богатый высокими соснами. Зрелище невиданное: сосны, стоящие в воде. Местность болотистая. Ежегодно речка – приток Оби – под напором ее, разлившейся, заливает весь городок. А мы в ботинках и туфлях. И те, чьи близкие могли помочь, послали просьбу о денежной или вещевой помощи. Без сапог тут – никак. Я послала три телеграммы: сыну, родственнице и Борису Пастернаку, прося денег на сапоги. Получила триста рублей от родственницы и пятьсот[2]2
Дореформенных.
[Закрыть] от Бориса. Сына, как я позднее узнала, через несколько дней после моего отъезда перевели на Урал, на новое место, и я надолго лишилась его адреса.
В пути столкнулась с пожилой женщиной. Почти сдружились – так бывает в трудные часы. Тема нашей беседы была – томление ее среди людей другого душевного толка (ее соседок). «У них нет, как говорят по-немецки, Feintuhlung» (тонкости чувств)!» – сказала она мне. Потом мы встречались редко, занятые каждая своим.
Село Пихтовка (ставшее потом районным центром), окруженное кедрачом, пересекается узенькой речкой. Широкие сибирские улицы меж домов зажиточного типа.
Женщина, помогавшая нам в пути, Антонина Константиновна Топорнина, в прошлом – заведующая большой библиотекой, имевшая под началом не один десяток служащих. Тоня, моя новая подруга.
Что удивило нас – на плетне ночуют новые сапоги; на кол, точно на гвоздь в избе, вешают до утра ведро, алюминиевое. Как это так? Узнаем: глушь, некому снять. Замки? От кого? (Сказочный рай, что ли?)
– Скот загоняем в стайки только на зиму. От весны по позднюю осень скот у нас ходит на воле. Не было случая воровства. Сперва в колхозах работали, а потом домики себе наработали, новые улицы выстроились, все у каждого есть, чего воровать? Все друг друга знают, полжизни вместе прожили, чего это я пойду воровать? Чудно… – сказал нам один из тут живущих.
Мы с Тоней поселились в единственном нам предложенном жизнью – в спешке устройства приехавших – пятиметровом чуланчике в крестьянской избе. Ход из сеней. Печи не было.
– Печь? Да я вам такую сложу, кирпичную… – Веселый хозяин подмигнул нам, как сообщникам. – Сто рублей, по пятьдесят с души! Поселяйтесь!
Выбора не было. Поселились. Только позже поняли мы легкомыслие хозяина нашего: печь он сложил. Но – без поворотов… Тепло выдувало первым порывом ветра.
Обрадовались подполью, спустили туда купленные мешки картофеля. Увы, не знали мы ничего о завалинках. С первыми морозами застучали картошки наши – как камешки! Ели их, сладимые, скользкие, мягкие… мечтая о будущих участках, где разведем огород, – местное начальство предлагало по семьдесят пять рублей за двенадцать соток (семь пятьдесят). А пока не одни картошки, мы и сами начали замерзать – ночью, а днем – задыхались, толкая дверь нараспашку.
Вскоре Тоня нашла работу. На кирпичном заводе. Работу! То, без чего не могла она жить. И что сняло тревогу стать, хоть на время, нахлебником старшей сестры Капы, имевшей домик в Ташкенте. Не Капа будет слать помощь, а Тоня будет собирать ей посылочки! «Что?! Да хоть орехи кедровые!..»
Худенькое лицо бодро поднято. Синий огонь глаз. Тонкий, чуть длинный нос над улыбчивым умным ртом. Сколько отваги в ней, пожилой, и как скрывает она усталость лютую, приходя с далекой и трудной работы… Настоящая русская женщина!
Жизнь шла. Пока Тоня на работе, я топлю печь, варю еду, занимаюсь с хозяйским сыном Васей, школьником лет десяти. Добрый был мальчик! Очень любил животных. Но вот школу как-то не полюбил. Мать, худенькая, в работе не покладавшая рук, уже стареющая (кроме Васи вырастившая еще двух, взрослых уже, дочерей), качала головой, глядя на сына: и муж-то работник не ахти уж какой, и коль уж второй такой будет… За уроки Васе очень мне была благодарна, наливала мне молока.
Вася, глядя на меня бледноресничными, лукавыми, застенчивыми глазами, говорил просительно:
– Вы мне, бабушка, не объясняйте задачку, не надо! Вы говорите, что мне писать. Вы ведь знаете, а я-то ведь не знаю… (последние слова говорил без лукавства, от чистого сердца).
Отца же его мы поняли только, когда, празднуя свадьбу старшей своей дочки, выходившей за почтового работника, хворого, «но все-таки ведь мужика!» – плясал! Как плясал! Сколько плясал! А ведь лет-то много – за полсотни! Часами, без малейшей усталости! Он плясал, как резиновый мяч! Переплясал всех, кто пытался соперничать! Что – соперник! Он дорвался до пляски! Он праздновал! «Дочь выдаю!» Едва пригубив стакан. Что вино! Он был счастлив! В доме наконец пляска!
Мне работы не находилось: возраст и болезнь глаз, ни жары, ни наклона, ни тяжестей. Слали помощь, как только узнали мой адрес, сын с невесткой. Купленные на 293 рубля сапоги оказались отличные, яловые, ходила с сухими ногами. Тонины, увы, протекали.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?