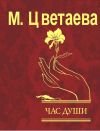Текст книги "Моя Сибирь (сборник)"

Автор книги: Анастасия Цветаева
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2. Зима. Пес
Помню день.
Как вчера и завтра, на холме у стройки сую стружки в мешок. Когда попадаются щепки, обрубки – счастливый день. Нынче стружки занесло бураном, и откапывать их холодно так, что пальцы в перчатках, закоченев, еле ворочаются. Уйти – жаль, куски коры меж сырых дров так помогают жить!
Хороводы стружек, слегка слипшихся от морозного снега, почти звенят, как металлические венки на могилах.
Вдруг, меня завидя, копающуюся в древесном мусоре, мимо бегущий пес, изменив курс, понурой замерзшей побежкой стал приближаться ко мне. Черный с желтым, большой, останавливается, замирает. Замираю и я. Боимся друг друга. Какой худой… Улыбаюсь, протягивая руку, зову. Не верит: исповедует превыше всего – осторожность. Какие там ласка и дружба, когда такой холод, такие ребра! Я отвожу глаза, стою. Он начинает красться к разрытому мной холмику стружек.
Почти рядом. Вижу шерсть в инее, впалые щеки, седые усы, нескончаемо несчастное выражение этих щек, обмерзшей морды, вздрагивающих бровей над глазами, почти человеческими от тоски. Хочется псу есть!
Поборов страх, роется в стружках, мне подражая: раз человек роется, значит, есть в чем рыться!
Нюхает еще и еще, огорчается на обманутые надежды, на тщетную трату сил.
Нечего псу дать! Хоть бы корку хлеба с собой захватила, дома же было немного хлеба…
И не взглянет! Уйдет от меня голодный, и навек потащу в памяти эту заиндевевшую горькую морду.
Но он поднял нос и черную с желтым лапу: лапа дрожала. И подслеповато, пристально, тупо посмотрел мне в глаза. Разве этот взгляд позабудешь?
«Что же ты роешься тут? Дразнишь? В холодном, мертвом, постылом… Эх, а еще – человек!»
И мне нечего тебе, пес, ответить. Донабрав мешок, взгрузив его на плечи, я как-нибудь его дотащу домой, у меня есть кусок хлеба, суп и картошка. Я растоплю стружками печь, и все мое оправдание – что буду тебя помнить, которого не смогла туда привести, потому что ты никому не веришь и за мной не пойдешь.
Ухо пса дрогнуло, подслеповатые глаза отвернулись – и пошел назад, к тропинке, коей бежал, и прочь по тропинке, понурой промерзшей побежкой, продолжал прерванный путь.
Когда настала зима, то в мороз на мешке сена, лежавшем на полу между нашими топчанами, было до 5° мороза, а под потолком у печной трубы 25 и больше – тепла, даже до 30. Живем в валенках. Дверь в ответ на вечерний стук Тонин я отбиваю, как молотком, поленом. В другие вечера, сырые, дверь разбухает – прикручиваю ее с трудом веревкой к крюку, а широкую щель, оставшуюся, напихиваю половыми тряпками, сеном.
Ели мороженую картошку, испускавшую противный сок. Как мечтали мы о своем огороде! О своей, вкусной и всласть, картошке!
Но решение изменить жизнь пришло после того, когда в зимний буран хозяин распахнул к нам дверь: «Антонина! Анастасия! Придется вам куда-нито перебраться! Надумал я дом продавать!»
Столько торжества было в его заявлении, что не поднялись наши голоса спорить, негодовать. Он сиял! И что было бы дальше, если бы вдруг не спасла нас хозяйка: тихая, кроткая, она вдруг воспротивилась и не дала согласия на продажу! Что говорилось и творилось в их избе – не узнали мы. Но когда наутро зашел хозяин к нам в час замерзания, то с таким же рвением, как было собрался дом продавать, сказал:
– Ага, чую, холодно! И будет вам тепло, не обидитесь! Завалю я вас сеном снаружи! Ага! Стены вам из сена построю! Жердями привалю – и свяжу! И будет вам, Антонине, Анастасии, жарко!
И – завалил, привалил, связал. Но с этого вечера началась моя мука – опасность пожара: Тоня, придя с работы, усталая, поев, ложилась и брала книгу: «Не могу без чтенья!» Но тепло, после холода пешего пути – размаривало, и, почитав, она засыпала, не в силах потушить лампу. Я проснулась в критический миг: наклонившееся ламповое стекло по наклону чернело длинным треугольником сажи, огонь зловеще мигал. Рука Тони, спящей, роняющей книгу, застыла сонно в вершке от наклонившегося лампового стекла. Еще миг… Вскочив, потушив лампу, я отставляла ее, обжигаясь, – жестяную, горячую деревенскую лампочку. И, боюсь, разбудила, жестокая, бедную Тоню, стараясь ей, сонной, внушить страх пожара: «Вокруг нас – стог сена! Мы запылаем вмиг! Дом сгорит!» Она понимала, но на другой день, ложась, брала книгу, уверяла: «Я не засну». И иногда засыпала! И вскоре, поняв, что не читать она, после дня работы, не может, что книга для Тони – страсть, я смирилась, хоть и не смиренно. И выдумала себе – на опасные эти часы – дело: сторожа лампу, я не давала себе заснуть, устно переводя на русский и заучивая свою поэму, английскую, написанную двенадцать лет до этого на Дальнем Востоке («Близнецы» – о Джозефе Конраде и Александре Грине). Переводила медленно и упорно, увлеклась, – обе части! Когда я ее кончила, настала весна и хозяин убрал сено, а у меня был готов перевод. Я повторяла его лучшие строфы. И как наш хозяин, на свадьбе пляша, переплясал всех, так, переведя свою английскую поэму на русский, я продолжила на русском – новое и теперь кончала переводить стихом новый конец с русского на английский.
Глава 3. Спутники
…О жизни Тони – что я знала теперь? Их было четыре сестры в дружной, хорошей семье; все как сколок с одного образца красоты, синеглазые, с правильными чертами, друг к другу очень привязанные.
Когда Тоне было пять лет, семью постигло несчастье: в пожаре, охватившем волжский городок Сызрань, сгорел отец. Они жили близ женского монастыря. В панике, охватившей жителей, монашенки закрыли ворота, всегда открытые. Пламя уже, видимо, бушевало, когда, кто-то видел, отец попытался перелезть через них. Его узнали только по часам. Матери и старших дочерей не было дома. Тоню вывел из огня седенький старичок, свел ее за руку к Волге, поставил у моста и сказал ласково:
– Стой здесь, не уходи никуда. За тобой придет мама!
И как-то необъяснимо исчез. Мать пришла, увела дочку. Рассказ о седеньком старичке, сказочном, жил до сих пор в семье.
Старшая дочь была Капа. Вторая за нею, Павла, умерла взрослой внезапно, оставив маленького сына. Его воспитала Капа, бывшая замужем за композитором, детей не имевшая. Сестра Люда, очень больная, живет с семьей в Ташкенте.
О муже своем Тоня говорить не любила. Она много из-за него страдала, была горечь в ее молчании о нем.
Осенью труден был путь на кирпичный завод по болотистой местности. Тонино испытание теперь было легче: небо послало жаркое лето, грязь дорог высыхала. Тоня шла кедрачом, местами пополам с ельником, и, стихийно любя природу, радовалась.
И была еще радость – общение с людьми, нежданные знакомства, от которых – взаимным сочувствием – согревалась душа.
С нами приехавший старик инженер Яков Иванович, бодрый и бравый, полный, высокий, с чем-то детским в доброжелательности к каждому, не очень-то разобравшись в дорожном спутнике, тоже инженере, купил с ним пополам большую, очень старую избу, вскоре потребовавшую ремонта. Денег не было. Начались споры. Прямой и в этой прямоте вспыльчивый, Яков Иванович не стерпел несправедливых упреков и недобросовестных материальных счетов, выразил это пайщику, произошла ссора, дом продали за гроши – и расстались. Вместо веселого приюта собственных стен, куда он даже пригласил нас с Тоней в гости, радостно угостил немыслимым овощным ужином, он теперь жил на квартире и по-детски, обижаемый суровой сибирской хозяйкой, не дававшей старику ступить, жаловался нам на нее. Мы как могли утешали.
В сельской амбулатории устроилась лаборанткой милейшая, еще молодая, женщина, ленинградка, Дора Исаковна Тимофеева. Она никогда не рассказывала о себе, как делает большинство, но степень ее стремления помочь каждому была редкая. Всегда внимательная, в работе усердная, ровная в обращении, она исполняла просьбы пациентов с такой веселой добротой и терпением, точно дала себе слово: не обидеть, не отказать. Не поясняя затруднительности иных просьб, она находила возможность их исполнить с простотой грациозной, деловой и естественной. Знала ли она, что о ней говорят, что она во время ленинградской блокады (а кто говорил, на фронте) потеряла всю свою семью – детей и мужа? Был ли этот слух правдой?
Открытое большое лобовое лицо этой невысокой мужественной женщины как-то не позволяло вопроса. Отстранила ли бы она его, вскрыв незнакомую людям в ней гордость, или это была неспособность ее существа участвовать в бесплодной к ней жалости? Мне думается, этой ошибки не сделал никто.
Была среди нас пожилая полька, актриса, следы красоты которой еще пылали в тонкости очертаний лица, словно со старинного портрета сошедшего, в великолепных глазах свинцового цвета, с тяжелыми веками; был тонок очерк ноздрей, и был пушок над губой. Хотелось бы знать ее роли… Но тяжелые годы, переживаемые страной, как-то замыкали уста. О ролях ли было теперь ей, пожилой, с уже надорванным здоровьем, в глуши думать, когда дело шло о любой работе для пропитания? Мы молча улыбались друг другу.
Была в селе высокая, полная, некрасивая старуха, чем и как до того жившая, не ясно. В розовом ее лице, некоторой слащавости обращения и в охотном рассказывании об обеспеченных детстве и юности, в блистанье среди ее родичей громких имен было что-то не совсем достоверное, что заставляло задумываться. Однако двух девушек, из которых одна была певицей, другая – студентка Светлана, болезненного вида, прозрачной и запоминающейся красоты, вышеописанная старуха (звали ее Таисия Еремеевна), взяв под свои материнские крылья, вместе с ними купила большую, обстоятельную избу, вела хозяйство, вкусно кормила своих названых работавших дочек. Певица устроилась в местном клубе, Светлана работала в артели, усердно и через силу – надо было где-то там, в огромном нашем Союзе, поддерживать мать, от нее событиями оторванную. Будто вчерa – а прошло много больше четверти века – вижу худенькое остроносое личико, правильные черты, ясные, яркие голубые глаза – и улыбку.
И было две очень пожилых сестры, по фамилии известного немецкого сказочника, уютные и жизнеспособные, деятельные с утра и до ночи, не доступные ни жалобам, ни мечтам, женщины-пчелы. Одолев покупку скромного домика, они уже возделали огород, превосходно, умело. Все навыки предков отражались в их дне. Не пропадал ни один час. Справляясь с трудом, получив сытость, они угощали зашедшего аккуратно и приветливо. Была вокруг них отменная чистота. Не в том году, а много поздней, когда жизнь где-то там наставала уже «приличная», получив в осенней посылке несколько апельсинов, сестры, поблагодарив щедрых племяшей, попросили их более не повторять этого; апельсины – съедать, а им слать апельсиновую кожуру: ее, высушив, истолкли в не без труда приобретенной ступке и понесли на рынок в бумажных пакетиках – для запаха сыпать в тесто. Люди, в годы войны нацело забывшие запахи теста, расхватывали волшебные пакетики, пахнувшие елкой и детством, а волшебные старушки вернулись домой с деньгами. О возможности продолжать такое они и просили родных.
…Неужели было время, когда в селе не было этих старушек-сестер? О, как же! Таких друг к другу заботливых, таких дружных – точно прочтенных в хрестоматии…
Сергей Тихонович Юров! Кто не знает его в селе? Пожилой актер. О чем бы ни говорил он – непременно вернется к театру, ибо любит его всем существом. Когда-то красивый, воспитанный, он подчеркнуто, убежденно настаивает на соблюдении этикета, он ему свойствен, как воздух – дыханию. Не найдя себе подходящего занятия в селе – люди его профессии уже заняли места в клубе, – он пошел работать возчиком. Трудно ли ему было привыкнуть к коню и телеге, к коню и саням – он о том не ведет речь. После работы он заходит в столовую, съедает то, что ему по средствам, и, переодевшись, идет в гости. Друзей у него – все! Чуть уже начал горбиться Юров, и волос редеет, но все так же оживлен он в беседе, так же изыскан в суждениях. И когда он входит, за ним – партер и кулисы, зрители, аплодисменты – и сибирская деревня тает как сон… По рекомендации Якова Ивановича у меня, как опытного преподавателя английского языка, начал брать уроки его сожитель. Уговорились о цене – 5 рублей. Мне был малосимпатичен мой ученик – холеный самодовольный человек с седеющей раздвоенной бородкой, – но возможность заработать (на хлеб!) была радостна. Я ходила к нему (это было еще в пору сожительства его с Яковом Ивановичем), путь был неблизок, урок приходилось вести не по верному методу, потому что ученик мой уже занимался ранее, в мою дисциплину приготовления уроков не включался, «рассуждал», спорил, заданий не выполнял. Вскоре я не застала его дома, затем он сказал мне, что ему некогда (не работая!), а долг свой (кажется, за всего три двухчасовых урока) обещал уплатить вскоре. Ученик-инженер не уплатил мне денег, хотя элегантно кланялся при встрече. Его теперь нет на свете, и я бы не писала об этом, не возмутись его поступком стыдивший его Яков Иванович – прямая, благородная душа. Произошла между ними ссора. Яков Иванович назвал поступок нечестным. Когда годы спустя стали из села разъезжаться, я встретила на почте моего ученика. Он считал новенькие полученные им ассигнации, шелестя ими у меня на глазах (отдаст?). Он не отдал. Да простится ему этот долг…
Глава 4. Бобка и Барбос
Наш Бобка – собственность хозяйского зятя – черный большой пес. Породистый, гладкошерстный. С хозяином своим ходит на уток – ученый. А веселится, точно щенок. Ценное качество!
Приходя к нам, превращая наш быт в праздник, врывается Бобка – всегда нежданно, с таким запасом эфемерных нежностей, что вся грусть и усталость дня свивается в пылающее колечко, как кусок березовой коры, брошенной в печь. И окно нашего чулана становится окном замка, который звался Детство.
(С первых лет жизни Бобка, прыгнув в сердце, свил там себе гнездо – по гроб жизни.)
Послевоенные годы, разлуки.
Но стоит черному носу просунуться в щелку, лапе ударить дверь, как радуюсь! И пес это знает! На мои ласки – даже свистит от нежности! Тонко… И вьется всем своим черным телом, и отворачивает в смущении глаза.
Вчера, не видя, я прищемила его морду хозяйской дверью. Он ужасно, по нечеловеческой искренности, взвыл, но, очутясь в моей охапке (испуганной и раскаянной), втащенный в нашу каморку, Бобка, все еще дрожа крупной дрожью от боли, уже облизывая меня, бегло, стыдливо, отрывисто, за силу моего не человеческого, собачьего же сочувствия, явно смирял вой (дрожь – не мог!) и вежливо, душевно-грациозно (так бесконечно выше человеческой воспитанности) выражал полноту своего прощенья, радованье моей виноватой, просящей о мире ласке, утешался всласть, мотал еще страдающей от ушиба мордой.
Боль проходила. Он уже и телом (не одной сердечной эмоцией) оживал: хлопал, точно мух ловил, разинутой пастью (алый язык изгибался, как острие пламени) и, как в детстве, у самого моего лица темнел ряд зубцов, так тогда меня занимавших – собачьих десен, – и белки глаз, которые он, прыгая, закатывал (в игре, грызне, притворно сердитом рычанье, точно отдельно двигались от коричневой радужной оболочки), сверкали знакомым в детских играх с щенятами голубоватым уголком с коричневыми жилками. И вдруг в этом богатстве вспыхивал зелено-золотой блеск, на миг, фосфорящимся кружком, волчьим. А шерсть под моей рукой – это тоже так в детстве интересовало, прожило со мной и вот и к старости тут – ходила как отдельно надетая.
Ох, хорошо жить на свете!.. Чувство счастья. Нахожденье у самых истоков всего! Каждый раз как вижу собак и кошек.
Но нынче Бобка почему-то не лаял у моей двери, давая знать, что пришел от хозяйского зятя (молодого почтового служащего, худого, умного, талантливого, ядовитого, подчас – горького пьяницы). Издали, по пути в снежно-сенную развалюху (уборную), вижу Бобку – сидит, привалясь к шалашу, горб к горбу – и не верю глазам: не трогается с места, когда я почти подошла: голова опущена (я – в очках, вижу ясно), глаза Бобки смотрят в сторону, на морде – глубочайшее уныние.
Побили? Прогнали? Классическая поза обиженности…
– Бобка! Бобинька! В чем дело?
Рушусь в снег, на колени, даром что ревматизм, обнимаю, треплю, шепчу, бужу к жизни…
Мурчанье, скачок, взвизг – и пошел – лапами, головой, разинутой в игре пастью! Какая краткость превращения! Какая искренность! Какая нечеловеческая благодарность!
Увлекаемая его прыжками и увлекая его, с разбегу, как полвека назад, вместе в копну сена, в морозный благоухающий хруст.
– Лапу, Бобка! Как думаешь, еще поживем на свете?
А через несколько домов от нас у чинных бездетных хозяев жил тоже чинный, огромный, черный кудряво-лохматый Барбос. Нашей первой встречи не помню, но со второй он стал аккуратно каждый раз выходить на дорогу, как только я показывалась на улице, спокойно тереться о меня кудлатой головой, великолепной, и пускался в путь, точно это был его долг – провожать меня до села.
Мы шли и говорили друг другу ласковые слова и урчанья, и было нам тепло и благодарно вдвоем. Он встречал меня на каждом моем обратном пути, и шли назад – до какого-то, ему понятного, места, где он останавливался, с минуту стоял, глядя мне вслед, добро маша хвостом, затем шел в свой дом. Но однажды навстречу мне из наших ворот прыжками помчался Бобка, еще издалека зарычал в сторону Барбоса и, подлетев к самому моему лицу, повернув, побежал назад со мной, как со своей собственностью. Я оглянулась на Барбоса – он стоял на дороге, грустно смотрел вслед. Увидев, что гляжу, он махнул хвостом – покорно признав право Бобки считать меня своей.
С того дня он стал покидать меня раньше – останавливался, глядел в сторону моего и Бобкиногожилья, лизал мне, прощаясь, руки и шел назад.
Помню еще раз, как я вышла из дому идти в село, а Бобка бросился ко мне – бурно здороваться; отмахиваясь от него и шутя с ним, я шла к воротам. Кинув взгляд на дорогу, я увидела Барбоса. Он не заметил Бобки (тот отбежал в игре) и степенно и радостно пошел ко мне навстречу. В этот миг Бобка подскочил ко мне в своем яром танце. Барбос стал посреди улицы и смотрел на Бобку. Затем повернулся и пошел прочь.
Так мы жили, пока не пришел конец.
Он пришел почти одновременно Барбосу и Бобке, и по той же самой горькой причине: парнишки убили того и другого. Бобку – за черный блеск его густой шерсти. Барбоса – за кудрявый, черней черного его мех. За красу, ими не знаемую, у них отняли их верное и веселое собачье сердце, которым они хотели служить (и радовать его) человеку.
Глава 5. Весна. Тега
После тяжелых буранов, заносов, лютых морозных ночей (зима сибирская кажется непомерно долга жившему лишь в Средней России) весна наступила столь же невинно и всепокоряюще, как в первый раз на земле! Ручьи вдоль домов текли точно так же, ломая ледок ночных речек, как в Трехпрудном, в Москве, когда мы выбегали во двор, где таял каток, и, обегая мостки, топтали льдинки; в прошлогодних калошах после ботиков, валенок, медвежести зимних прогулок! По предсказаньям сибиряков, наводнения не будет или совсем маленькое, не увидим села, залитого поднявшейся речкой, несущей кусты и обломки, не вспомним страшных с детства картин «Медного всадника»! С тем большим жаром я принялась за приготовления к огороду: запись на участок, раздобыванье тяпки, лопаты – бедненького скарба новичка, впервые берущегося за землю.
Говорили: предложат участки на выселках, по 12 соток – жить огородом. С тем условием, чтобы мы строили свою улицу. Земельный техник отмерит нам землю на возвышенном месте, сюда вода не дойдет, во всяком случае (избы села в наводнение – под водой).
Тоня решилась строиться: она уплатила 76 рублей за лес, торговалась с запрашивающими дорого за вывозку его с далеких делянок (по густой и мокрой тайге). Я на стройку не решалась. С помощью дорожного спутника, плотника, я нашла конюшенку с узким окошком и негодной дверью, поверила расчету и обещаньям будущего соседа, плотника, мне разобранную конюшенку поставить и достроить на новом участке быстро и дешево – и купила ее, не решаясь торговаться, за тысячу – теперешних сто – рублей. Надо мной потом смеялись – более пятисот – семисот никто бы не дал. Деньги были скоплены из денежных присылок сына и Бориса Пастернака. Платила по частям, урезав себя во всем – хлебе и молоке: хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года. Предстояла закупка оконных переплетов и стекол, дверной коробки и двери, плах на пол, – каждая присылка денег из дому, вместо еды, будет кормить меня всем деревянным; зато росла непомерная радость одолеть свой уголок, за который не надо платить месяц за месяцем… Почем знать, сколько тут проживешь, самое выгодное и разумное – огород со своим жильем.
Страх когда-нибудь не получить денег из дому и не иметь, чем уплатить хозяину за угол, делал все лишения в еде легко приемлемыми. Сжать себя во всем (лишь был бы кипяток и картошка) – не вопрос. Но вопрос безответный – что делать, если хозяин откажет: выбираться. Куда? Свой угол стал всем нам – неизбежным.
Маленький, разительно меньше братьев гусей – с ними не пасется, живет во дворе, в сенях. Конец лета. Он так свыкся с людьми, что ходит за ними, как пес. Он стоит, поджав ногу (болит?), и умным, ласковым, голубым глазком смотрит, как бабушка у крыльца, на ходу у всех, никого – от старости – не замечая, чистит тупым ножом картошку в большой, весь в саже, котел. Трудно чистить тупым ножом, и Тега сочувствует. Так внимательно и настойчиво приглядываясь и прижимаясь к людской жизни, нельзя не понять ее наконец. И он что-то говорит, всегда разное, хоть и сходное на человеческий взгляд, потому что гусиное. Но ведь и люди тоже говорят разное, а монотонное – на слух гуся. И бабка, похожая на корешок женьшеня, тоже сочувствуя и понимая, по-своему, по-старухиному, ласкает его: «тига-тига» – и угощает горохом, сладок нынче горох, лето-то благодатное… И гусь вежливо ест угощение. Так всегда все, что ему дают, Тега аккуратно и благодарно съедает и аккуратно раскладывает по сенцам, ступенькам крыльца и тропинке маленькие жидкие лужи. Эти лужицы так же мало похожи на гусиный помет, как Тега на своих братьев-красавцев. И все-таки Тега растет, хоть и болеет, и хозяйка (дочь бабки, мать Васи) кормит его, надеясь подкрепить, но замечать ей его некогда в суете хозяйства, и друзей у него в шумном доме двое: бабушка да я.
Правда, что его, как и всех животных, жалеет так же, как я, еще Тоня, но она весь день на кирпичном заводе, приходит, когда гусь спит; она топит печь, ест и полночи читает. Лишь в выходной она общается с Тегой. И всю неделю мы с Тегой скучаем по ней.
– Когда же придет наша Тоня? – говорю я ему, присев, усталая, на пороге, и гусь смотрит мне в глаза немигающим умным глазком – понимает.
Тега ходит ко мне в гости. Я открываю дверь в сени, и он неуклюже, боком, преодолевая испуг перед высоким порогом, прыгает тогда, жалко взмахнув крыльями, и оттуда, вновь преодолев страх, храбро сваливается в глубину каморки.
Я сыплю ему крошек и корочек, он ест жадно и очень быстро и явно просит еще. Но убирать за ним в моей тесноте маленьким веником мне трудно. В сенях я часто мету за ним длинной хозяйской метлой, чтоб не раздражался хозяин, все грозящий, что прирежет его: толстеть не толстеет, а пакостит на самой дороге. Но хозяйка хочет добиться толку – отстаивает. А я малодушно стараюсь не быть уж очень гостеприимной, чтоб поменьше убирать у себя луж.
Однажды, спеша, в пылу дня, когда не по пути мне было с ним, с его гусиной приветливостью, я даже бесцеремонно перевалила его назад через порог – воспользовалась своей привилегией человека над птицей. Тега так испугался – нежданности, что перекувырнулся, и когда я его, стыдясь и жалея, взяла на руки, он весь дрожал и отчаянно рвался прочь…
Дни шли. Я так свыклась с близостью Теги, что почти скучала, когда его долго не видела. Равнодушно глядя на больших шумных ширококрылых гусей – ими полно все село, я беседовала с Тетиным голубым глазком (Тега как-то всегда был в профиль). В его робкой инвалидности жило родное. И было еще в нем что-то от собаки (от кота?) – он так лип к людям, маленький, «почти человечек», он все делал попытки войти в избу, домой (у меня он был только в гостях), он стремился за бабушкой, но бабушка сама жила как бы в гостях у зятя, как и Тега, стыдясь своей слишком малой полезности; в избе она была немногим более дома, чем Тега, и не решалась его впускать.
И была в Теге – тлела? – застенчивость, что он не такой, как надо, что все гонят его; мне кажется, он понимал и про лужи: он так стыдливо отходил от них в сторону, точно извинялся, что еще одну сделал. Смоги он – он бы их подтирал, выметал, мне кажется.
И все-таки во всем его поведении возле людей, настойчиво-ласковом, но не назойливом, он хранил свое маленькое гусиное достоинство. И порой – но это уж явно мерещилось, – порой мне казалось, что в этом синем глазочке живет что-то большее: тихое чувство юмора над своей (андерсеновской ли?) судьбой. Он так терпеливо переступал с одной, слабой, должно быть, ноги на другую, стоя возле бабушки на крыльце, и так услужливо, спешно уступал дорогу хозяйке, ее мужу Васе (впрочем, никогда Тегу не гнавшему), удаляясь тотчас же (как нелюбимый ребенок) в бороздку меж унавоженных высоких гряд огурцов, почти скрывавших его.
Тега стоял и смотрел в мою комнату, голову набок, ждал своих крошек. Он, наверное, был благодарен мне, что убеждаю бабушку не кормить его, больного, горохом (который он из благодарности безропотно ел). У меня для него была отложена корочка, но на сковороде подгорала картошка, было некогда корку ему крошить. У Теги же было время. И Тега ждал вежливо.
– У-у, гадина! – крикнул привычно хозяин, круглолицый, синеглазый (так бесподобно плясавший!), идя с топором и пилой чинить на реке мост. – Опять нагадил! Отрублю ему завтра голову!
– Голову! Теге! Такую чудную голову! – пошутила я мирно на его словесный воинственный пыл и «хозяйственно»-примирительно: – Да он осенью тех перегонит!..
Тега исчез; смотрел ли он на бабушкины корешки-руки, полющие за домом ее вековечную картошку, слушая ее «тига-тига», или скрылся под лопухи, я не видела: я стояла у плиты, мешая картошку.
– Вот, – сказал голос хозяйки. Она смеялась и совала мне через порог корзину.
– Это что? – удивилась я.
– Да гусь! Не признали? Тегу-то вашего! Хозяин его порешил!
– Что-о?? Да не может быть!.. Тега? Только что тут стоял…
Чем-то смущенная женщина наклонила корзинку: грязно-белое, безголовое, маленькое, на подогнутом крыле.
Без крика! Молча глотнул так неожиданно предельную обесчещенность. Совершенно недвижно, точно уже сто лет так лежит… Сбоку, как ненужная мелочь, у хвоста, валялась длинная белая трубка с кровавым пучком перышек, и из него, страшная своей выдернутостью, – вялая длинная жила. Горько сомкнут был не поверивший – быть может, и в тот миг – гусиный младенческий профиль. Закрыт и кругом красен был голубой глаз.
Зрелище длилось мгновенье и, исчезнув – корзину уже уносили, переселилось навеки в меня.
– К обеду изжарим! – точно опомнясь, крикнула хозяйка, уходя с добычей в избу.
Я стояла, смиряя дрожь. Какая-то моя жила билась во мне: что я сделала? Пошутила в ответ на угрозу поднятого над шеей топора! Не поверила! Не побеспокоилась даже сказать: «Я вам заплачу за него. Продайте! Он же маленький, недорогой…
Пусть считается – мой, может, ему судьба – выжить…» Ведь могла так сказать! Не пришло в голову! (Теперь – пришло!) Спрекраснодушничала! Много, мол, раз говорил так… Точно это «много раз» страховало от того одного раза, который мог только раз быть…
Нет Теги! Повела глазами по комнате. Лежит корочка, как лежала пять минут тому назад, когда ее ждал Тега. Некогда было скормить!.. Когда же, когда же придет Тоня?
За дверью, все еще раскрытой, как при Теге, мелькнула бабушка. Я было кинулась навстречу, но за ней шла дочь – хозяйка, и я увидела, что у бабушки дрожит подбородок. Проходя, хозяйка сказала мне спешно, как все, что делала: «Не хочет хозяин держать бабушку, пожила у дочери, говорит, – будет! К сыну ее отправлять налаживает… А там сноха – у-у…»
Темной рукой застится от солнца хозяйка; светлые огорченные глаза из-под щитка руки смотрят вдаль.
В обед пришли гуси, наполнив гоготом двор. Мычит коровья морда – черная с белым Розка просит пойла. Нет Теги…
Когда же Тоня придет? В тот миг, когда завижу ее, я смогу немного вздохнуть. В ее усталых, добрых, синих глазах, в начинающих седеть волосах мне сейчас роздых от горя!
Эту главу написав, я послала Борису (Б. Л. Пастернаку). Жаль, не сохранилось его письмо о Теге. О том, как он принял его. И как удивился и огорчился, что я не откупила его, убитого, у хозяев и не похоронила, а позволила съесть. Он был уверен, что вот сейчас (конец главы) я это сделаю… Я читала и огорчалась тоже. Я старалась понять, почему я этого не… Вспоминала: я была сама как-то полуубита смертью Теги. Зароют его или съедят – мне как-то было все равно, должно быть, в тот час… Я жизни хотела его! Должно быть, для замысла Бориса надо было больше, чем у меня было, энергии, которая была у Бориса и которой у меня не было… Я понимала только одно: нет Теги!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?